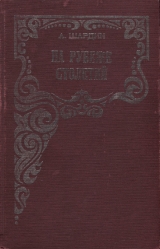
Текст книги "На рубеже столетий"
Автор книги: Петр Сухонин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
Глава 2. У себя
Но как попал сюда Чесменский? Он был взят, как читатели помнят, на месте дуэли своей с Гагариным, вместе с их секундантами.
Рылеев, забрав всех, в буквальное исполнение воли государыни, развез их по разным гауптвахтам. Гагарина отвез в арестантские при обер-полицмейстерском доме, а Чесменского, как главного виновника, о котором государыня выразилась: "нужно дурь выбить, пыл остудить", – решил отвезти к генерал-губернатору. Там потачки не дадут, говорил себе Рылеев – пыл остудят и дурь выбьют! Правда, арестантские при генерал-губернаторском доме устроены для самых важных преступников, виновных в оскорблении величества. и в преступлениях против первых трех пунктов, которые, по регламенту Петра Великого, нещадно живота лишены быть имеют. Ну, что ж? Чесменский ослушник всемилостивейшей воли, а кто ослушник, тот бунтовщик, а кто бунтовщик, того сперва в застенке поласкать следует, а потом – ну, потом нещадно живота лишить!
– Балует их государыня, вот что! Пороть бы их всех как Сидорову козу, не смели бы своевольничать! – решил Рылеев. – А то что? А все нужно засадить его так, чтобы знал кузькину матку. Недаром государыня сказала: нужно дурь выбить!
Все это обдумывал Рылеев, подвозя Чесменского к дому генерал-губернатора и главнокомандующего Петербурга, которым тогда был недавно переведенный с московского генерал-губернаторства граф Яков Александрович Брюс, женатый на любимой сестре фельдмаршала графа Петра Александровича Задунайского, Парасковье Александровне, бывшей одною из самых приближенных статс-дам Екатерины. Граф Брюс был человек политический, тонкий, но и весьма жесткий, находивший двести плетей и ссылку на каторгу слишком легким наказанием за кражу ста рублей. Выслушав донесение Рылеева и передаваемое им высочайшее повеление, он приказал засадить покрепче в секретные арестантские и содержать построже!
Тогда сдали Чесменского сперва в канцелярию генерал-губернатора, откуда под конвоем препроводили в особое комендантское управление генерал-губернаторского дома, которое передало его смотрителю секретных арестантских, а тот, при помощи тюремщиков, засадил его в одну из так называемых глухих арестантских, устроенных для самых важных преступников, о которых, провожая туда, обыкновенно говорили: ну не для них свет Божий!
Арестантские эти назывались глухими, потому что были устроены таким образом, что ничем и никак не могли сообщаться с остальным миром. Единственное окно в каждой арестантской, размером полторы четверти в квадрате, стало быть, сквозь которое не мог бы пролезть и ребенок, даже если бы оно не было защищено железной решеткой, выходило на внутренний двор, кругом обнесенный стеной, охраняемой часовыми.
Чтобы достигнуть такой арестантской в доме, особо устроенном на генерал-губернаторском дворе и имеющем сообщение с домом генерал-губернатора только в верхнем этаже, нужно было сперва пройти кордегардию, потом, пройдя караульную комнату, подняться по лестнице в третий этаж, там длинным коридором пройти в так называемый пикет, где сидел гарнизонный офицер, принимающий арестантов, и уже оттуда, в сопровождении тюремщиков, спускаться в досмотрную, находясь уже в отдельном здании, которое на генерал-губернаторском дворе было устроено как потайной ящик, окруженный глухими стенами и над входом в которое было бы всего приличнее поместить надпись Дантова ада: "Оставь свои надежды, смертный!" Сюда-то Рылеев и засадил нашего юношу Чесменского. "Отсюда уже не убежит, – думал он. – У каждой двери часовые, в коридоре часовые, сторожа, тюремщики; на дворе караул и тоже часовые, не вылетит и птица!"
Однако ж Чесменский бежал, не потому ли, что у семи нянек дитя всегда без глазу? Дело в том, что история умалчивает кто, но надо полагать, что не граф Брюс и не Рылеев – но кто-нибудь из второстепенных и даже ниже, тем не менее влиятельных в надзоре за арестантскими лиц, может быть сам комендант дома санкт-петербургского генерал-губернатора из немцев, а может быть кто-нибудь и из русских его сотрудников и помощников, – принадлежал баварскому обществу иллюминатов. Этот-то прозелит государства в государстве, этот-то русский представитель иноземной таинственности, может быть по влиянию Николаи, который в это время был в Петербурге, помог сделать то, что вообще считалось невозможным, – бежать из генерал-губернаторских арестантских, признаваемых в то время столь же крепкими, как венецианские тюрьмы Совета Десяти.
Не успел Чесменский осмотреться в своем каземате длиною сажени в три, и был, разумеется, в расстроенном и огорченном состоянии, шаги запиравшего за ним дверь тюремщика едва успели смолкнуть в коридоре, как вдруг в своде потолка, казалось, непроницаемого по своей толстоте и прочности, послышался небольшой стук.
Чесменский обратил на него невольное внимание.
– Не бойтесь и молчите, – послышалось ему, – вас берегут люди, к вам расположенные!
Чесменский, разумеется, молчал.
Не прошло часа – в своде открылся небольшой люк, до того весьма искусно прикрытый, и оттуда на веревке спустился человек.
Человек этот с виду был похож на работника: штукатура, кровельщика, маляра, вообще кого-нибудь в этом роде. На нем был полотняный фартук; густые волосы на его голове прихватывались ремешком; на ногах были толстые, смазные сапоги. Но, спустившись, он смутил Чесменского вопросом, не имеющим никакого отношения к тому, чего можно было от него ожидать.
– Верите ли в Бога Единого, Всемогущего и Вездесущего, Его Единородного Сына Иисуса Христа и Духа Свята, иже в единице Троицею пребывает и прославляется? – спросил спустившийся, складывая необыкновенным образом свои пальцы.
Чесменский на секунду потерялся, но вспомнив, что он тоже масон, отвечал знаком низшей степени масонства или учеников, складывая свои пальцы в виде треугольника.
– Как христианин, верю в Бога Всемогущего и Святую Троицу! – отвечал он, давая своему голосу оттенок скрытой иронии над вопросом, когда не могло быть не известно, что другого ответа не может последовать.
– Верите ли в создание человека по образу и подобию Божию и в разум человеческий, отражающий и заключающий в себе все свойства Божества?
Чесменский опять затруднился ответом. Как ни слаб он был в схоластических толкованиях отвлеченных истин, но все же понял, что в словах незнакомца есть ловушка, что они заключают в себе видимое противоречие христианским догмам. Вопрос сближал разум человеческий с Божеством, придавая ему отражение и отождествление Божеских свойств.
– Верю! – отвечал, наконец, он уклончиво. – Верю, что разум человеческий есть высшее проявление творческой силы Божией!
– Верите ли вы, наконец, в умственную молитву, – освежающую и укрепляющую человека объединением его в данную минуту с Божеством и распространением на него Божией благодати?
– Верю силе молитвы, способной низвести на нас благодать Божию и сделать нас достойными Божией милости!
– Если вы говорите истину, то прочитайте эту записку!
Чесменский взял записку. Она начиналась тоже мистическим знаком, представляющим соединение молота, циркуля и треугольника, за которыми, нужно думать, в виде кабалистической формулы значилось:
Мани, Факел, Фарес!
После было написано просто по-немецки:
"Вверьтесь совершенно тому, кто подаст вам это мое письмо. Он учитель правды и добра и наш истинно верующий старший брат. Волею Божией он избран, чтобы спасти Вас от злобы врага рода человеческого, погубившего Вашу мать и ищущего теперь Вашей погибели. Он узнал о моем свидании с вами и ищет уничтожить орудие Божие. Но козни дьявольские рассеются аки дым перед лицом Промысла. Вас охраняет Ангел Божий в лице своих избранных. Посылаемый брат исхитит вас из всякой напасти и заточения, и ни допросы, ни пытки не коснутся вас! Помните только завещание вашей матери: «Месть, вечная месть извергу».
Записка заключалась тоже мистическою подписью: "Земная оболочка той, которую в здешней жизни звали Мешеде".
Прочитав эту записку, Чесменский невольно задумался.
"Бедная, – прежде всего подумал он относительно писавшей к нему Мешеде. – Допросы Шешковского и несчастия, которые она перенесла, видимо, оставили на уме ее слишком сильное впечатление. Она везде и во всем видит пытки и казни!..
Но эту мысль его перебил невольно представившийся ему вопрос: – А что если в самом деле? Если записку эту диктовало не больное воображение, а полученное откуда-нибудь, может быть, при помощи масонов или других сектатаров, верное сведение и меня точно станут пытать? Да что им от меня выпытывать? А Бог их знает! Может быть, родному батюшке что-нибудь понадобилось… Вот он услышал, что я виделся с Мешеде, и понимает, что ведь не с сыновним же почтением я взгляну… Но когда, когда в один день? А что тут удивительного? У них везде соглядатаи, везде уши, а он хоть и не в прежнем величии, а все же его слушают, к нему внимательны! Он именно вельможа. Иначе зачем бы им было меня так прямо сюда засадить? Дуэль – Боже мой, мало ли на свете дуэлей бывало? Скажут – закон! Да будто все всегда живут по закону; ведь не сажают же их всех в казематы? А я здесь в каземате генерал-губернаторского дома. Чем я обеспечен, что меня не будут пытать? Чем обеспечен я, что мне не будут ломать кости, бить, гладить каленым железом, сдирать кожу – мучить всеми способами, как мучили, пытали Долгоруковых, Волынского и мало ли еще кого!.. Может быть, родному батюшке понадобилось зачем-нибудь мне кости поломать, уродом сделать, может быть, он за то новую ленту получит или ему новую деревню дадут?.. Ведь отдал же он на мучение мою мать, свою подругу – почему не отдать и ее сына? А что я буду делать без рук или ног? Что буду делать, если буду вечным калекой?.. Какое ему до того дело? Этого он не хочет знать!
В самом деле, весьма может быть, узнав, что у меня была Мешеде, он понял, что не благодарить же она меня его заставила, и затем, может быть, нашел, что я лишний человек на свете! Ну и что ж, пусть…
Мешеде говорит, что я должен жить для мести, для мести за свою мать! Так ли? Положим, я должен слушать Мешеде! Она страдала вместе с матерью, выносила заключение, может быть, пытку, закрыла глаза ей! Может быть, и меня приняла, когда явился я на свет… Она, видимо, выказывает мне свою привязанность. Я могу ей верить и слушать! Но месть, жить для мести, и кому же? Родному отцу! Это вопрос, и какой еще вопрос. Но не в том дело! Что я потеряю, если убегу? Служебное положение – еще каково оно будет после этого ареста и оказанного мной ослушания. Государыня ослушания-то и не любит прощать. К тому же и не хочу я никакого служебного положения. Мне надоела моя вечная борьба с самим собою и всем, что меня окружает. Я хочу быть свободным, и вот случай к свободе…"
– Я жду вашего ответа, милостивый государь, – сказал, наконец, стоящий перед ним в костюме работника незнакомец тоном далеко не работника, даже не брата масона, так как в нем слышалась повелительная нотка, из чего Чесменский заключил, что если он масон, то, вероятно, высших, неизвестных ему степеней.
– Угодно ли вам воспользоваться моими услугами? – спросил он.
Чесменский в это время думал:
"Какая может быть цель, какой смысл в том, чтобы им меня обмануть и выдать? Решительно нет цели. Притом, Мешеде была так предана матери, преданность к ней отразилась даже на ее разуме, и сомневаться в ней я не могу!.."
– Благодарю от всей души, милостивый государь! Я в полном вашем распоряжении и буду глубоко благодарен за все, что вы сделаете, чтобы меня отсюда выручить? – отвечал Чесменский. – Но я должен вас предупредить. У меня нет никаких средств, ничего…
– От вас никаких средств не требуется: от вас только требуется послушание и молчание.
– Буду послушен как ребенок, и нем как рыба!..
– Будьте же готовы к вечеру! Я явлюсь к вам опять этим же путем!
И незнакомец исчез, поднявшись к потолку по веревке.
Чесменский остался один со своими мыслями. Люк в своде закрылся и был незаметен. Перед его глазами был опять тот же непроницаемый свод[2]2
Автор слышал о таком бегстве через люк в своде, будто бы случившемся в 1824 году.
[Закрыть], то же маленькое, едва дающее свет окно с железной решеткой и та же окованная железными полосами толстая дубовая дверь, позади которой слышались неустанные шаги часового.
Ему стало грустно, он сел на нары и продолжал свои думы.
"Вероятно, – думал Чесменский, – он масон и меня, как своего, спасают масоны. Но как они узнали? Указала Мешеде, которая, может быть, тоже принадлежит к масонству!.." Но, подумав, он сейчас же отказался от своей мысли. Он вспомнил, что масоны вообще не допускали мер противузаконных. Они готовы были ходатайствовать за брата или ученика, готовы были просить, искать – постарались бы доставить средства к оправданию; готовы были задобрить и для того не отказались бы от пожертвования… Но меры насильственные были настолько противны правилам масонства, что предполагать, что они проломили свод, нашли возможность побега и привели в исполнение такое бегство, было несообразно, масоны бы сказали: "Мы делаем, что можем! Нельзя, что же делать? Терпи, на это воля Божия! Сам Бог терпел!"
Потом Чесменский вспомнил, что незнакомец, кроме употребляемого масонами знака сложения пальцев треугольником, употребил еще знак, образуя из руки нечто подобное тому, как Чесменский помнит, складывали перед ним руки в детстве, заявляя, что "идет коза рогатая, идет коза богатая!", то есть сжимая руку кулаком, кроме первого пальца и мизинца, долженствующих представлять рога козы, направляя эти пальцы против его груди. Чесменский, не подумав, принял этот знак тоже за масонский высших степеней, но теперь он сообразил, что нет, это не то! Это нечто другое, особое, если и принадлежащее масонству, то представляющее совершенно независимое его разветвление.
Наконец, ведь Мешеде говорила ему, что она иллюминатка и прибыла будто с каким-то важным членом их ордена бароном Николаи для распространения здесь правил их братства и приискания новых членов; много говорила об этом Николаи.
"Стало быть, меня спасают иллюминаты! – подумал Чесменский. – А что такое эти иллюминаты? Какое, впрочем, мне до этого дело? Отказываться от их услуг мне нет повода. Для меня решительно все равно, кто бы мне ни помог, только бы помог! Уж одно то, что я под арестом и здесь, дает мне право пользоваться всяким случаем бежать, особенно при воспоминании о страданиях моей бедной матери… Да, да! Для меня решительно все равно, кто бы мне помог, только бы помог!"
Чесменский сидел на своих нарах, и перед его глазами рисовалась картина мучений, которые должна была перенести его мать на таких же нарах, в такой же, если не худшей обстановке тюрьмы. И это должна была переносить княжна Владимирская – та, на которую в Европе указывали, как на законную наследницу русского престола и которую столь многие искренно от души признавали повелительницею своих сердец…
"Как тяжко должно было отразиться на ней такое заключение: каким гнетом должны были давить ее этот свод, эти стены, хоронящие каждый звук ее голоса. Между тем она жила под таким сводом, томилась в подобных стенах, мучилась даже меня произвела на Божий свет!"
Думая все это, Чесменский достал письмо своей матери. Он поцеловал это письмо и стал читать его и перечитывать. Под влиянием чтения ему более ясною представлялась картина мучений той, которой он был обязан жизнью. Ему казалось, что он видит, как ее допрашивают, может бьют, пытают. Во всяком случае была пытка, говорит он себе, если не физическая, так как она о ней не пишет, то страшная нравственная; ибо от нее добивались узнать то, чего она сама не знала. И такая пытка убила ее в цвете лет!
Все это рисовалось перед ним, росло, жило будто в сновидении. Он будто видел свою мать в минуту наводнения, когда пораженная, немая, она судорожно ломает себе руки от отчаяния и думает не о себе, а о нем, о том, кого носила в то время под своим сердцем.
– Да! – вдруг вскрикнул он. – Следует бежать непременно, чтобы можно было узнать, допытаться и отмстить, страшно отмстить – прежде всего тому, кто был главным виновником ее страданий; тому, кто выдал ее на мучения! Но ведь этот тот мой родной отец!..
Слова эти он даже выкрикнул невольно, так горячо легли они, так отозвались ему на сердце.
"Странная судьба моя, – продолжал рассуждать про себя Чесменский. – Я должен мстить родному отцу за то, что живу на свете! Да! Потому что родился я не как плод любви, не хотя бы как плод увлечения, даже не как плод разврата. Я родился плодом дьявольски устроенной и с адскою ловкостью веденной интриги, первою жертвою которой была моя мать, а второю должен быть я, потому что моя жизнь неминуемо должна быть страдание! Гагарин прав, говоря, что он не может быть свояком человека, который если и знает, что его зовут Алексеевичем, то не смеет даже подумать, что его отец не просто Алексей, а граф Алексей Григорьевич Орлов—Чесменский, и что он-то и есть тот самый, который целым миром признается первым врагом моей несчастной матери.
Да! Гагарин прав! Правы и те, которые смеются в глаза мне, дворянину неизвестного происхождения. Но я отомщу, клянусь – жестоко отомщу и за мать и за себя! Отомщу за все человечество, которое не может не быть оскорблено отрицанием высшего из данных ему чувств, отрицанием того чувства, которое отличает от животных – чувства супружеской и отцовской любви…
Теперь я понимаю, почему отец Павел, у которого по чьему-то распоряжению я воспитывался, всегда привозил меня к нему, когда почему-либо он приезжал из Москвы. Понимаю, почему мой крестный отец, князь Александр Алексеевич Вяземский, всегда спрашивал, возили ли меня к нему, гордому графу. Понимаю также, почему он всегда так неохотно выходил ко мне, предпочитая отделаться высылкою отцу Павлу какой-нибудь подачки. Помню, как мне это бывало обидно. Придем мы, сперва ждем на лестнице у толстого швейцара, потом официант ведет нас к камердинеру. Тот поломается, но, после многих поклонов отца Павла, идет докладывать. Нам приходилось опять ждать. Наконец приводили нас в адъютантскую. Адъютант, если был свободен, шел докладывать и вводил в комнату перед его биллиардной. Здесь мы стояли иногда с четверть, а иногда и с полчаса, – вспоминал Чесменский. – Отец Павел в это время был сам не свой. Наконец адъютант выходил, говорил, что граф извиняется, занят, а вот присылает!..
И адъютант подавал отцу Павлу или коробку с несколькими десятками золотых, или часы, или кольцо какое-нибудь. Раз, помню, он вынес бриллианты без оправы. Отец Павел низко кланялся, благодарил. А когда выйдем, говорил мне: "Бог с ним и с его подарками, лучше бы словом, а не рублем дарил!" Отец Павел был нежаден на подарки!
Но случалось иногда, что выходил к нам и сам граф.
Он всегда прямо подходил ко мне, схватывал за плечо, и, стряхивая немного, спрашивал отрывисто:
– Ну что, здоров?
Отец Павел обыкновенно отвечал за меня с низким поклоном:
– Слава Богу, ваше сиятельство, теперь здоровы, а вот на прошлой неделе…
Отец Павел хотел было рассказывать о случившемся со мной на прошлой неделе кашле. Но граф не слушал.
– И слава Богу, когда слава Богу! – перебивая отца Павла, говорил он.
– Учится?
– Как же, ваше сиятельство, читает порядочно, и четыре правила…
– А! Ну много ли будет девятью семь?
После моего ответа предназначенный отцу Павлу подарок вручался всегда мне в руки со словами: "для твоего воспитателя", с прибавкою коробки конфет или другой какой-нибудь сладости, которая сопровождалась словами: "для тебя", и подавалась отцу Павлу в руки.
И ни разу ни поцелуя, ни ласки, ни привета. Ни разу, кажется, он даже не взглянул на меня. Я даже не говорю о каком-либо воспоминании.
Жены его, графини, урожденной Лопухиной, я не видел ни разу. Положим, она не долго жила, но все же, кажется, лет пять-шесть, и знаю наверное, что меня несколько раз к нему приводили в то время, когда и она была с ним в Петербурге. Не случилось также ни разу видеть его дочь, Аннушку, хотя теперь ей лет уже семнадцать, и она сделана уже фрейлиной. Но когда он привозил представлять ее государыне и благодарить, государыня была больна и приняла ее в постели. А он, разумеется, не счел нужным мне ее показать!
Впрочем, с его стороны это естественно. Смотря на жизнь и на целый мир исключительно с точки зрения удовлетворения своей плотской похоти и материальных интересов, думая только о том, что тешит его самолюбие, для которого он готов был жертвовать всем на свете, даже самим собой, он не мог понимать чувств семейной связи, основанных на любви и чести. Ему было все трын-трава, кроме его грубых наслаждений и требований его самолюбия. А человек, у которого нет ничего святого, который думает только о себе, о том только, что его тешит, естественно бережется всего, что может его самолюбие уколоть, удовлетворение его прихотей расстроить.
И вот мой родной батюшка боится с родным сыном своим даже говорить. Ведь каждое слово его подслушают, дополнят, разъяснят и оно дойдет до жены, до дочери. А он не хотел никаких разъяснений. В глазах своей жены и дочери он хотел быть только героем, только тем орлом, перед которым неприятельские корабли пылают, крепости падают, а он – спокойный, распорядительный, даже не смотрит на них. Он всего себя посвящает Отечеству… Понятно, что такому герою, рыцарю чести, даже намек на отношения его к моей матери был тяжел, крайне тяжел. Мой воспитатель отец Павел говаривал: "Несть действия, иже не оставило бы свой след". А такой след некоторых действий моего родимого батюшки, каков, например, был я, его сынок, должен был очень и очень его тревожить. Как не постараться от него избавиться? Вот, может быть, он старается. Раньше-то нельзя было, так он теперь. Нельзя ли, думает, выкинуть меня вовсе из людской памяти! Недаром же меня сюда засадили…
Но шалишь! "Наполнивший сосуд должен его и опорожнить!.." – говаривал отец Павел – и справедливо: что посеял, то и пожнешь!.. Сегодня же я исчезну, пропаду, но с тем, чтобы явиться потом грозным мстителем, мстителем, который напомнит, что злодейство, эгоизм, бессовестность не остаются без наказания. Это закон природы, это воля Провидения!
Да, много они мне сделали зла! Много нанесли оскорблений, много унижений, заставили перемениться, – продолжал рассуждать про себя Чесменский. – И странная вещь, ничего этого я даже не подозревал, хотя меня очень и очень могли навести на мысль разговоры и расспросы моей крестной матушки, графини Татьяны Семеновны Чернышевой. Бывало, помню, только воротимся мы от графа, ее карета уже ждет. Зовут отца Павла с крестником. Идем. И начинаются расспросы, что и как? Видели ли? Говорили ли? Что он говорил, кто и как отвечал? Что подарил? И так все, до мелочи. Любопытна была уж очень покойница, моя матушка крестная, но добрая была женщина. Она меня всегда любила и ласкала. Бывало, у своих детей конфеты или игрушки отнимет и мне отдаст. Мешеде говорила, будто после рождения своего я у ней жил более двух лет, пока не поместили меня к отцу Павлу; и она как будто родная мать обо мне заботилась. Я верю этому. Она была вся доброта и любовь. Когда я надел мундир конногвардейца, она всюду за меня распиналась. Многие, не зная ничего о моей матери, не шутя думали, что я ее побочный сын. Даже мне самому не раз намекали на это. И помогала мне в нужде иногда, сказать нечего! Да, добрая была женщина! Но добрые-то, видно, Богу нужны, вот умерла! Тогда как моего бесценного батюшку родного, графа Алексея Григорьевича, кажется, и обухом не пришибешь! Объезжает себе жеребцов да бушует в Москве на царских жалованиях! Но подожди, подожди! Явится и на тебя гроза и оттуда, откуда ты не подозреваешь…"
Мысли эти были прерваны открытием наверху люка и спуском оттуда незнакомца.
Самая аккуратность незнакомца в исполнении данного обещания заставляла полагать, что ему помогает кто-нибудь из близких управлению тюрьмы…
В этом убеждали Чесменского спокойствие незнакомца, его неторопливость и самоуверенность. Он держал себя так, будто то, что он делал, было не только справедливо, но и законно или ему, собственно, было разрешено. Можно ли было, впрочем, этому удивляться, когда мнения тогдашней интеллигенции двоились в такой степени, что принадлежать к одному из заграничных тайных обществ не только не считалось бесчестным, не только не признавалось изменою своей народности, но и считалось даже как бы обязанностью высшего образования; когда взяточничество и подкуп, можно сказать, были положительно общим недугом и, можно сказать, царили в высших сферах общества; когда о народности и самобытности никто даже и не думал; нет, еще страннее, когда о русской народности и самобытности все более думала и заботилась немка Екатерина II. Уж по одному этому русские имеют несомненное право признавать ее великой женой, признавать своей славной государыней!
Между тем нетрудно, кажется, было обсудить, что, вступая в чужеземное политическое общество и принимая на себя обязанность безусловного повиновения посторонней власти, независимой от начал государственного устройства своей родины, гражданин вносит в государственное устройство своего Отечества рознь, раздор, разномыслие. Это замечание совершенно одинаково относится как к тайным обществам, так и явным конгрегациям, устраиваемым вне государственной власти.
Иезуиты и иллюминаты, карбонары и мальтийские рыцари, управляемые внешним влиянием, одинаково ведут к расстройству в государственном единстве и государственной розни, как и евреи своим кагальным управлением. Все они одинаково устраивали государство в государстве. Тогда этого не хотели понять! Не хотели понять, что сила в единстве, в сплоченности, в безусловной преданности своему родному, отечественному. Удивительно ли, что при полном отсутствии сознания самих себя, при полном отрицании своей самобытности и общем стремлении к подражанию находились люди, которые законы масонства или иллюминатства ставили выше законов своего Отечества и готовы были выдать всякую государственную тайну, изменить всякому самобытному настроению ради тех принципов, которые, они полагали, ведут к отрицанию варварства; ведут к тому, чтобы русские стали европейцами, забыв, что они русские. А затем, естественно, могли найтись и такие люди, которые, прикрываясь принципами, преследовали исключительно своекорыстные цели, то есть служили никак не идее, а своему мамону.
Опираясь на тех или других пособников, спустившийся к Чесменскому незнакомец распоряжался совершенно покойно. Он, видимо, был уверен, что в данную минуту он вне всякого преследования, вне всякой опасности. Не торопясь, он сперва мазнул чем-то стеклышко двери, сквозь которое можно было видеть, что делается в арестантской, и стекло стало как бы матовым; сквозь него, из коридора видеть ничего было нельзя. Потом в опущенной веревке сделал петлю; в эту петлю сел сам и усадил с собой Чесменского; после, условно качнув веревкой, он дал знать, что все готово; и чьи-то сильные руки мгновенно подняли их обоих к потолку.
Чесменский был далеко не так спокоен. Он все думал: "Вот увидят, вот поймают – сейчас, сейчас!.. Мы же так шумим! Вот часовой сейчас взглянет, увидит, что стекло замазано, закричит, войдут!.. Непременно кто-нибудь схватит, остановит…"
Однако ж никто не остановил. Они очутились этажом выше. Затем куда девалась веревка и те, которые ее тянули сверху, Чесменский не заметил. Правда, у него не то было и на мысли, чтобы видеть и замечать, он был просто вне себя. Незнакомец пригласил его идти за ним по боковой лестнице. Он шел бессознательно, и они поднялись еще этажом выше.
Там они вошли в комнату, которая, вероятно, была некогда генерал-губернаторским застенком и предназначалась, собственно, для допросов, пыток и всего того, что до Екатерины считалось необходимою принадлежностью правосудия и власти. По крайней мере, это можно было думать, смотря на поставленный на возвышении длинный судейский, покрытый зеленым сукном стол, с председательским за ним креслом, зеркалом и всеми атрибутами присутствия и на расположенные внизу орудия: дыбу, кобылу, разного вида клещи, винты, тиски, наконец, всевозможных видов плети и шпицрутены. Здесь, может быть, Андрей Иванович Ушаков производил свои первые манипуляции над арестованными; может быть, здесь делал он свои первые допросы, производил первые дознания с пристрастием, чтобы потом уже препровождать допрашиваемых в главный застенок в нижнем этаже другого дома за летним садом. Употреблялись ли все эти орудия теперь? Разумеется, Чесменский не знал, на что они могли употребляться, он это видел. И невольно сердце его дрогнуло при взгляде на эти орудия; невольно представилось ему, что вот винты эти его жмут, тиски давят, и давят так, что хрустят его кости, в то время как щипцы рвут кусками его тело, а палачи привязывают его самого к дыбе… У него сперлось в груди от такого представления, захватило дух, но внимание его невольно было отвлечено тем, что к ним кто-то шел навстречу.
"Ну вот, ну вот, – подумал Чесменский, – вот и поймали, и остановили! Теперь, в самом деле, начнут пытать…"
Но скоро он должен был успокоиться, потому что незнакомец прямо подошел к идущему и взял у него потайной фонарь и большой узел с чем-то. Оказалось, что это был человек, заранее подготовленный незнакомцем, чтобы их встретить со всем, что могло быть им нужно… У человека были приготовлены свечи, вода, разные принадлежности. Из узла незнакомец вынул два совершенно одинаковых, великолепно вышитых золотом по пунцовому бархату модных костюма тогдашних блестящих петиметров придворного общества. Далее, к великому удивлению Чесменского, вместе с белыми, также шитыми золотом камзолами, двумя парами шелковых чулок и башмаков со стразовыми пряжками, кружевными манжетами и брыжами, он достал оттуда небольшой ящик с полным парикмахерским прибором.
– Нужно переодеться! – сказал сухо незнакомец. – Вот он уберет как следует ваши волосы и выбреет.
И он указал на встретившего их человека.
Чесменскому сказать было нечего, и он безмолвно отдал себя в их полное распоряжение.
И вот Чесменского усадили на деревянную кобылу, между развешанными плетями и жаровней, бывшими, вероятно, многократно свидетелями нечеловеческих криков, после делаемого подле них туалета, и начали одевать.
Встретивший их человек с ловкостью искусного парикмахера сбрил у него едва начинавшие завиваться усы, подвязал косу; завил и осыпал пудрой волосы; надел на него принесенный костюм, подал часы с привесками и брелоками, превратив его таким образом из гусарского корнета в перворазрядного гражданского франта тогдашнего времени.
– Я оденусь совершенно так же, как и вы, – сказал незнакомец опять тем же ровным и не допускающим возражений голосом, каким он делал распоряжения до сих пор. – Постараюсь по возможности усвоить вашу речь и манеру, так что, в случае нежданной встречи, вы можете маскироваться мной, и сколь возможно скорее исчезать!








