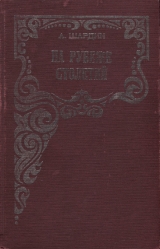
Текст книги "На рубеже столетий"
Автор книги: Петр Сухонин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
И действительно, он оделся в точно такой же костюм, какой был одет на Чесменском; приказал сделать себе волосы точно в таком виде, в каком они были сделаны у Чесменского, и хотя он был гораздо старше Чесменского, но при помощи небольшой гримировки явился столь схожим с ним, что Чесменский едва верил своим глазам.
Это был он сам или его двойник, по крайней мере, близнец, схожий с ним как две капли воды, хотя будто и постарше. Чесменский видел, что года через три-четыре он будет непременно таким, каким представился ему теперь незнакомец.
– Теперь смелее идите вперед… Я буду идти за вами и говорить, что нужно делать! – проговорил незнакомец опять. – Имейте в виду, чуть что – вам сейчас следует за меня, а я уж буду знать, что делать!
Чесменскому отвечать было нечего. Он должен был полагаться вполне на того, кто спасал его из заточения.
Они шли длинным коридором, освещая путь потайным фонарем, так как в коридоре не видно было ни зги. Человек остался позади с их платьем, и Чесменский более его никогда не видал. Наконец они подошли к какой-то двери. Незнакомец заявил, что тут нужна особая осторожность, и, прикрывая фонарь, отворил. Здесь было светло. Чесменский увидел перед собой лестницу вниз. Осторожно на цыпочках, едва переводя дух, спускались они по лестнице, освещенной кенкетами и находившейся, ясно, уже в другом здании, а не там, где были расположены арестантские. Незнакомец потушил фонарь и оставил его на лестнице. Затем они уперлись в дверь, войдя в которую очутились в буфете самого графа Брюса, со столами, уставленными разными закусками, лакомствами и прохладительными, за которыми стояли разряженные и напудренные официанты, не обратившие, впрочем, на вошедших никакого внимания, полагая, вероятно, что они также принадлежат к толпе гостей, хотя, разумеется, могли бы подумать: как же они, если они гости, вошли с черной лестницы? Ну да им было не до того! У них были свои хлопоты: отпускать прохладительные, бранить господ и так далее.
Отворенная из буфета дверь вела в ярко освещенную танцевальную залу, полную гостями, прохаживающимися между танцами и производящими общий гул своим говором, любезностями, шарканьем и мадригалами, которыми они друг друга осыпали.
Граф Брюс давал бал.
Бал был назначен по случаю празднования двенадцатилетней годовщины одной из побед его зятя, фельдмаршала графа Петра Александровича Румянцева—Задунайского при Кагуле, где граф Брюс тоже участвовал, исполняя весьма важное поручение своего зятя – обход правого крыла турецкой армии.
Фельдмаршал был сам тут же налицо. Он нарочно приехал для праздника из Малороссии, которою управлял по званию малороссийского генерал-губернатора. Он весело разговаривал с всесильным тогда любимцем князем Платоном Александровичем Зубовым.
Окинув взглядом эту разряженную, оживленную толпу гостей – этот блеск бала, который из дверей не довольно освещенного буфета казался ярче, сверкал рельефнее, Чесменский невольно остановился. Он невольно потерялся перед этим многолюдством, общим движением и светским шумом. Но позади себя он услышал твердый голос: "Идите, не бойтесь! Вас не узнают, да если бы и узнали, то разговаривайте покойнее, располагайте собой смелей! Ведь об аресте вашем, кроме графа Брюса да его двух-трех адъютантов, никому неизвестно".
Эти слова предали Чесменскому бодрость, и он вошел. Рядом с ним, несколько позади, шел незнакомец, как его старший брат, двойник его самого, действительный близнец, одетый так же, как и он, почти одного роста, и принимающий все его манеры.
Они проходили поперек залу, направляясь к выходу. На них, казалось, никто не обращал внимания. Лейб-гусар на бале не было никого! Они не ездили в свет. Но было много кавалергардов, конной гвардии, преображенцев и семеновцев, – полки, особенно любимые обществом того времени, а в этих полках, почти поголовно, от солдата до генерала, все знали Чесменского в лицо и, разумеется, легко могли его узнать, хоть он и был в гражданском платье, тем более что большая часть их были и сами не в форме. Солдаты из дворян были в дворянских мундирах, многие из офицеров, нося придворное звание, надели гражданское платье, так как это тогда не воспрещалось никому, кроме лейб-гусар. Перемена костюма Чесменским могла подать только новый повод к вопросам. Могли придворные мундиры, были и такие, которые просто надели спросить, давно ли оставил полк, зачем и почему? Что думает делать? Не ради того, чтобы кто-нибудь действительно о нем заботился, а просто, по русской поговорке, "чтобы почесать язык".
Думая это, Чесменский шел, однако ж, далее нерешительным шагом, опуская глаза ниц.
– Идите спокойнее, – говорил идущий подле него товарищ, – смотрите прямо перед собой…
Случай помог им пройти поперек залы, не встретившись ни с кем. Но тут подошел к ним один из распорядителей танцев.
– Граф убедительно просит, чтобы вы танцевали алагер, который будет после английской кадрили! – проговорил он и всучил им обоим по танцевальному билету. По счастию, распорядитель танцев был им незнаком.
Они поклонились молча, взяли билеты, а сами продолжали пробираться к выходу.
Все шло благополучно, Чесменскому не пришлось пока встретиться с кем-либо из близких знакомых лицом к лицу. Правда и то, что бал главнокомандующего Петербургом и санкт-петербургского генерал-губернатора, хотя, по самой сущности своего назначения, был не более, как собрание для общего удовольствия, но увы, такое патриархальное определение бала давно уже потеряло свой смысл. В настоящем это было точно блестящее собрание, будто бы с целью "людей посмотреть и себя показать" только – в действительности же с целями достижения бесконечного количества личных и частных интересов, которым каждый из посетителей не мог себя не посвящать. Самый бал, казалось, давался близким родственникам фельдмаршала, как бы в виде почетного празднования его победы, между тем как специальная цель бала была сближение фельдмаршала с новым любимцем, так как заметили, что после смерти князя Таврического новый фаворит приобрел такую силу и влияние, какими никогда не пользовался Потемкин, несмотря на его прошлое, казалось, всемогущество. Тот заведовал только военной коллегией, южными губерниями да входил еще в отношения к иностранным дворам; а этому все давай: кого губернатором назначают, кого из службы выгоняют, какие где распоряжения делают – все подавай ему на просмотр, обо всем докладывай. Всюду он хочет запустить свою лапу; положить на зуб; недаром Зубов! Государыня приказала все его требования исполнять, как ее собственные высочайшие повеления: поневоле станешь искать сближения. А сближение таких лиц, как фаворит и фельдмаршал, выводит на свет Божий столько всевозможных интересов, касается стольких самолюбий, что трудно себе и представить.
Тот добивается местечка, этот – награды, та хлопочет вывести в люди племянника, этот бьется о том, чтобы выиграть процесс. До Чесменского ли тут? Всякому свое.
Таким образом, Чесменский со своим двойником прошли незаметно зал и вошли в замечательную библиотеку графа, в которой сохранилось много драгоценных изданий, собранных еще его двоюродным дедом, генерал-фельд-цейхмейстером, знаменитым ученым, чернокнижником и предсказателем времен Петра Великого.
Библиотека была также полна гостями, снующими взад и вперед; но они и сквозь них прошли незаметно, хоть и приглянулся к ним весьма пристально один из адъютантов графа Брюса, бывший в комендантском управлении в то время, когда утром Чесменского туда привезли. Наконец они вошли в зимний сад, из которого выход был прямо на парадную лестницу.
Вдруг они были остановлены возгласом молодой девушки.
– Александр, вы ли это? – вскрикнула она. – Ах, как я рада, что вас встретила и как хорошо вы сделали, что сбрили ваши противные усы. Но скажите, куда вы девали нашего князя? Утром, чуть свет уехал, сказывали к вам, и до сих пор еще не возвращался. Мы с сестрой чего-чего не передумали. Сестра очень тревожится, она не хотела даже сюда ехать, но я настояла.
– Мне так хотелось быть здесь! Ведь я первый раз на петербургском большом бале, первый раз в петербургском свете. Идемте танцевать. Я танцую с вами английскую кадриль. Идемте же!
И она схватила Чесменского за руку.
Первые звуки голоса девушки заставили Чесменского вздрогнуть сильнее, чем он вздрогнул бы от крика Рылеева.
Голос был той, которая была идеалом его мысли, притягательной силой души его. Перед ним стояла насмешница-девица, его барышня-игрунья, а по-московски невеста-шалунья; одним словом, стояла Наденька Ильина.
– Это вы? – повторила она, не выпуская его руки и таща за собой в зал. – Взгляните, хорошо ли я одета, скажите, авантажна ли? Я бы хотела быть сегодня хорошенькой.
Чесменский взглянул на нее и забыл все: забыл и арест, и бегство, и своего товарища-двойника, и то, что они переодетые пробираются к выходу. Он помнил одно, что видит светленькие глазки хорошенькой девушки, его милой шалуньи, которая столько раз мерещилась ему во сне с какой-нибудь новой шалостью, с какой-нибудь новой игривой шуткой. Он чувствовал только ее прикосновение, слышал только ее мелодический, нежный и то будто умоляющий, то будто опять смеющийся голос.
Против воли он растаял. Удовольствие ее видеть приветливой, сердечной – видеть такой, какой он представлял ее в своем воображении, было для него столь неожиданно, что его совсем отуманило. С чувством невыразимой радости он прижал к себе ее ручку под мышки и с восторгом, забывая себя от полноты счастья, совершенно бессознательно повернул назад, скорым шагом прошел библиотеку и вместе с девушкой вошел в танцевальную залу, к совершенному изумлению сопровождавшего его двойника.
В зале устраивалась английская кадриль. Распорядитель танцев мгновенно указал место вновь вошедшей паре.
Танец начался авансом дам; Чесменскому приходилось делать шен, но он чувствует, что на его плечо легла чья-то тяжелая рука. Он обернулся. Позади него стоял нахмуренный сотоварищ.
– Вы с ума сошли! – сказал он тихо. – Через пять секунд вас схватят! Идите вниз по лестнице и требуйте карету графа Амаранта! Садитесь. В карете вы найдете человека. Это сам граф. Отдайте ему это кольцо. Он уже знает, что нужно делать! Идите же!
– Но я, но я… – начал было лепетать Чесменский. – Я танцую…
– Идите, я протанцую за вас! Или вы хотите испытать на себе клещи, подле которых вы переодевались, и меня подвергнуть той же участи, а девицу уложить под розги на ту деревянную скамью, на которой вы сегодня брились? За этим дело не станет! Извольте идти, я вам говорю. Вы обещали полное послушание. Так-то вы послушны? Я требую исполнения.
И он указал на привешенный у него на цепочке какой-то знак в виде молота, обозначающий знак "вольных каменщиков высшей степени". Это Чесменский знал, хоть и весьма мало своим масонством занимался.
Чесменскому пришлось исчезнуть, выталкиваемому своим двойником, который вместо него начал делать шен кадрили. Наденька Ильина возвращалась к своему кавалеру.
– Что это? Это, кажется, не Александр или он? Нет, положительно не он? А похож, точно похож! Неужели я ошиблась и говорила с посторонним? Не может быть! То был точно он, а этот! Решительно нет! Это, может быть, старший брат, но не он! А одет точно так же. Удивительная вещь! – думает Наденька, балансируя со своим новым кавалером и продолжая про себя рассуждать. – Каким образом я могла ошибиться? Да это он, переменился только от того, что выбрился, переменил прическу, костюм. Нет, нет! Просто не он! Хоть бы заговорил что-нибудь, – продолжала она, становясь на место подле своего кавалера, – я бы узнала…
Но танцующий молчал. Молоденькой Ильиной становилось даже страшно! Что это за мистификация? Он или не он? Но она никак не могла решиться заговорить сама, видя в нем человека незнакомого, чужого, тогда как приняла его и говорила с ним так, как будто он один из самых близких ее знакомых, будто он один из ее друзей.
Вдруг в конце кадрили кавалер ее неожиданно обратился к ней и проговорил отрывисто:
– Чесменский и князь, ваш шурин, сегодня утром арестованы по высочайшему повелению, потому, я надеюсь, вы меня извините, что, не имея права вам рассказывать и объяснять, я предпочел воспользоваться вашей ошибкой в зимнем саду и похитить у вас кадриль, которую вы, по всей вероятности, предназначали не для меня!
– Как арестованы, за что, когда? – невольно вскрикнула Наденька.
– Ничего не могу сказать, потому что сам ничего не знаю. Одно знаю, что оба они здоровы…
Слова эти были заглушены каким-то особым гулом, который будто пронесся в зале. Хозяину донесли о бегстве арестанта, заключенного по высочайшему повелению.
Граф остолбенел, и было от чего. Случилось нечто явно невероятное, тем более что дверь оказалась запертою, окно не тронутым, и вообще не сделано никакого взлома. Он готов был прийти в отчаяние и невольно засуетился.
Но ни суетиться, ни приходить в отчаяние ему не пришлось, потому что в ту же минуту ему доложили, что его бал удостоила своим прибытием государыня. Нужно было бежать встречать.
Через несколько секунд вошла Екатерина со своей свитой из статс-дам, фрейлин, камер-пажей со Львом Александровичем Нарышкиным и Александром Сергеевичем Строгановым во главе.
Музыка грянула "Славься сим, Екатерина". Она вошла, опираясь на руку встретившего ее хозяина, графа Брюса.
К ней навстречу почти бежал счастливый и довольный новый президент военной коллегии и член конференции по иностранным делам, изящный, красивый и еще совсем молодой, но уже генерал-аншеф и светлейший князь, Платон Александрович Зубов.
Екатерина встретила его приветливо. Она была довольна тем, что он спешил к ней. Потемкин не любил ее баловать особою поспешностью. Всего же более она была довольна тем, что видела, что он говорил с фельдмаршалом, а не с которою из дам; и видимо, до нее не танцевал, так как встретил ее даже без перчаток, между тем как столько красавиц – графиня Брюс была мастерица их собирать – разумеется, были бы рады приглашению, и он не мог знать, что государыня будет, так как она отказалась от приглашения графа и приехала неожиданно; может быть, именно потому, что пожелала взглянуть, что он без нее делает.
Граф Брюс захотел этим милостивым расположением и веселым состоянием духа государыни воспользоваться и сказать дурную весть в добрую минуту. Он сказал о случившемся у него непонятном побеге.
– Арестованный сегодня по особому, именно вашему повелению!
– Кто такой? – спросила Екатерина небрежно. Видимо, она думала не об арестанте.
– Лейб-гусарский корнет Чесменский! – отвечал граф Брюс, полагая, что едва ли государыня обратит на это внимание, тем более что он знал, что все преступление Чесменского было в дуэли, ничем не окончившейся, а на дуэли вообще, несмотря на изданный Екатериною закон, смотрели весьма снисходительно.
Но к великому его удивлению, государыня приняла это известие весьма горячо.
Что ей пришло в голову, Бог знает! Может, бывшие заграничные интриги его матери Али-Эметэ; трудность новой борьбы при тогдашнем состоянии умов в Европе, и опасение новых клевет; неприятность новых инсинуаций. Отчего бы то ни было, но она приняла это известие к сердцу и строго приказала немедленно разыскать бежавшего, дав знать на все заставы, чтобы ни в коем случае не выпускать его из города.
Началась беготня, суета, хлопоты. Но все эти хлопоты оказались напрасными. Чесменский давно проехал заставу и катил на курьерских с чужой подорожной за границу, почти не выходя из экипажа. В Берлине он был на собрании масонской ложи; там виделся с Розенфельдом, одним из влиятельных членов тайных обществ, который и дал ему письмо к барону Книге; а этот решил употребить его для целей общества иллюминатов, послать в Париж, чтобы переговорить с парижской знаменитостью того времени, хотя по рождению он был немец и прусак. Эта знаменитость был не кто иной, как тот, кто в клубе горы значился под именем Анахарсиса и которого ни с того ни с сего льстецы, разумеется, за его деньги, выдумали величать великим. Вот к этому-то великому Анахарсису Клоотцу, Чесменский, по поручению барона Книге, должен был отправиться.
Глава 3. Еще далее к чужим
Утром 1773 года 21 января по новому стилю было мрачное и холодное. Над Парижем моросил снег. Не доезжая до Парижа верстах в пятнадцати или двух немецких милях, в маленьком, но когда-то весьма оживленном городке Роменвиле, молодой человек, одетый в костюм неверующего, то есть в гороховую шинель с откидным воротником и широкими лацканами из черного сукна, шляпу с широкими полями, сапоги с отворотами, и с толстою суковатою палкою в руках, горячо спорил и торговался с пожилым французом в синей блузе и каком-то колпаке, величаемом им фригийской шапкой.
Дело шло о том, что молодой человек хотел нанять его довезти его до Парижа, тот соглашался, но просил за проезд столь невероятную цену, что молодой человек не хотел верить своим ушам.
– Помилуйте, ведь это смешно, нет не смешно, а глупо. Всего две немецких мили на какой-нибудь час с небольшим езды!
– Знаю хорошо, гражданин, что не более как две мили и что часа не пройдет и мы будем в Париже. У меня лошадка добрая и кормленая. А все говорю твердо: меньше двухсот франков не возьму, да и взять нельзя! Содержать лошадь в настоящее время, гражданин, не безделица, очень не безделица, потому: кто не потерял еще дворянской привычки – всех этих дворян разом в Сену или, ну, отдать палачам, пусть приготовят их чертям на выжигу – да, так: кто еще не потерял дворянской привычки "ездить", должен платить и хорошо платить! – объяснял француз.
– Уж верно у меня-то никакой дворянской привычки нет! – отвечал молодой человек, стараясь со своей стороны откреститься от дворянства, как от чумы.
В таком открещивании не было ничего удивительного. У него перед глазами торчали обгорелые развалины когда-то великолепного графского замка или маркиза, несколько веков украшавшего собой городок Роменвиль и только несколько недель назад разоренного и сожженного новыми демагогами, проповедующими равенство и братство и объявившими всех дворян подлежащими смертной казни, а их имущества – имущества-то чем виноваты – сожжению и уничтожению.
Городок Роменвиль был некогда любимым местом римских патрициев, приезжавших сюда из Рима управлять покоренной римским оружием Галлией. Они первыми начали украшать его солнечную, волнистую долину, вводя в ней культуру Италии и древней Греции. Некоторые из холмов его они засадили миртами и лаврами, которые принялись и в течение семнадцати веков акклиматизировались, разрослись и доселе украшали своей темноватой зеленью светлые воды его извилистой речки. После, во времена еще Меровингов, был возведен на степень маркизатства или графства, и один из графов Роменвиля, прямой потомок римского военоначальника, некогда командовавшего расположенным здесь римским легионом, будучи близок к тогдашнему палатному эру, употребил громадные средства на то, чтобы из Роменвиля сделать нечто подобное римским Байям или Капрере Тиверия. Его потомки сохраняли его благородную любовь к украшению своей земли, стараясь возвысить ее производительность, поднять культуру и украсить всеми чудесами искусства. Городок процветал. Он казался садом Армиды. Чего в нем не было? И дивные памятники искусства древней Греции, и миниатюрное, но со всею роскошью выполненное подражание римским термам, и портики Афин, и пагоды Индии, и киоски Китая.
И все это, накопленное и устроенное веками, было уничтожено, срублено, сломано, разбито в один день бесшабашным варварством, не сознающим, что труд уничтожения плодов векового труда есть не только преступление, но такое преступление, которое заслуживает проклятия.
Ввиду такого разрушения, вызванного одним словом "дворянское", естественно было от дворянства открещиваться.
– Ведь не у одних же дворян бывают срочные и специальные дела, не у одних дворян умирают родные, не одним дворянам достаются наследства и не одним дворянам нужно спешить! Вот я и не дворянин, но я спешу в Париж… – объяснял молодой человек как-то решительно, будто боясь проговориться.
– Да, дворяне спешат теперь больше из Парижа, – заметил француз. – И тут сказать нечего, они не скупятся… Сколько раз предлагали мне хорошие деньги за то, чтобы того или другого дворянчика оттуда вывезти. Но я патриот, хороший патриот, от подошвы до кончика волос, всегда от того отказывался. Я желаю, чтобы всех их скорей передушили, потому помогать дворянам ни за какие деньги не стану! Я хорошо помню, как в клубе при мне Робеспьер говорил, что пока существует дворянство, Франция стоит на вулкане…
– Но вы, гражданин, просите такую цену за провоз, что, полагаю, даже дворянин, привыкший бросать деньги, и тот бы задумался, а мне, бедному клерку в Меце, не из чего платить. Положим, что моя поездка в Париж дает мне надежду на значительное увеличение моего состояния. Я еду, чтобы застать в живых умирающую тетку и охранить от расхищения остающееся после нее, говорят, весьма значительное имущество, которому она сделала меня единственным наследником. И я готов платить и хорошо платить за ваш труд и беспокойство, но все же с разумом. А двести франков за две мили, ведь это сумасшествие! Вы подумайте!..
– Гражданин, декретом Конвента воспрещено говорить вы. Равенство и братство ведут к благополучию, какое же тут вы? Что же касается цены, то я прошу самую настоящую. Вот спросите у Жерома, правда, он на своей паре саврасок уже уехал, и теперь во всем Роменвиле только у одного меня есть лошадь, так что выходит одно из двух, брат, гражданин, или плати, или иди пешком!
– Самый братский ответ, особенно когда заявлено, что нужно ехать во что бы то ни стало! Но, но, что же делать? Скоро ли, по крайней мере, будет готово?
– Сию минуту, лошадь стоит в запряжке…
– Делать нечего, приходится уступить! Мне необходимо быть там сколь возможно скорей, и поневоле я должен согласиться, если вы, то есть ты, брат, гражданин, хочешь братски меня ограбить! Ну сто франков, согласись хоть на сто франков и вези, только скорее! За какие-нибудь полторы мили…
– Первое, не полторы мили… а полные две наберется, пожалуй, и с избытком. Потом свобода не допускает таксы на роскошь…
– Черт возьми, хороша роскошь: телега с лошадью…
– Все же лучше ехать на телеге, чем по этой грязи тащиться на своей паре ног. А лошадь у меня хорошая, и не увидишь, как к самому Лувру подкатим! Ну, была не была, давай задаток!
Чесменский – молодой человек, это был он – с видимым сожалением подал ему десятифранковый полулуидор. Француз схватил его с жадностью.
– Вы все такими деньгами будете платить? – спросил он, забывая о декрете, воспрещающем вы, и еще раз взглядывая на полученный им золотой, как бы не веря своим глазам, что у него в руках действительно золотая монета.
– Какими же? У меня нет других.
– А это другое дело, брат, гражданин. Тогда – не говорите же, что я хотел вас ограбить, я согласен взять за поездку только пятьдесят франков, но не иначе, чтобы платилось непременно такими же полулуидорами! Впрочем, ничего, мы возьмем и полные луидоры, если только они из чистого золота без обмана. Дело, что и говорить, все будет хорошее! За то я прокачу лихо, на славу! Только такими, именно такими, так что вы… (Француз опять забыл о декрете, воспрещающем вы) – мне платите, кроме выданного вами теперь задатка, еще четыре полулуидора или два полные луидора, но непременно чистыми золотыми монетами.
Француз, видимо, был несказанно обрадован полученной им платой. Прося непомерную цену за незначительную поездку, он рассчитывал, что ему заплатят ассигнациями, стоящими, однако, в то время еще не ниже, как только в 1/10 номинальной их стоимости, после они упали далеко ниже. Теперь же он, уступив даже три четверти из того, что просил, брал почти втрое дороже того, что сам желал получить, если бы ему заплатили ассигнациями. Разумеется, он был очень рад.
По прошествии четверти часа Чесменский во французской таратайке сидел рядом со своим возницей, ругающим наповал аристократов и все, что к ним относится, и буквально, можно сказать, катился в Париж по превосходно шоссированной и обсаженной плодовыми деревьями дороге в сторону, прямо противоположную заставе "ада", куда после они въехали.
Снег перестал падать, из-за темных кучевых облаков показалось солнце; стало светлее и теплее; тележка легко и скоро катилась.
Вдали с правой стороны показались башни аббатства Сен-Дени, справа на некотором возвышении виднелся Париж, тоже с башнями, будто вырастающими из тумана и зелени садов. Вот обсерватория виднеется из-за куполов Люксембургского дворца, вот башня Святого Якова, а вот и знаменитая Notre‑Dame. Издали все это кажется таким светлым, таким радостным.
Они ехали возвышенностями, поднимаясь все выше и выше к Парижу, потому перед глазами их расстилались чудные окрестности. Слева виднелся ясный очерк Сен—Жерве, а справа – окрестности Обервиля; перед глазами неподвижной, стальной полосой расстилалась Сена, за которой, вдали, оттенялся яркой зеленью Сен—Жерменский лес. Они ехали вокруг города, стараясь отыскать случай въехать в одну из застав Парижа так, чтобы быть незамеченным.
Чесменский был очарован рядом представляющихся ему видов; тем не менее он желал скорей быть на месте. Но француз убеждал его не торопиться, а ждать случая, заявляя, что его непременно примут за иностранца, как не уверяй, что он из Меца; а примут за иностранца, непременно арестуют и обберут.
Тогда и он, француз, лишится своего вознаграждения.
Чесменский против этого не возражал. Несколько часов, проведенных им под арестом в генерал-губернаторском доме, показались ему столь ужасными, что он не раз думал: "Лучше смерть, чем заключение". Но болтовня француза, рассыпающегося в ругани дворян и аристократов, ему страшно надоела, и ответ на его объяснение о тем, как, по рассказам его отца и деда, было здесь скверно ездить и как "тираны" устроили превосходное шоссе, идущее кругом Парижа до самого Версаля и захватывающее Нельи, так как там жила в то время королевская любовница, Чесменский не выдержал и сказал:
– Да! Зато этим тиранским шоссе вы теперь пользуетесь!
– Положим, что пользуемся! – отвечал француз. – Но ведь сколько труда… Тираны, просто как есть тираны!
– Труда, однако ж, оплаченного из их шкатулок?
– Да, только оплату-то они взяли с того же бедного народа!
– Но они имели полную свободу располагать этой оплатой по своему усмотрению?
– Что ж, что по усмотрению, все же тираны!
– Не было бы тиранов, не было бы и шоссе! – отрезал Чесменский, поддразнивая француза, потому что, несмотря на безрессорность таратайки, в которой они ехали, по гладкости дороги их почти не тряхнуло, и с ужасом вспоминая, как кидало его из стороны в сторону, когда он в покойной карете пробирался осенью по новгородским кочкам.
Но вот и Париж! Они успели въехать в его заставу "ада" вслед за толпой и пробрались, благодаря ловкости француза, как-то незаметно, так что на заставе их никто не остановил. Чесменский смотрел на все с любопытством. Его особенно поразила запущенность, грязь, темнота, даже будто какая-то приниженность великого города, на который Европа смотрела до того как на средоточие образованности, – столицу моды и вкуса целого мира. Большая часть домов с закрытыми ставнями, у некоторых были выбиты окна, попадались такие, которые были заколочены совсем наглухо, иные же были разрушены и красовались в развалинах. Вывески были сняты или отличались странным фразерством, вроде: «Продажа шляп свободы» или «Во имя братства: Сапоги!» Хлебные, мясные, зеленные лавки большею частью были раскрыты настежь, лари в них подняты, шкафы разбиты. Перед ними толпился народ, входил и выходил беспрепятственно, горячо рассуждая и размахивая руками. Видно, что в них не было ничего и что все рассуждения, весь пыл и горячка были напрасны. Можно отнять у человека все, что у него есть, но вызвать деятельность его ума насилием невозможно. На этом основании можно отнять у купца его товар, но никакими средствами нельзя заставить его продавать дешевле, чем он сам может его купить. И напрасны будут тут все таксы, все максимумы. Они поведут только к исчезновению товара. Этого-то простого естественного закона руководители революций в целом мире обыкновенно не могут усвоить.
Поразило также Чесменского необыкновенное многолюдство на улицах и отсутствие деятельности парижан. Казалось, все население города жило на улицах и только и делало, что сновало взад и вперед, не зная ни за что приняться, ни к чему приступить. Впрочем, он заметил, что в данную минуту стремление населения направлялось преимущественно в одну сторону. Вообще толпа, казалось, была чем-то особым ажитирована. Она шла горячась и жестикулируя с особой страстностью. Но это не остановило на себе внимание Чесменского. Он не заметил, что толпа эта идет не то с яростью, не то с любопытством. Его более поражала общая скудость, общая неряшливость, которыми толпа эта отличалась. Все были в каких-то хламидах, не то хитонах, не то блузах; женщины большею частью с голыми руками по самые плечи. Мужчины были одеты в епанчи по колено, изорванные и заплатанные, иные с голыми икрами и в деревянных башмаках. На головах у всех были весьма странные колпаки, похожие на тот, который он видел на своем вознице, на иных такой колпак украшался сосновой или дубовой веткой. Не только шелка или бархата, но и сукна не было видно ни на ком. Все, что ни шло, было одето в старый, грязный, изорванный демикотон, как его называли, хотя в нем не было шерсти ни шерстинки. Ни экипажа, ни богато одетого служителя, ни сколько-нибудь отличного от других, хотя бы только чистого костюма на улице, полной народа, не было; все было серо, темно, отвратительно…
Толпа шла горячась, бежала, шумела, ругалась с какими-то ломаньем, кривляньями, возгласами, будто сейчас вырвалась из тюрьмы или из сумасшедшего дома и становилась все теснее и теснее, и все более и более серою и оборванною.
– И это Париж, – подумал про себя Чесменский, – город вкуса и роскоши, город удовольствий! Нет! Это именно санкюлоты, будто бегущие на праздник смерти. Им надоело жить, и вот они рады празднику!..
– Да, рады празднику, – продолжал рассуждать про себя Чесменский, – рады смерти, как и я… Может быть, я, собственно, за тем сюда и приехал, потому что, сказать по правде, зачем мне жить? Мне, сыну отца, предавшего мать мою и меня самого прежде даже, чем я родился…
Возгласы и крики толпы прервали нить его мыслей. Он оглянулся, было видно только море голов, над которыми показывались иногда махающие, большей частью голые руки…








