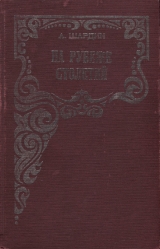
Текст книги "На рубеже столетий"
Автор книги: Петр Сухонин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Чесменский закрыл себе уши и убежал.
– Домой, домой, – говорил он, – прав был тот, ведомый на казнь жирондист, который обращаясь к муниципалитету и предводителям Горы, сказал: "Я умираю в тот день, когда народ потерял рассудок. Когда же он найдет его, в тот день умрете вы!" Правда, правда, но я не хочу этого дня ожидать. Все, что здесь творится, сумасшествие, видимое сумасшествие народное! Домой, домой!
И Чесменский в ту же ночь выехал из Парижа.
Глава 9. Опять дома
– У них просто-напросто, по русской поговорке, ум за разум зашел! Они все с ума сошли! Повально все до одного помешались! Боже мой, какое несчастие! Помешанный народ, явление небывалое в истории!
Это сказала Екатерина в своем рабочем кабинете, ранним утром перед затопленным собственноручно камином, прочитывая привезенные поздним вечером депеши о событиях в Париже, обозначившихся сентябрьскими убийствами, бегством, потом арестом короля и начавшимся против него в конвенте процессом.
– Не могу по справедливости не обвинить и Людовика, хотя и сожалею его душевно! – продолжала думать она про себя. – Нужны были меры решительные, твердые! Церемониться тут было нечего! Прямое дело государя такого повального помешательства не допускать! Если же где-либо оно обозначилось, то, что бы ни стало, распространение его остановить и самый корень уничтожить. Государь не имеет права оставлять без внимания и давать распространяться чуме, моровой язве и всему, что, переходя от одного к другому, может отравить собою всех. А такое сумасшествие, которым охвачены теперь французы, хуже чумы и опаснее всякой моральной язвы. Болтать, фразировать, под видом великих истин говорить общие места и гремучие банальности и потом желать эти банальности поставить законом – да это такое сумасшествие, перед которым артистическое сумасшествие Нерона, кровожадность Калигулы просто безделица. Перед ним бледность даже злодейства индейских тугов, помешанных на том, что убийство – дело богоугодное, что есть там какая-то богиня Бохвани, которая любит смерть. Там, по крайней мере, убийство касается одного, а здесь болтовня, оправдывая всех, незаметно приводит к всеобщей резне. В этом отношении люди до странности походят на стадо баранов. У тех один соскочит со скалы и за ним летит все стадо. Пастухам приходится становиться в голову стада и убивать передовых, чтобы спасти остающихся. Очень грустно, но что же делать, когда нет других средств спасения?
Екатерина думала это, делая отметки на полях донесения против тех мест, которые, по ее мнению, высказывали недостаточную твердость правительства и слабохарактерность короля.
– Хотеть предрешать судьбы человечества, более: хотеть назначить путь развития его мысли и требовать, чтобы человечество стремилось именно по этому пути, указывая на него в законодательном порядке. Ну как же общее народное помешательство, в котором ум зашел за разум. Да если бы могло явиться такое указание истинного пути к всеобщему благу, то оно могло явиться только в тиши кабинета, в голову ученого и философа, под наитием минут светлого и святого вдохновения; принималось бы, усваивалось последовательно массами, пока не перешло наконец в общее сознание, которое несомненно вызвало бы и общий закон. Но чтобы из палатных прений, из горячки волнующих страстей, могла исходить истина, точная математическая истина благоденствия человечества, это такой абсурд, который не заслуживает даже опровержений. И можно ли говорить о судьбах человечества, когда никто из нас не может хотя бы только близко предрешить своей собственной судьбы, вот хотя бы моей…
И Екатерина задумалась. Невольно мысли ее остановились на ее прошлом, на ее единой, невероятной судьбе. Великие умы любят поверять себя, любят рассматривать сделанные ими поступки в связи с последующими событиями. Екатерина любила такого рода соображения, любила находить связь между последующими и предыдущими и в этом последнем находить семена того, что впоследствии развилось, окрепло и принесло свой плод. Но как ни вдумывалась она в то, что окружало ее детство, как ни искала того зерна, из которого могло бы развиться и произрасти то, что с нею было, она не могла отыскать ни малейшего намека на возможность того, что случилось с ней в действительности. Маленькая принцесса какого-то маленького немецкого княжества, дочь прусского генерала, который только в королевской милости прусского двора надеялся иметь обеспечение за свою продолжительную службу, так как его дядя владетельный герцог Ангальт—Цербстский, после которого княжество должно было перейти к ней по отцу с его братом, весьма не благоволил к своим племянникам и беспрерывно угрожал женитьбой с целью лишения их наследства. А тогда что бы было? Бедность крайняя и тяжкая, тем более тяжкая, это соединялось бы с феодальным имением, налагающим известные обязанности и отношения.
– Такая маленькая принцесса, и государыня, носящая одну из первых корон в мире, повелительница тридцатипятимиллионного народа – народа доброго, умного, молодого, недавно разбуженного Петром Великим от византийской спячки, но уже успевшего доказать свою мощь, – государыня царствующая самобытно и самодержавно, представляет такую разницу, что искать одну в другой и ожидать, что одна перейдет в другую, было бы безумие, о котором смешно было говорить. Между тем все это стало, все это есть. Оно так сложилось, так устроилось, и я царствую, – думает она, – вот уже тридцать лет, и говорят: хорошо царствую!..
Рассказывают, впрочем, будто какая-то ворожея предсказала моей матери мою судьбу! – сказала себе Екатерина, улыбнувшись. – Но о таких предсказаниях обыкновенно напоминают, когда они сбудутся. А сколько таких, которых нечем вспомнить, потому что вместо счастия, богатства, славы, на которых ворожеи в своих обещаниях бывают не скупы, жизнь приносит только горе, бедность и страдания… Легко могло случиться, что и мне, несмотря на блестящее предсказание, выпала бы доля королевской птицы, как насмешники называют старых, обедневших принцесс, пропитывающихся единственно милостями своих сюзеренов.
Для меня такая карьера грозила быть особенно близкою. Двоюродный дед мой, владетельный князь Ангальт—Цербстский был хотя и не молод, но здоров и свеж и его угроза жениться назло племянникам: моему отцу и его старшему брату, могла легко исполниться. А тогда, по смерти отца, я вполне бы зависела от милости прусского короля, так как и в том ничтожном доходе, который бы княжество нам отпускало, как родственникам их сюзеренов в третьем колене, львиную долю имел бы мой брат и моя мать; я же должна была бы довольствоваться чуть ли не нищенским остатком. Ну, а прусский король немного бы, я думаю, на меня расщедрился…
Но в то же время я, тринадцатилетняя девушка, ни о чем таком не думала. Мои стремления, желания и мечты были просты и естественны, как мечты ребенка. Сперва, помню, меня очень занимало то, что я лучше всех знаю по-французски, что ко мне нередко обращаются с вопросами как то или другое перевести, как то или другое выразить. Потом мне нравилось, что я рисую цветы на фарфоре или бархате, как живые, что все любуются моими работами и что вообще женские работы у меня будто кипят в руках, наконец, мне нравилось, что многие говорили, что я недурна, особенно говорили, что в выражении моего лица много энергии…
Но вот я становилась старше, и мне страшно хотелось быть представленной прусскому двору. Я мечтала о том, как повезут меня в Берлин, там сошьют платье из венецианской материи, затканной серебром. Я мечтала, как в этом именно платье, разумеется после представления королю, меня, украсив цветами и по возможности бриллиантами, повезут на бал "рыцарского дома". Там я буду танцевать только с лицами высокопоставленными. Об этом фатер и мутер непременно позаботятся заблаговременно. Правда, может случиться, что мне придется танцевать с людьми, у которых голова будет глаже ладони или у которых седина будет светиться даже из-под пудры. "Но разве не все это равно, с кем танцевать, – думала тринадцатилетняя девушка, – говорит о себе Екатерина, – только бы танцевать!"
– Во время танцев, помню, – вспомнила она про себя, – я воображала, что все мной любуются, все приходят в восторг от молоденькой принцессы, которая так мило потупляет глазки от любезностей своего седовласого кавалера…
"Все находят, что я очень хороша, – мечтала я, – думала Екатерина – и хорошо держу себя. Даже сам король, сам великий жрец не выдержит, – думала я про себя и подойдет просить меня танцевать с ним".
Разумеется, мечты вырастающей девочки не могли на этом остановиться. Несмотря на примеры моей матери, которая, говорят, была хорошенькая, несравненно лучше меня, тем не менее она, едва ли восемнадцати лет, должна была выйти замуж за пятидесятилетнего генерала только потому, что генерал этот был принц и ему могла после смерти дяди достаться половина маленького княжества, а относительно себя не могла представить иного положения, что для меня непременно должен найтись какой-нибудь немецкий принц, молодой, прекрасный, великодушный, который влюбится в меня до безумия и с разрешения моих отца и матери соединит свою судьбу с моей… И вот тогда, думала я, с этим-то очаровательным принцем входимым в чертоги, назначенные для нас, и в садах, наполненных розами и соловьями, насладимся взаимным счастьем, хотя, из чего могло состоять это счастье, я никак не могла представить.
Напрасно тут перед моими глазами вертелся беспрерывно Иван Иванович Бецкий; напрасно кругом меня рассыпались намеки, двусмысленности и разные намеки, высказывающие и объясняющие так или иначе несоответственность выхода замуж шестнадцатилетней девочки за пятидесятилетнего старика; причем обыкновенно объяснялись и вообще затруднения в выходе замуж за кого бы то ни было бедной немецкой принцессе. Я не слушала никого и ничего. Лучше сказать, я ничего не понимала и не верила. Я верила в свою судьбу и думала, что появление великодушного принца столь же несомненно, как несомненно мое существование, хотя стоило только взглянуть в готский календарь, чтобы убедиться, что такого принца нет и явиться ему неоткуда.
Но какой бы мечтой я себя ни тешила, что бы такое я себе ни представляла, дело оттого нисколько не подвигалось вперед. Разрешения на представление меня прусскому двору не было, венецианского с серебром платья мне не шили и в Берлин не везли. Я могла только тешить свое самолюбие, поправляя французские письма самого генерал-губернатора и действительно не встречая по искусству в женских работах себе соперницы.
Вдруг прусскому Фрицу вздумалось, нельзя ли как со стороны России предотвратить угрозу, разразившуюся потом в Семилетней войне, и я попала в политику… Вслед за тем, будто из-под земли, явилось передо мной и венецианское с серебром платье, и поездка в Берлин, и другие приманки моего молодого, почти детского тщеславия. Я была как в чаду, упоена и отуманена; и действительно, в конце концов попала в чертог, только жених-то мой был, увы, уж вовсе не такой, каким я себе его представила!
Меня многие упрекают в легкомыслии, сравнивают с Анной Австрийской, Елизаветой Английской, готовы видеть во мне знаменитую Клеопатру, готовы уверять, что я современная Мессалина. Удивляюсь, как еще не приравнивают ко мне Лукрецию Борджиа. Но думают ли эти господа, мои хулители, о том, что они говорят, и о том, с кем сравнивают. Семь лет жила я с мужем чистой голубицей, даже без мысли о том, что могло бы коснуться моего имени. Между тем в искателях и ухаживателях, кажется, не было недостатка… Впрочем, клевета и тогда не дремала. Бывало, если случится мне перекинуть с кем-нибудь несколько лишних слов, государыня императрица уж и спрашивает: что это такое? Но всякая клевета должна была смолкнуть перед твердостью моей несомненной чистоты.
Тогда, видя меня с этой стороны неуязвимою, придворная интрига выдумала новый способ меня преследовать. Мою неприступность стали объяснять моей холодностью, начали говорить, что как женщина я никуда не гожусь и оттолкнула от себя мужа своей ледяной холодностью. Стали уверять государыню, что я не женщина, а рыба… И это они говорили обо мне… Не знали они, враги мои, того, что, бывало, ночи напролет проплакивала я от той, прикрытой этикетом, холодности, которою окружила меня нелюбовь моего супруга…
Императрица потребовала нашего сближения, опираясь в своем требовании на государственную необходимость. Я не отрицалась, и это сближение произошло под ее непосредственным наблюдением, при общем, можно сказать, шпионстве за каждым шагом, за каждым шагом моим. Результатом этого сближения и был наследник русского престола.
Злоязычие и тут готово было бросить на меня тень, но должно было смолкнуть перед очевидностью.
В это время мой благоверный супруг, сблизившись с одною из фрейлин государыни и как нарочно с тою, которая была хуже всех, беспрерывно колол мне глаза своим сближением. Его Романовна не сходила у него с языка, кстати и не кстати давал он мне чувствовать, что он мной не дорожит, что у него есть Романовна. Что оставалось делать молодой страстной женщине двадцати трех лет? Поневоле пришлось вспомнить свою мать и Ивана Ивановича Бецкого…
Но я не была так счастлива, как моя мать, я не нашла подле себя человека, на взаимность чувства которого я бы могла полагаться. Когда же такой человек встретился в Григории Григорьевиче Орлове, то я была ему неизменно предана, неизменно верна и даже отчасти неизменно послушна в течение двенадцати лет, несмотря на его бешеный, можно сказать, дикий характер и выходки, весьма близкие к сумасшествию. Хороша Клеопатра, хороша Мессалина, двенадцать лет сряду воркующая со своим голубком, хотя этот голубок в ярости, в минуты ража, бывает бешенее альпийского вола.
Будь я частная женщина, без сомнений мое сближение с Орловым продолжалось бы целую жизнь. Я бы постаралась моею скромностью предупреждать его выходки и силою любви своей ослаблять их. Мы были бы, по всей вероятности, счастливы своею взаимностью, хотя недостатки его воспитания иногда и заставляли меня морщиться. Он был рыцарь чести, идеал добра и нисколько не виноват в тех разных штучках, которые, прикрываясь его именем, творил его брат Алексей. Да, в частной жизни я могла бы быть счастливою даже с таким неукротимым человеком, каков был князь Григорий Григорьевич. Но я была государыня. Я была обязана в иных случаях держать себя в известных пределах, становиться в определенные отношения. А он в минуты своего болезненного ража, с каждым годом усиливающегося, ничего знать не хотел. Поневоле нужно было разойтись, и это было мне так тяжко, так тяжко, что я с трудом победила себя.
Но все же, вспоминая это время, я не могу не сознать, что бывали минуты, когда я была с ним счастлива. В его преданности мне, в его рыцарском мужестве и благородстве, наконец, в изобретательности его ума я находила себе мужскую опору, которой не может не ценить и не дорожить всякая любящая женщина.
Молодая женщина за тридцать лет, испытав несколько мгновений истинного счастья и наслаждения с любимым человеком, не может довольствоваться только воспоминаниями этих минут. Тому воспротивится и нравственная, и физическая ее природа; особливо, если она будет окружена всем блеском роскоши и полнотою довольства, как была окружена я, и при совершенной независимости. От такой женщины нельзя требовать аскетизма рыбы! Волей-неволей мысль ее ищет, воображение представляет, а чувства желают найти тот нравственный и физический идеал, в котором замечались бы все достоинства былого друга и не было бы ни одного из его недостатков.
Но судьба была ко мне милостива. Она не захотела бесплодно томить мою мысль и показала возможность существования на земле такого идеала. Судьба, можно сказать, захотела показать мне небо в совершенстве человечества. Таким явился передо мной и до сих пор представляется в моем воображении князь Петр Михайлович Голицын.
И красота необыкновенная, и ум светлый, образованность блестящая, а характер, сдержанность, мужественность, таланты настолько ставили его выше обыкновенного человечества, что вызывалось ему невольное, общее поклонение. И я невольно готова была перед ним преклониться, готова была сознать, что мое счастье в нем, в этом идеале добра и света.
Но, видно, грешна я перед Богом, и Господь, дав мне власть, окружив меня всем, о чем могла только мечтать женщина в моем положении, не захотел благословить меня счастьем высокой взаимной любви. Судьба, показав мне мой идеал, сейчас же скрыла, сейчас же отняла его. Он пал на какой-то непонятной дуэли, сраженный какой-то темной рукой…
Но могли ли раскаленные мечты мои прекратиться за смертью Голицына? Ни в коем случае! Молодые вдовы, потерявшие любимых мужей, поймут меня. Они знают, как мучительны иногда представления воображения, как томят они, мучат, туманят до опьянения, до галлюцинации. Желание вновь встретить тот идеал, который рисуется воображению, надежда сойтись с ним становится болезнью, заставляет ни о чем не думать, как только о нем, заставляет беспрерывно мечтать о нем, его искать. А такого рода думы, раскаляемые силой своего представления, невольно увлекают, невольно заставляют видеть человека не таким, каков он есть в действительности, а таким, каким рисует его нам наше воображение.
Удивительно ли, что и я отдавалась силе своего воображения, что и я хотела найти человека, каким осязательно представился он мне в образе Петра Михайловича, наконец, что и я ошиблась, как ошибаются многие. В моем положении ошибиться было легче, чем кому бы то ни было, потому что всякий старается представиться передо мной со своей лучшей стороны. Потому естественно, что вместо человека, способного осчастливить меня величием своих чувств и глубиною мысли, я нападала на искателей приключений, ищущих подачки и рассчитывающих на слабость женской натуры, хотя бы эта женщина и была государыня. Само собой разумеется, что самою алчностью своею они отталкивали от себя любящую женщину, и я вначале, сознавая свою ошибку, бросала им желаемую ими подачку и желала только одного, чтобы они пропадали с глаз моих. Но что же такое все они были? Ошибки увлечения в искании идеала!
Из них выделялся один, имевший на меня во все мое царствование громадное, неотразимое влияние. Я говорю о Григории Александровиче Потемкине. Этот человек всю жизнь свою был для меня загадкой. Даже теперь, разбирая его, думаю, и не в силах определить, что такое он был. То гениальный, то мелочный и пустой, то возвышенный до идеала, то ничтожный, тщеславный и ленивый даже до грязи, он все время играл роль сфинкса, предлагающего неразрешимые вопросы, и умер так же загадочно, как и жил. Бывало, иногда является он передо мной олицетворением безграничной преданности; другой раз представлял тип прямого, отъявленного эгоиста, который ради блага целого мира не откажется от кончика своих длинных и частью обгрызанных ногтей. Иногда глубокая, преданная почтительность была как бы его прирожденным свойством, иногда же он позволял себе дать чувствовать как бы свое пренебрежение. Смешно сказать, но иногда, право, я будто его боялась. В нем была какая-то особая сила властности, непонятная повелительность, прирожденное барство. Но такая повелительность, барство исходили у него не из источника света. Нет, его мысль, его голова были темное царство; я чувствовала невольно, что Потемкин в моей жизни был как бы князь тьмы. Может быть, этой темнотой своей он меня и притягивал, так что много лет ни влияние других, ни собственная самостоятельность не могли разрушить то обаяние, которым он меня окружил. Много лет вне его влияния я не имела ни мысли, ни желания. В моих глазах он изменялся как хамелеон, являясь чуть ли не каждый день в новом виде, с новыми предложениями, указаниями и удовольствиями. Эти предложения не всегда опирались на требования справедливости, и нравственности, но всегда были занимательны, всегда возбуждали мое любопытство. Случалось, однако ж, что я не соглашалась с ним, он и не думал спорить, отшучивался, но и в шутке старался меня соблазнить своей увлекательностью или новостью. Да, сказать нечего, он умел быть занимательным…
Но ведь все это было только мираж, только обман чувств. В Потемкине не было того, что единственно может составить собой счастье женщины: не было того теплого, задушевного чувства, которое дороже всего на свете. Что же делать, может быть, я не встретила такого чувства, потому что и у самой меня его не было, нельзя желать всего. Я хотела царствовать и царствую!
Видит Бог, что я не жалела ни себя, ни трудов своих, не пренебрегала ничем, чтобы сделать царствование мое не бесплодным; чтобы разлить в моем народе довольство, спокойствие, возвысить его общее благосостояние. Я старалась вести его по пути просвещения, уничтожать предрассудки, суеверие, воровство. Не жалела я для того, опять повторю, ни труда, ни мысли. И если не достигла того, что хотела, то оттого, что встречала иногда противодействие от тех самых, которым хотела благодетельствовать. Но, посвящая себя людям, я не могла стать выше слабостей человеческих, не могла отказаться от своей женской природы. Прах остается прахом, земля землей – на какую бы высоту вы их не подняли!
Потому и именно потому мне казалось всегда, что я всем готова была пожертвовать за один миг того истинного счастья, той чистой любви, в которой душа стремится отделиться от тела и слиться с другой родственной душой, дающей блаженство, дающей рай той небесной любви, которой любят друг друга ангелы. Когда я встретила князя Петра Михайловича, моему сыну было уже семнадцать лет. Я невольно начинала думать, что под моим руководством я могу возложить на него управление. Я хотела сохранить за собой только право всепрощения и благотворительности… Но против судьбы не смела восставать даже древняя мифология. Судьба отняла его у меня. Его не стало, моего светлого идеала, моего ангела, и я попала под влияние Потемкина, поддалась власти соблазнительного Аримана, который, именно как сам соблазн, умел впиться во все мои способности, угадать все желания, направляя их на все земное, на все человеческое, что питало мою суетность, льстило страстям… Он требовал от меня только одного, чтобы я царствовала, и я подчинялась его влиянию!
Таким образом, моя жизнь как женщины была разбита, мне оставалось только царство. Изменить что-либо теперь уже поздно. Жизнь прожита. Теперь, спрашиваю, чего же хотят от меня эти Новиковы, Салтыковы, Лопухины, Гавриловы, составляя разные тайные общества, внося французскую заразу в русскую жизнь и под видом просвещения разливая отраву. Неужели они не понимают, что под видом религиозности они распространяют мистицизм и суеверие, под видом гуманности уничтожают самобытность народности? Неужели они не видят, что их затеи ведут к разделению, розни, взаимному озлоблению?.. Но они встретят меня на страже, встретят во всеоружии государыни. Они не найдут во мне колебаний французского Людовика. Я дам отпор, грозный отпор самодержицы, твердо стоящей за себя и народ свой!
На часах пробило девять, и государыня позвонила.








