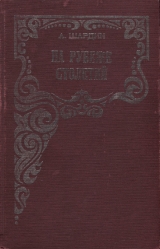
Текст книги "На рубеже столетий"
Автор книги: Петр Сухонин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 27 страниц)
Екатерина прервала его горячее слово вопросом:
– Разве ты не говорил, Чесменский, о своем тесном положении с князем Александром Алексеевичем Вяземским или с графиней Татьяной Григорьевной Чернышевой, твоими крестными.
– С князем Александром Алексеевичем Вяземским я говорил, ваше величество. Он сказал, что мое положение зависит непосредственно от ваших милостей и что если вы изволите находить, что оно должно быть в таком виде, в каком есть, то это есть непосредственно высочайшая ваша воля и что тут он ничего сделать не может!
– Правда, не любит он говорить о том, что не касается его лично, а графиня Татьяна Григорьевна?
– С ней я не говорил, ваше величество. Но вы не изволите поверить, как после различных ласк, внимания и любезности трудно говорить о насущном хлебе!
– Да, я понимаю это, – раздумывая, сказала Екатерина. – И вот вы ввиду этой тяжести жизни…
– Усиленной еще и другой стороной моего фальшивого положения!
– Это еще что?
– Мое дворянство неизвестного происхождения!.. Всемилостивейшая государыня, – промолчав несколько секунд, продолжал Чесменский. – Пока человек живет в обществе между людьми, понятно, он невольно подчиняется взглядам и обычаям, в этом обществе принятым. А в кружке, в котором поневоле я должен был обращаться, первый вопрос о человеке был – его происхождение. Я вовсе не желал бы, чтобы мое положение определялось заслугами отца или деда, напротив, я хотел бы быть всем обязанным самому себе, но для того нужна была мне иная деятельность, иное общество. Здесь же я был в ряду каких-то амфибиев, которые вертятся в кругу родовых людей, не принадлежа ни к какому роду. Потому, встречая отовсюду внимание, как офицер гвардии вашего величества, я видел неодолимый отпор ту же минуту, как только начинал искать с кем-либо сближений. Для меня это положение было столь тяжко, столь невыносимо ввиду того, что ведь я человек же и могу желать сблизиться…
– Говорите откровенно! Вам хотелось сблизиться с моей фрейлиной, Наденькой Ильиной!
– Не смею ни в чем таиться перед вашим величеством! Эта девица своей игривостью и миловидностью произвела на меня неотразимое впечатление, но независимо от нее, гнет, производимый взглядом родовых начал, был для меня столь тяжел, что я решился во что бы то ни стало от него уклониться. В этих мыслях я позволил себе оказать непослушание вашей высочайшей воле и выбрать для дуэли своим оружием шпагу. Я знал, что Гагарин владеет шпагой в совершенстве и не может меня не проколоть чуть ли не первым выпадом. Но и тут неудача, он вдруг объявил, что так как дуэль идет вразрез высочайшей вашего императорского величества воле, то он, не найдя средств отклонить мой вызов, будет только защищаться. Такое презрение, высказанное мне явно, не могло не вызвать моего желания употребить все мои силы на то, чтобы проколоть его насквозь! И не из ненависти к Гагарину, но из ненависти к своей собственной жизни. Не удалось, что же делать?
– Вас взяли, и вы бежали?
– Да, ваше величество, – бежал! Я думал: не удалось умереть, не удастся ли жить, но жизнью новою, независимою, в которой не напоминалось бы ничего прошлого, кроме только одной мести за мою мать…
– Вы не могли бежать без помощи, кто же помогал вам? – И Екатерина опять смотрела на Чесменского подозрительно.
Но Чесменский отвечал ей тем же ясным и чистым взглядом. Видимо, что ему делать было нечего, и он не желал ничего от нее скрывать.
– К бегству мне помогли иллюминаты! Камеристка моей матери, сидевшая в тюрьме и принявшая ее последний вздох, Мешеде, странная, полубольная, была иллюминатка. Она нашла какого-то их всесильного человека, графа Амаранта. При помощи его и его товарища мне удалось бежать через генерал-губернаторские комнаты во время бала.
– Графа Амаранта? – проговорила Екатерина. – Я такого графа не знаю!
– Иллюминаты большею частью носят в обществе вымышленные имена, и никто из членов не знает, кто они в действительности.
– И вы решились довериться совершенно неизвестным людям?
– Ввиду той ненависти и злобы, с которой, меня заверили, мой отец желает моей гибели, мне ничего более не оставалось…
– И затем, освобожденные помощью иллюминатов, вы сами решились поступить в их общество?
– Для меня был единственный исход жизни. Притом мне казались цели их столь благородны, столь возвышенны, что думалось: всякий, в ком бьется человеческое сердце, должен в число их поступить. Я был масон, всемилостивейшая государыня, а правила иллюминатов настолько совпадают с целью масонства, что мне даже на минуту не могло прийти в голову какое-либо сомнение.
– Из чего состоит иллюминатство, какая цель его и средства и чего оно помогает достигнуть? – спросила государыня, смотря на Чесменского внимательно. Но Чесменский отвечал опять с той же ясностью и откровенностью, с какою мог говорить только человек, готовый ознакомить государыню со всем, что, по крайней мере, ему самому было известно.
– Цель его – просвещение, снятие с разума всех пут суеверия, предрассудков, невежества и лжи. Иллюминат обязан всеми мерами стремиться достигнуть того, чтобы царствовали справедливость, разум и просвещение!
– Э, Боже мой, кто этого не хочет! А средства?
– Средства, прежде всего, пожертвования со стороны членов общества, по мере состояния и возможности каждого; потом, полное самоотрицание в исполнении предписаний никем не видимого и не знаемого трибунала, наконец, распоряжения этого трибунала, соответственные времени и случаю!
– Гм! Полное самоотрицание в исполнении предписаний! – медленно, сквозь зубы повторила Екатерина. – Это прямое противоречие разумности, смыслу – противоречие и масонству, предлагающему послушание, если оно не противоречит общим чувствам человеколюбия и разумности и прямому смыслу отечественных законов! – Сказав это, Екатерина как-то сверкнула взглядом своих оживленных глаз. После глаза ее становились туманнее, становились как бы стеклянными, но вдруг просветлели, останавливаясь на Чесменском с полною благосклонностью. – Молодой друг, молодой друг, – сказала она, покачивая своей головой. – Вот что значит самодеянная неопытность! Нельзя не указать тебе на это! Подумай! Ты вступаешь в общество и принимаешь на себя обязанность безусловного повиновения, тогда как не знаешь даже того, не отдадут ли тебе такого приказания, от которого волосы станут дыбом, от которого возбудится вся внутренность твоя, всякое чувство твоего человеческого достоинства. Это уже не масонство, которое подчиняет тебя законам твоего Отечества; это власть вне власти. Подумай! Тебя могут заставить быть убийцею, вором – человеком, изменяющим самым священным требованиям души твоей. Наконец, твой трибунал может тебе приказать что-нибудь сделать как раз прямо вразрез твоим отечественным законам и в явный вред твоему Отечеству. Тогда подумай, в какое положение ты себя ставишь? Если ты находишься вне Отечества, то, принимая приказания твоего трибунала, ты нарушитель законов своего Отечества, изменник, возмутитель; если же ты в самом Отечестве, то твоя присяга избранному тобою обществу есть учреждение в государстве государства. Ты в свое отечественное управление вводишь чужую власть, которую ставишь выше узаконенной, признанной, посвященной. Ты хуже бунтовщика и возмутителя, потому что ты опаснее их. С погашением бунта бунтовщики и возмутители исчезают, а подземная власть, которая непременно идет вразрез властям существующим, остается. Для такого преступления – мало смертной казни, сказала бы я, если бы можно было что-нибудь подобное говорить… Но я не велю казнить тебя, Чесменский, хотя действительно ты заслужил казнь! Я принимаю в соображение твою молодость и неопытность и тесное положение, которое мне не было известно и о котором я не могла даже предполагать. Принимаю, наконец, во внимание твою явку и искреннее раскаяние. Но не могу я вовсе простить тебя. Это противоречило бы моему принципу справедливости. Я подумаю, что с тобой сделать, а пока – ты убежал из генерал-губернаторского дома, я арестую тебя в своем дворце. У тебя не будет караульных. Караулить себя ты должен сам, на своем честном офицерском слове. Общий же надзор я поручаю церемониймейстеру Гагарину, которого ты так настойчиво желал убить. Можешь идти. Я пришлю еще за тобой, как надумаюсь, а теперь ступай. Твое помещение покажет тебе старик Зотов.
Чесменскому ничего не оставалось делать, как идти вслед за Зотовым, явившимся на звонок государыни.
"Что бы такое, зачем бы? – спрашивал себя граф Алексей Григорьевич, разваливаясь в дормезе один и несясь во весь дух на двадцати лошадях по дороге в Петербург. – Должно быть, нужное, спешное, – продолжал он про себя. – Хорошо, если ничего худого, а то ведь этот новый случай, новый светлейший, говорят, мастер устраивать сюрпризы".
И Алексей Григорьевич, видимо, забеспокоился. Дело в том, что в Екатерине он был уверен. Знал, что за него стоит перед ней не одна заслуга. Но он также знал, что во многом и многом у него рыльце в пушку. Государыня во внимание его заслуг и в память его брата ничего этого не захочет знать – так! Да новый-то случай любит сюрпризы, и, пожалуй, такой поднесет, что и не опомнишься; за двадцать лет назад какую-нибудь историю выкопает.
"Хотя, кажется, мы свое дело знаем, – продолжал Орлов про себя, как только ему пришла эта мысль о новом случае. – В чем можно, кажется, сами улещаем и не задумываемся! Нарочно вон с соседом тяжбу затеял, сто десятин оттягиваю. Тот вопит: ваше сиятельство, за что обижать изволите? А я в ответ: молчи, сыч! Я тебя не обижу, землю-то, правда, отниму, да тебе же ее и подарю. На черта она мне?
– Так зачем же?
– Не твое дело зачем, стало, так нужно! Будет с тебя и того, что не поплатишься! А тяжбу я затеял ради того, чтобы был случай батюшку-то этих случайных людей чем покормить да дать кое-чем попользоваться. Само собой дело несправедливое, да ведь от того никому убытку не будет. Сыч будет в барыше даже, так о чем же говорить? Сыч и молчит, выиграю я дело, ему же лучше! Будет и с землей и с деньгами.
Впрочем, и сам, нами кажется, должен бы быть доволен. Всякое то есть уважение делаем! Ломайся, дескать, вволю и пользуйся чем Бог послал, похвалил собаку – послал собаку, а чтобы не очень суха показалась, ошейник велел бриллиантами украсить. Похвалил лошадь – и ту послал, а на чепраке-то вышита ветка сливы из изумрудов и яхонтов. Дескать, езди на лошади, любуйся на собаку, а пользуйся чепраком и ошейником.
Кажется, на что претендовать! Мало, так еще скажи что. А впрочем, черт его знает, может, все не в угод!"
Еще более сконфузило графа Алексея Григорьевича приказание государыни, переданное ему на заставе, чтобы прямо ехал в Зимний дворец, не заезжая в собственный дом.
– Делать нечего, поедем! – сказал граф Алексей Григорьевич. – Только что бы такое?
Глава 3. И он разнежился
Все это время государыня вела очень тонкий разговор с юношей Чесменским о его похождениях за границей. Ей хотелось ознакомиться с настроением умов в Париже, вообще стремлениями французского общества, и тем направлением, какое неминуемо должна была принять революция после казни короля.
– Такой заразе французского духа нельзя давать распространяться! – говорила Екатерина. – Это яд, это отрава, от которой страдает весь французский народ! Я должна спасти Россию от подобного сумасшествия, в котором фраза заменяет разум, а мираж – истину!
И она расспрашивала Чесменского о всех подробностях революции, о всех толках, противоречиях и увлечениях, какими те или другие явления революции сопровождались. Наконец, Екатерине любопытно было узнать, какое влияние на развитие революции и ее ход могли играть различные тайные общества, воззрения разных сенаторских кружков и мнения отдельных членов, рассматривающих вопрос не только с отвлеченной, но и с практической точки зрения. Ей хотелось определить, до какой степени все эти противоречащие одно другому мнения и воззрения могут, через Среднюю Европу, иметь влияние на Россию.
Екатерина была очень довольна, что нашла в Чесменском мальчика толкового, сметливого и рассуждающего, она говорила с ним с удовольствием.
– Так они думали соединить все управления тайных обществ и дать этим единство их направлению? Не явное ли стремление создать власть от государственной власти независимую, то есть образовать рознь, вражду, противодействие там, где должно быть полное единство и согласие? И они послали вас говорить об этом и условливаться с Клоотцем?
– Точно так, ваше величество, они представляли себе Клоотца человеком всеобъемлющим, с шириною взгляда, быстротой соображения, необъятностью мысли!..
– А по-вашему Клоотц?
– По-моему, государыня, просто полупомешанный идиот. Он разделил земной глобус на сколько-то тысяч квадратиков и считает все эти квадратики департаментами Франции. Первый департамент у него, таким образом, начинается с северных отрогов Уральского каменного хребта и называется Обо—Печорский. Есть департаменты: Невский, Стокгольмский, Московский, Берлинский, Гамбургский. Все это, по его мнению, должна быть Франция, должна говорить одним языком, исповедовать один разум, управляться одними законами. И это должно последовать само, сейчас, по разуму самих народов…
– Если бы разум народов нашел бы, что для них всего лучше быть французами, то… О! Тогда бы, пожалуй, он был прав! Назвался груздем, полезай в кузов! – улыбнувшись, сказала Екатерина.
– Но это невозможно, всемилостивейшая государыня. Каким образом лапландца или вагулича обратить во француза?
– Да, – задумавшись, проговорила государыня, вглядываясь в ясный взгляд Чесменского, в котором, видимо, не было задней мысли. – Потому-то все эти утопии, весь этот мираж благоденствия человечества, прославляемый фразерами вроде Клоотца, Хондорсэ, Бриссо и других, ничего более как ложь, обман или просто детская химера. В них нет главного: нет жизненности, нет правды! Нет той истинной разумности, которая могла бы дать начало практической мысли. Все это болтовня, и ничего более! На чем же ваши переговоры с их великим Анархарсисом остановились?
– Смешная вещь, государыня: на том, что он затруднился решением, за какими номерами следует заносить департаменты Америки и Индии, чтобы из них образовать тоже Францию. Он обещал строго обдумать этот предмет и тогда написать.
– Это хорошо! Очень похоже на одного из воинов, который никак не хотел включить в диспозицию сражения против герцога Зюндерманландского пехотный Тарутинский полк, потому что у него не были еще на мундире нашиты белые обшлага, как это требовалось последним утверждением формы.
– Вроде этого, ваше величество, последовало и решение Клоотца, с тою только разницею, что там оберегался полк, хоть и с красными обшлагами, а здесь должны были исписаться стопы бумаги соображениями, по которым лились бы, может быть, потом потоки крови. Но по счастью, как вы изволите знать, писать Клоотцу много не удалось. За убийствами, производимыми его товарищами, ему и самому досталось сложить свою голову. Робеспьер и его, и Дантона признал опасными для Франции.
– В том-то и дело, что каждое политическое убийство ведет неминуемо за собой десять новых, а эти каждое, в свою очередь, вызывают десять других. И так без конца, до самых крайних пределов террора. Но ты видел Париж, Чесменский, – что в нем делают, что в нем думают?
– О Париже, ваше величество, я не умею ничего сказать! Это, можно сказать, опьянелая, ошалелая, обезумевшая толпа, бегущая, суетящаяся, ищущая чего-то, а чего, она сама не знает.
В опьянении от революционных страстей, потом под впечатлением ужаса, распространяемого террором, Париж, кажется, отказался от самого себя. Сперва, увлекаясь фразерством своих клубных ораторов, которые, впрочем, ничего не говорили, чего бы не было у Руссо, д'Аламбера, Сен—Пьера, Вольтера, Кребильона и Гельвеция, Париж, в самом деле, думал, что народное благо, общее благосостояние достигается просто уничтожением родовых привилегий и отличий.
Последовала декларация человеческих прав, и в мираже самообольщения Париж думал, что он достиг всего, что немедленно начнется золотой век земного рая. "Всему виной тираны, – кричала толпа, – всех отравило разлитое ими в народе рабство!"
Уничтожим тиранов, уничтожим всех графов, герцогов и кавалеров и станем братьями.
– Да, да! – отвечают другие. – К черту аристократию! Нам не нужна она! Она нарушает равенство, она стесняет свободу! Да здравствует же свобода, равенство и братство! Будем жить дружно, братски, как один человек…
И вот все родовые отличия уничтожены; равенство полное, абсолютное вступило во все права. Но что же? Видят, что не только общего блага, не только братского согласия не разлилось и не установилось, но, напротив, всем стало жить как-то труднее, покоя и равенства стало далеко меньше, а злоба и зависть будто росли у всех на глазах. Всем пришлось тесниться, сжиматься, терпеть недостаток в самых первых потребностях жизни и, главное, каждый день бояться за самих себя.
Вожаки революции сначала не знали, что и сказать, что и думать. А как сказать что-нибудь все же было нужно, то сперва они начали обвинять во всем ту же аристократию, которой уже не было, а потом заявили, что всему виной скупщики, барышники, торговцы… Начался период такс, максимов, насильственного обращения ассигнаций и разных бумаг. Одним словом, началось преследование капитала. Капитал, естественно, исчез вслед за аристократией. Скупщики и барышники пропали. Кругом остались только одни бедняки. Общая бедность вызвала самые низкие инстинкты. Зависть и злоба начали уже грызть всех. И затем является вопящая, голодная, злодействующая толпа санкюлотов, которая в опьянении от своих злодейств требует для себя только казней и хлеба. Она более ничего не желает и не понимает и по своим зверским инстинктам не может понимать.
Казней ей дают сколько угодно, а хлеба нет. Новый повод волнениям. Не приведи Бог видеть где-нибудь и что-нибудь подобное нынешнему Парижу, во всей распущенности его разнузданных страстей. Промышленность стала, производительность замерла, торговля не существует. Вы поверите, государыня! Умирают, можно сказать, с голоду, а толпятся между трибунами, болтают в клубах, смотрят казни, и никто не делает ничего!
– Естественно, – задумавшись, проговорила Екатерина как бы про себя. – Капитал, угрожаемый насилием, скрылся, и не стало разума труда!
Потом она встала, прошлась по кабинету и села опять, заставив опять сесть и Чесменского, который тоже встал было.
– Вот видишь, Чесменский, – сказала она, начав рассуждать скорей про себя, чем для объяснения слушающему. – Капитал – это гнет труда, самый жесткий, бессердечный гнет, но капитал же с тем вместе и разум труда и его сила. Он и только он может оживлять и направлять труд. Дать капиталу преобладание – значит задушить труд, обратить лиц, посвящающих себя ему, в вечных тружеников-мучеников; создать тех, более чем рабов – илотов Спарты, париев Индии, которых вечное бедствие вызывает ужас, становит волосы на голове дыбом. Преобладание капитала неминуемо вызывает тот, не знаю, можно ли так выразиться, безысходный пролетариат бедности, который проявился в плебействе Рима и, пожалуй, наших самосжигателях. Но опять уничтожить капитал – значит отнять у труда разум и силу. Может уравновешивать это положение до некоторой степени влияние родовых начал, родовые отличия, но они ведут к иного рода злоупотреблениям. Сгладить, соединить, сблизить эти противоречия разнородных явлений общественности – прямое дело правительств, то есть государей и лучших людей страны, которым должно содействовать и споспешествовать, лучше сказать предшествовать – научная разработка вопроса, только действительно научная, а не набор фраз.
Думать же, что такой вопрос может быть разработан и разрешен толпой, массой, – это такой же абсурд, как и державство народа, исповедование разума и другие выражения, являющиеся не чем более, как симптомом народной горячки!
Екатерина говорила это, расхаживая по кабинету, именно как бы для самой себя. Чесменский стоял у табурета, на котором до того сидел, слушая ее слова и невольно думал: "Она права! Никакое деспотическое правительство не допустило бы сентябрьских тюремных убийств…" Но его мысль прервалась сама собой от воспоминаний варфоломеевской ночи и артистического увлечения Нерона пожаром Рима…
В это время вошла Перекусихина и доложила, что тот, кого государыня ожидала, явился.
Екатерина остановилась.
– Побудь тут, Чесменский, подожди меня! Я сейчас приду и еще поговорю с тобой.
Она ушла, Чесменский остался.
В бриллиантовой комнате, куда государыня вошла, ее ожидал граф Алексей Григорьевич Орлов—Чесменский, прибывший, согласно приказу, из Москвы.
– Верный раб перед тобой, всемилостивейшая государыня, по первому твоему слову, как лист перед травой! – сказал Алексей Орлов, отдавая почтительно полуземной поклон государыне.
– Орлов, ты будто знал, что мне нужен, и по воздуху прилетел, – сказала Екатерина, обрадовавшись и подавая ему руку, которую тот почтительно поцеловал. – А я за тобой послала нарочно! Садись, гость будешь!
– Я получил высочайшее ваше повеление, – сказал Орлов, садясь…
– Когда?
– Третьего дня, в поздний обед. Мы в это время, признаться, медвежонком занимались. Ну а как курьер приехал, я, долго не думая, отправился…
– Что ж, на крыльях по воздуху, что ли? – спросила Екатерина улыбаясь, потому что по расчету времени, когда было объявлено Орлову высочайшее повеление, выходило, что он был в Петербурге в конце вторых суток: прибыть же из Москвы в двое суток признавалось чем-то невероятным.
– Нет, всемилостивейшая покровительница, обожаемая нами монархиня, не по воздуху и не на крыльях, а просто по земле в дормезе на почтовых лошадях! – отвечал Орлов, подавая государыне почтовый лист о своей поездке с отметкою приезда и выезда с каждой станции. – А что скоро приехал, так это доказывает только, что Орловы спать не любят, когда надеются чем-нибудь быть полезными или хоть просто угодить обожаемой ими государыне.
Орлов, говоря эти слова, знал, что ими много и много подкупает Екатерину в свою пользу, а все невольно сомневался и спрашивал себя: "Что бы такое? Зачем бы?"
– Ну, спасибо, большое спасибо, граф Алексей Григорьевич, что ты не проманкировал моим зовом и поспешил. Рада тебя видеть! Садись поближе, мне нужно поговорить с тобой кой о чем важном!
Орлов придвинулся, стараясь выражению своего лица сообщить довольное и вполне счастливое выражение – счастливое уже и тем, что он удостоен лицезрением своей государыни, а сам все раздумывал: уже одно то, что она принимает с глазу на глаз, что тут этого случая при ней нет, – заставляет многое и особое ожидать, только Бог ведает, хорошее ли?
Екатерина сидела против Орлова и все еще собиралась с силами начать говорить. Орлов ждал.
– Вот видишь ли что, граф Алексей Григорьевич, – начала Екатерина, – нам, в наши годы, поневоле необходимо иногда обращаться к прошлому!
Орлов молчал. "Ну, плохой знак! – подумал он. – Дело совсем скверное, когда женщина начинает говорить о прошлом!"
– Так дело вот в чем. Ты, разумеется, не забыл самозванку, всклепавшую на себя имя?
Орлова эти слова будто кольнули в бок. Он даже сделал движение, как бы готовясь вскочить с кресел, отчего, однако ж, удержался. Но от этого усилия и внутреннего волнения он даже побагровел.
– Государыня, – отвечал Орлов горячо и с вибрацией в голосе. – Могу ли я забыть самые тяжкие минуты моей жизни? Но – как сын Отечества и верный вам подданный, я полагал, что прежде всего я должен думать о своей государыне и о России. Всклепавшая на себя имя…
– Объявила себя в самое опасное для России время, когда на юго-востоке хозяйничал еще маркиз короля шведского Пугачев, на юго-западе была в полном разгаре война турецкая, шведы вооружились, а прусский король собирался в мутной воде рыбу ловить. Вы в это тяжкое время распорядились как истинный патриот с полным самоотвержением. Вы доказали и вашу любовь к России и преданность свою мне. И несмотря на все толки, весь поднятый против вас шум, самозванка была перехвачена и привезена…
– Государыня, я думал, что, отрицаясь от самого себя, я приношу посильную жертву России и вашему величеству.
– Вы сделали более: вы, может быть, спасли Россию от новой и самой страшной войны, а может быть, и от внутренних смут; потому что меня никто не разубедит в том, что это не была выдумка внутренняя, домашняя. Недаром я тогда же подозревала своих вояжеров, да без вояжеров было тут гнездо, была голова, которая умела управлять. Не о том, впрочем, речь. Видит Бог, не хотела я ей зла! Я хотела только раскрыть начало тех нитей, которые ее создали и опутали. Но я не могла также выпустить ее из рук, чтобы дать новый повод хитросплетениям. Я готова была предоставить ей выйти замуж, посвятить себя частной жизни, обеспечить которую я принимала на себя. Но она с презрением отвергла все, не желая отказаться от своих несообразностей, несоответственных притязаний…
– Милосердие вашего величества известно целому свету, и если она не пожелала – то… – проговорил Орлов как-то механически, будто по-заученному.
– Да! Но после нее остался ребенок – сын!
Орлов вздрогнул при этих словах, и багровая краска снова разлилась по его лицу.
– Государыня, – после минутного молчания сказал он. – Вы касаетесь самых тяжелых, самых больных ран моего сердца. Ведь я сознавал и сознаю, что если для пользы Отечества и спокойствия вашего величества я должен был поступить так, как я поступил, то в то же время я не мог не понимать, что я поступаю не по-человечески, поступаю, как, может быть, не поступил бы самый кровожадный волк; и, наверное, не поступил бы, потому что даже у волка недостало бы сердца, чтобы ради каких бы то ни было соображений пожертвовать своей любимой волчицей и своим единственным волчонком. Но что сделано, то сделано, всемилостивейшая государыня, назад не воротишь. Теперь этот сын для меня тот коршун, который терзал сердце Прометея. Не могу сказать, что я о нем не думаю. У меня ни на минуту не выходит он из головы. Но мысль о нем меня терзает, мучит, жжет!.. Я становлюсь сам не свой при каждом напоминании о моем сыне и, можно сказать, не помню себя! Вяземский и Чернышев знали это и, желая меня мучить, присылали его ко мне при всяком приезде моем в Петербург. Со жгучей болью в душе я выходил к нему иногда; но чего мне это стоило, чего стоило? Теперь мне говорили, что он в чем-то провинился перед вашим величеством и, несмотря на всю вашу материнскую милость к нему, оказал в чем-то непослушание и бежал. Разумеется, меня это огорчает страшно; но все же я позволю себе умолять о вашем к нему милосердии. Мне также пишут из Мюнхена, что теперь он там поднимает целую бурю против меня, вызывает на меня все подземные силы иллюминатства и тугенбундства. Он хочет мне мстить за мать и грозит страшной местью. Ребячество, скажете вы, всемилостивейшая государыня. Да, отвечу я на эти всемилостивейшие слова ваши. Трусом я никогда не был и не боюсь убийцы из-за угла, а что-либо другое сделать он положительно не в состоянии. Я принял свои меры: со стороны иллюминатства, тугенбундства и других обществ совершенно себя обеспечил небольшим пожертвованием. Я сам записался в члены их обществ, так что перед вашим величеством находится один из самых отчаянных представителей иллюминатства, тугенбундства и карбонарства. Думаю, может, и, кроме разрушений затей моего сынка, на что-нибудь еще пригодиться. Все это, собственно, вздор. Ни одной минуты на злобу сына моего не отвечал я злобой со своей стороны, хоть и не ручаюсь за свой характер, что если бы он дозволил бы сделать на меня нежданное личное нападение, то, может быть, и почувствовал тяжесть моей руки. Но теперь, вне случайностей всякого столкновения, я вперед перед вашим величеством всеподданнейше прошу, чтобы все выходки против меня его мести, хотя бы они имели печальный для меня исход, были прикрыты вашим милостивым милосердием и не вели бы к вредным для него последствиям. Я прошу, чтобы вы отнесли их к тому, что он есть: ребяческому увлечению…
– Милосердие, полагаю, тут не потребуется и не должно потребоваться! Месть – дело не христианское вообще, а разве можно допустить месть сына родному отцу? – сказала Екатерина с невозмутимым спокойствием. – Нет, такое чувство тоже не человеческое, такое чувство именно волчье! Ты прав, Орлов, называя его ребяческим увлечением, тем не менее оно должно быть уничтожено, искоренено; должно, чтобы и самое воспоминание о минутах такого чувства вызывало стыд и боль. Но независимо от того, что мы детям своим не желаем и не можем желать зла, что даже за делаемое нам зло мы должны и готовы платить им добром, снисхождением и любовью, мы должны еще принять на себя труд забот о них! На нас лежит тяжелая обязанность устройства их участи. Мы должны сделать их людьми, полезными членами общества! Вот на этот-то труд я и вызываю тебя, граф Алексей Григорьевич! В опущении этой обязанности против твоего сына, хотя бы и не носящего твоих титулов и имен, я и обвиняю тебя перед Россией, обществом, тобой самим. Всклепавшая на себя имя, умирая в казематах, в нервном упорстве предвзятых идей, имела полное право рассчитывать, что о ее ребенке позаботится его родной отец. Может быть, она рассчитывала и на мое чувство человечности, зная, что ребенок ни в чем против меня виноват быть не может. Но я и делала, что могла. Насколько доходили до меня слухи о его нуждах, требованиях, желаниях, я старалась предупреждать их. Разумеется, выходило иногда смешно: я хлопочу послать ему брегет и золотую цепочку, а он нуждается в приварке денщику и покупке овса для лошади; я хлопочу о высылке прибора из французской бронзы для украшения камина, а он нуждается в сапогах или затрудняется платежом по счету прачке. Мне не было возможности входить в подробности. Я понадеялась на крестных отца с матерью, и наконец, на тебя, Алексей. Но Чернышева жила недолго, а князь, ты сам знаешь, что во всем, что касается его лично или его семейства, он эгоист отчаянный. Теперь же, когда же болезнь сковала язык и приковала его к креслу своей комнаты, он уже не думает ровно ни о чем. Но ты отец, граф Алексей Григорьевич, ты мог бы ближе войти в жизнь твоего сына; мог бы всецело изучить его направление, желания, нужды, и в том, что полезно, разумно – на что указывается самою потребностью – помочь, облегчить, снабдить, тем более что у тебя нет другого сына, нет мужского представителя твоего имени!
– Государыня! – энергически отвечал Орлов. – Неужели вы изволите полагать, что я для него пожалел бы чего бы то ни было? К тому же, благодаря милости вашего величества, я так богат, что никакое пожертвование на удовлетворение всевозможных его нужд и прихотей было бы для меня неощутительно. Но, государыня, наша всемилостивейшая покровительница, скажу откровенно: я его боялся! Не ребяческой мести его – о предположениях такой мести до его приезда в Мюнхен я и не слыхал, а когда услышал, то она мне показалась только смешна. Меня, разумеется, могли окормить или как-нибудь убить, или испортить иезуиты или блуждающие конфедераты, или что-нибудь в этом роде, пока я был там – в Италии, Германии, Австрии. Здесь же, в Москве, где я окружен преданными мне, своими людьми, будет хитрая, очень хитрая штука. Я же, всемилостивейшая государыня, как вы знаете, за себя постою! Так не ребяческой мести моего сына я боялся, боялся того впечатления, которое он на меня производит; тех воспоминаний, которые он у меня вызывает. Бывало, скажут он, у меня в глазах потемнеет, сердце сожмется судорожно, кровь горячей лавой побежит по жилам. Никакие мои усилия не могли победить того, чтобы с произнесением его имени в моих ушах не раздался тот страшный нечеловеческий крик, который слышал я во время ее ареста, когда ей не удалось броситься в море и она, подхваченная солдатами и матросами, была унесена в каюту. Вслед за тем непременно является она передо мной: она сама в своем ужасном образе, с ее пылающим взглядом и истерически произносимыми проклятиями – когда я к ней явился в крепость. Она является передо мной, как изможенная пифия с воспаленным страшною ненавистью лицом и как бы пророчеством тех адских мучений, которые воспоминания о ней во мне производят. Эти воспоминания так живы, так мучат меня, так жгут, что кажется, себя готов изорвать, чтобы только мне не поддаваться, от них избавиться.








