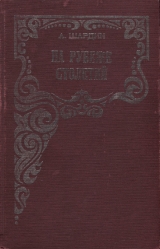
Текст книги "На рубеже столетий"
Автор книги: Петр Сухонин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
Эти слова Орлова сопровождались таким страшным выражением страдания, что императрице стало невольно жаль его, хоть и признавала она его великим плутом. Но тут, видимо, было не до плутовства.
– Верю, друг мой, но что должно, то должно! Ведь ребенок не виноват! Если он и без того страдает от фальши своего положения, то можно ли еще эти страдания усиливать отрицанием и пренебрежением? Нет, Алексей, ты знаешь, что я не сентиментальна: не отказываюсь принимать жизнь и события так, как они есть, применяясь к обстоятельствам, времени и случаю? Но опять скажу, что должно быть, то должно быть! Подумай, а что если самое его бегство, его порывы к мести и вся эта ненормальность его жизни происходит оттого, что он думает, что ты, его родной отец, пользуясь своим влиянием, хочешь смести его с лица земли, чтобы уничтожить живой укор своей совести. Нет, Орлов, всякий должен мириться с тем, что есть, и не отступать от того, что составляет его обязанность. Ты думаешь, мне легко смотреть на моего сына?
Орлов онемел от этого вопроса.
Наконец после полуминутного молчания он позволил себе спросить:
– Как принять слова вашего величества: как напоминание славного дня или как укор?..
– Ни то, ни другое, граф Алексей Григорьевич! Примите их, как желание искренно благорасположенной к вам направить ваши поступки к исполнению вашей обязанности, как отца и человека.
– Всемилостивейшая государыня, да разве я не готов бы был, разве я пожалел бы чего-нибудь? Мысль о нем слишком наболела мое сердце, чтобы я даже подумал. Я все отдам, только снял бы он с меня воспоминания о себе и своей матери! Пусть возьмет все, оставит меня, уже старика, без пристанища, только пусть избавит от миража, который томит мою душу, сушит мой мозг.
– Невозможного нельзя и требовать, граф Алексей Григорьевич! Мы все живем своими воспоминаниями! Но само собой разумеется, что, по мере того как мы обращаемся к своей обязанности, воспоминания невольно ослабевают, невольно теряют свою силу, главное – жгучесть. Поверь, Алексей, я тебе искренне желаю добра и скажу, что много из представления нашего улетучивается, теряет свою силу, по мере того как мы на явления их начинаем смотреть прямее, здравее… Я призвала тебя затем, что мне нужно спасти одну заблудшую русскую душу: душу молодую еще, восторженную, увлекающуюся, но умную, наблюдательную, от которой наше Отечество, наша любимая нами Россия, много пользы может ожидать. Эта душа, граф Алексей Григорьевич, твой родной, единственный, хоть и незаконный сын – бывший корнет, теперь поручик моего лейб-гусарского войска, Александр Алексеевич Чесменский, сын той самой, всклепавшей на себя имя, которая много крови мне испортила, но которую от всей души простила!
Слова государыни "родной и единственный сын Александр Алексеевич Чесменский" подняли Орлова будто электрической силой. Глаза его страшно заходили, губы перекосились. Он, казалось, задыхался. Однако он осилил себя. Почтение к государыне и та привычка к исполнению ее желаний, которой Орлов был, можно сказать, пропитан весь, заставили его сказать:
– Воля вашего императорского величества должна быть исполняема всяким. Потому извольте приказать, и я выполню все, что изволите признать для него полезным!
– Ты не понимаешь меня, Алексей! В том-то и дело, что тут не нужно ничего! Первое слово его было, чтоб избавила я его от всяких твоих подачек и подарков, которыми ты столько раз его обижал, высылая их как нищему, и отказываться от которых ему мешала субординация, так как подарок пришел от генерал-аншефа солдату.
Твоих титулов, твоего имени он тоже не желает. Он говорит, что свое имя он должен заслужить себе сам. Для того просит освободить от придворной службы и дать практическую деятельность. Но чего душа всегда просит, перед чем невольно замирают все ее требования, все ее желания – то от сердечного отклика родной души. Твоему сыну нужна отцовская любовь, отцовская нежность, – ему, никогда не испытавшему любви и нежности матери. Перед силой этой нежности, перед вызывающей невольное сочувствие симпатией не может не растаять самая загрубелая ненависть, не может не исчезнуть, не испариться всякая черствость. Вот этой-то душевной теплоты, этой-то горячей симпатии я и прошу у тебя, Алексей, для твоего единственного сына, тем более скажу, что он ее стоит, он ее заслуживает…
По мере того как Екатерина говорила, нужно было видеть, что делалось с Орловым. Брови его как-то распрямились, лоб разглаживался и покрывался выступающими исподволь каплями пота. Губы принимали умиляющееся выражение, дыхание, спершееся до того в груди, становилось плавнее, легче.
– Матушка государыня, – сказал вдруг он, – ты наша чудодейственная повелительница! Недаром говорили, что от твоей доброй улыбки и мягкого слова с места сдвигаются камни. От Алексея Орлова, от отпетого с детства Алешки Орлова ты требуешь нежности. Но такова чудодейственная сила велений твоих, что точно сам Алексей Орлов готов разнежиться, думая о своем мальчике; чего вон разбавился даже, слезы из глаз бегут.
Орлов замолчал, а слезы в самом деле бежали по его щекам. Екатерина, уверенная в силе влияния своих слов, смотрела на него молча, но с сочувствием. Вдруг Орлов как бы воспрянул и проговорил оживленно, хоть и с сердечным чувством:
– Вот что, матушка государыня, сейчас бы я его прижал к груди моей, сейчас бы обнял и расцеловал, сейчас бы взглянул в глаза его, в которых бы увидел отблеск глаз его матери. Пусть бы потом мстил он мне, как хотел, пусть бы хоть пулю всадил, или еще лучше, палицу я ему железную дам, так пусть бы этой палицей башку раскроит или хоть по виску поласкает. Я его вперед прощаю и тебя, государыня, умоляю простить, что бы он против меня ни сделал. Радость прижать его к сердцу, выслушать его голос меня вперед за все вознаградит! Пожалей мою отцовскую гордость, а она неминуемо возмутится, если на сердечный привет мой он ответит презрением; если протянутую мою к нему с благословением руку он оттолкнет, как недостойную… Пусть грешен я, но в грехах своих отдам ответ Богу; не сыну их судить!
– Понимаю тебя, Алексей, и сочувствую тебе! Но думаю, что природа и кровь в этом случае выше нашего разума!
Глава 4. Слово делает дело
Немного дней прошло, а у императрицы в кабинете опять Чесменский. Нередко приглашает его к себе государыня поговорить о Париже, о тамошних действиях и о тайных обществах, распространению которых в России она признала необходимым положить конец.
Чесменский в это время успел успокоиться. Он видел уже, что о смертной казни его не может быть и речи. Сама государыня сказала, что повинную голову не секут, не рубят. Но ни одним звуком она не намекнула, чего он может для себя ожидать. Сказала однажды, что простить его совсем не может, что это противоречило бы ее принципу справедливости. Стало быть, он будет непременно наказан, но как? В этом и вопрос: что ждет его впереди – ссылка, заточение или какое-нибудь другое, унижающее его достоинство наказание? Ждать разрешения этого вопроса само по себе мучительно.
Между тем полнейшее спокойствие, в котором провел Чесменский эти дни своего номинального ареста в Зимнем дворце, уединяя его от целого мира под зорким взглядом Зотова, который иногда сам заходил к нему покалякать и сказки порассказывать, и непосредственным наблюдением Гагарина, которого Чесменский избегал даже видеть, не только говорить, и для того не раз притворялся спящим, при полнейшем материальном обеспечении, начинало оказывать свое действие. В нем начала вызываться жажда деятельности, стремление быть чем-нибудь, а не только откармливаемым всем, чем можно, тельцом.
"Хоть камни бы ворочать, да дело делать, – думал он, – а не только есть, пить и спать. Ну в каторжную работу, так в каторжную работу, – рассуждал Чесменский, – и там люди не без пользы живут, а здесь я именно ем, пью и небо копчу!"
Потому он и решил воспользоваться первым случаем умолять государыню о решении его участи. Этот случай настал, и Чесменский высказал перед государыней мольбу свою.
– Чем же я решу твою участь, Чесменский? – сказала государыня. – Ты сам затянул и запутал вопрос так, что для решения его нужна мудрость Соломона; ну ведь я не Соломон!..
Чесменский хотел возразить что-то, но Екатерина не дала ему:
– Постой, помолчи, твоя речь впереди будет, а я выскажу все, что я думаю. Александру Великому легко было разрубать гордиевы узлы, за разрешение их отвечал его меч. И мой узел мечом вмиг разрешится: все недоумения разом исчезнут. Но что же делать, когда меча в руки взять не хочется, когда жаль тех нитей, из которых узел завязан? Вот и подумай, как тут быть?
Ну, о решении своей участи рассуди! Ты сам признал себя заслуживающим тройной смертной казни: как дезертир, как ослушник и как действовавший во вред интересам своего Отечества. Легко устранить всякие недоумения, предоставив тебе выбрать ту казнь, которую ты сам найдешь более для себя подходящею. Ты сложишь свою голову, и все вопросы сами собой прекратятся, все сомнения улетучатся. Но если мне жаль твоей русской молодой жизни? Если я думаю, что Россия может надеяться получить от тебя что-нибудь больше, чем отрубленную ветреную голову мальчика, который досель не думал еще о себе, а только мучил свое воображение несообразными предположениями. Наконец, если я нахожу, что вследствие самой явки твоей с повинною справедливость требует оказать тебе снисхождение, хотя и нельзя оставить ненаказанным. Ну, что же, казалось бы, вместо легкой придворной службы поставить тебя на действительное, настоящее дело, при котором тебе потребуется меньше денег, а от тебя больше службы. Для того стоит только назначить в какой-нибудь полевой полк, в котором вины свои ты бы должен был выкупить своей службой!
– Государыня, – с радостью проговорил Чесменский.
Но Екатерина опять перебила его.
– Подожди! Экий торопыга. Я тебе сказала – твоя речь впереди. Но к осуществлению такого предположения ты представил мне новое затруднение, какую-то смешную, детскую клятву мести своему родному отцу! И за что же ты собираешься ему мстить?! За то, что ты родился на свет, и за оказанную мне и Отечеству им услугу! Положим, что нам милосердный Господь Бог таких клятв не принимает. Месть сама по себе дело нехристианское, а месть родному отцу такой вздор, о котором и говорить нельзя. Да и если бы вздумали мстить своим отцам и матерям за их взаимные проступки одного или одной против другого, ни отцов, ни матерей не стало бы и род человеческий перевелся. Точно так же, если бы все неудачники, все, кому жизнь не везет, как им хочется, воспылали местью к своим родителям, зачем они родили их на свет, то что бы было? Стало быть, такая клятва чистый вздор, абсурд, нелепость, не имеющая значения. Но зная о такой клятве, зная, что она дана вследствие великой услуги, оказанной твоим отцом мне и России, допустить даже попытку к ее осуществлению я не могу, не должна и как человек, и как государыня. Я не могу допустить даже попытки осуществления мести с твоей стороны твоему отцу не только потому, что она будет направлена вследствие действия, сделанного в мою и России пользу, но и по совершенной ее дикости и бесчеловечию. Разве сын может мстить отцу, и за что же, за то, что он родился на свет? Этими словами государыня как бы облила Чесменского водой. В самом деле: чего он хочет? Не может же она допустить заведомого мстителя ее старому слуге за дело, совершенное если не по ее повелению, то, во всяком случае, не иначе как с ее соизволения.
– Да, – продолжала Екатерина, как бы раздумывая и соображая про себя. – Такого рода мести я не могу допустить ни в каком случае. Я объясняла, что поступок графа избавил Россию, может быть, от самой страшной войны, какую когда-либо России приходилось вести. Его поступок спас, может быть, миллионы русских жизней и, верно, на сотни миллионов русского труда. И за такое дело допустить частную, личную месть немыслимо для государыни. Но опять, что же мне с тобой делать? Мне тебя жаль. Я, признаюсь, думала, что ты можешь стать человеком, независимо от отца, сам по себе, но делать нечего, как мне ни жаль тебя, но должна тобой пожертвовать и, в отстранение возможности попыток на предположенную тобою месть, подвергнуть тебя заключению и продолжительному, хотя, положим, и довольно снисходительному – подвергнуть заключению, по крайней мере на все время жизни твоего отца. Это государственная необходимость, мера предупреждения! А в предупреждение побега должна поместить тебя в одном из тех равелинов Петропавловской крепости, где, тоже по государственной необходимости, содержалась твоя мать.
– Матушка государыня, – вскрикнул испуганный Чесменский, бросаясь перед государыней на колени, – прикажи лучше голову отрубить! Ну что я буду делать в заключении?
Одна мысль о тюрьме "Свободной пристани" его сводила с ума.
– Вот вздор какой! – отвечала государыня. – Я уже говорила, что заключение будет не слишком строгим и не слишком исключительным. Комнаты твои если не будут роскошными, то будут весьма приличными. Разумеется, свидания будут разрешаться под наблюдением и по выбору с людьми, не могущими увлечься ребяческой идеей мести; но для занятий все что хочешь: и музыкальные инструменты, и рисовальные станки; книги всевозможные; и решительно все по тому предмету, который бы ты избрал и которому особо посвятил бы себя. Наконец, не вечно же тебя заключают. Я или отец твой помрет, и ты свободен. Стало быть, страшного, ужасного в таком заключении ровно ничего нет. Но подумаем. Если бы в то время, когда мать твою привезли сюда, ты был не в зародыше, а хоть в твои нынешние годы и был бы истинный русский по душе, с безграничной преданностью государю и Отечеству и готовностью себя не жалеть для общего благоденствия и спокойствия России. Что бы ты должен был делать ввиду положения, принятого твоей матерью? Ясно, ты, со всею глубиною своей сыновней любви, должен был так или иначе сам ее доставить; сам ею пожертвовать! Вопрос самопожертвования в пользу Отечества не только в самоотрицании, но и в готовности отказаться от всего дорогого, всего близкого, всего того, что может быть для сердца дороже самого себя. В древности, когда для умилостивления разгневанных божеств, грозящих опасностью всей стране, требовались человеческие жертвы, сущность дела заключалась в жертве наиболее ценной, наиболее дорогой, а из кого такая жертва должна была состоять, указывали сами боги, и выбор их падал не всегда на единственную и прелестную дочь царя вроде идеально прекрасной Ифигении, но и на не менее прекрасных и добродетельных любимых супруг, мужей, братьев, отцов и матерей. Вот Эней говорит у Расина. Они говорят это потому, что готовы пожертвовать собой и всем, что для них дорого. Теперь, когда нет разгневанных божеств, таких по крайней мере, которые требуют себе человеческих жертв, вопрос о самопожертвовании стал другим, но он стоит на той же почве. Теперь есть государственная необходимость. Это тот же неумолимый рок, та же непредотвратимая судьба древних. Ради этой необходимости истинный патриот, истинный сын своего Отечества должен с полным самоотрицанием быть готов возложить на алтарь Отечества все, что ему дорого, как бы предрекая это; дорогое ему на всесожжение, на жертву. И для этого он должен не жалеть ни себя, ни жены, ни детей, ни сестер и братьев, ни отца и мать, ни своего состояния. Все стоит и должно стоять ниже интересов государства, всему должно жертвовать для спасения Отечества. Мало того, уколы личного самолюбия, различия мнений и взглядов, все должно быть забыто, все оставлено ради отстранения от Отечества опасности. Ты русский, Чесменский, русский в душе, я уверена в этом. Если бы в то время, когда твоя мать с ведома ли, по неведению ли, вздумала всклепать на себя имя, ты был бы не в зародыше только, а человек самостоятельный, взрослый, то я уверена, со всем своим сыновним почтением сказал бы матери: матушка, верю вам, что вы не верите сами всему, что вы говорите, более, верю, что все это непреложная истина, хотя, согласитесь, истина странная, невероятная. Зачем императрице Елизавете потребовалось скрывать вас в такой степени, что она решилась отправить вас даже в Персию, и еще в какое время, когда там царствовала война и безумствовал самовластный победитель шах Надир и война касалась русских границ? Был ли Разумовский действительно ее законный супруг или фаворит, каким тогда его признавали, безразлично, она могла ребенка от него отдать на воспитание кому-либо из своих приближенных, ей бесконечно преданных. Не говорю о Воронцове, о лейб-кампании, о Генриковых, Скавронских, хотя они были ей близкие, родные, ею выдвинутые, облагодетельствованные, но не говорю о них, потому что люди высших сфер могли иметь задние мысли, но почему, например, не могла она отдать его на воспитание своей любимице-подруге Мавре Егоровне Шуваловой или еще лучше Чулкову Василью Ивановичу, начавшему службу, правда, со звания ее камердинера, но который был уже тайный советник, и личная преданность которого ей была так велика, что уже в старости он высшей милостью считал себе дозволение ночевать в ножках своей государыни, и когда такое дозволение было ему даваемо, то он, тайный советник, с молитвой сам раскладывал у ног кровати государыни свой тюфячок, клал подушку и ложился спать не раздеваясь, думая о том, как бы завтра не опоздать, чтобы как государыня утром проснется и захочет опустить свои голые ножки с постели, то не допустить ее ножкам коснуться ковра, а надеть на них бархатные, шитые жемчугом туфли. С таким человеком, с такою беззаветною преданностью нужно ли было ей в чем церемониться? Какое же затруднение со стороны государыни Елизаветы могло быть в том, чтобы отдать свою дочь – законная или незаконная – на воспитание Чулкову? Обеспечить ее будущее государыне также было чем. С этой стороны ей, кажется, не могло встретиться препятствие. Притом государыня Елизавета была и не такого рода женщина, которая бы для этикета, для приличия готова была всем жертвовать. В молодости она любила распевать песни с сельскими девками и парнями, в средние лета ее даже осуждали за фамильярность с гвардией, с женами солдат, детьми и участием в их быте, – фамильярность, вызвавшую ей со стороны гвардейцев беспредельную преданность, содействовавшую вступлению ее на престол. Когда она была уже на престоле, то опять – был Разумовский, ей мужем или просто фаворитом, но она заботилась о всем его семействе: его самого сделала графом и фельдмаршалом и наградила богатством, можно сказать, несметным. Мать его, несмотря на то что была простая, безграмотная казачка, известно каким почетом пользовалась. После старших братьев Разумовского остались племянники, дети простых казаков. Елизавета нисколько не церемонилась, воспитывала их во дворце, заботилась о них, определила на службу. Они умерли уже в генеральских чинах.
После одного из братьев осталась племянница. Она воспитывалась в покоях самой государыни, была сделана ее фрейлиной и выдана замуж за сына государственного канцлера графа Бестужева. Младший брат Разумовского известно какою заботою был окружен государынею с детства. Он был отправлен в чужие края, окруженный целым штатом. На воспитание его не жалелось ничего. По возвращении же своем он был женат на Нарышкиной, родственнице императрицы и богатейшей тогда невесте в России, сделан президентом Академии наук, наконец, малороссийским гетманом. Наконец, сестры графа Разумовского были также взяты во дворец. Одна из них, Вера Григорьевна, вдова простого казака Дорогана, была сделана статс-дамой, а дочь ее фрейлиной и потом вышла замуж за одного из богатейших землевладельцев Малороссии Голачана. За дерзость Грюнштейна, адъютанта лейб-кампании и одного из главнейших сподвижников при восшествии ее на престол, Бодлянскому, женатому на сестре Разумовского, Грюнштейн был сослан в Углич, и государыня его не простила. Так горячо принимала она все то, что относилось до Разумовских. Все они были призрены, все награждены, несмотря на их низкое происхождение. Почему же тебя-то, свою дочь, – спросил бы ты, Чесменский, у своей матери, – императрица Елизавета, заботящаяся о всех братьях и племянниках своего друга, почему именно тебя-то, дочь – и дочь единственную – она могла забыть, и забыть до того, что заставила сперва странствовать по Персии и в России, с опасностью жизни, а после еще и искать приключений в Европе, по отсутствию всяких средств существования. Ну, положим, отнесем это к непостоянству ее характера, к забывчивости, хотя характер императрицы Елизаветы вовсе не был ни непостоянным, ни забывчивым. Каким же, дескать, образом, – спросил бы ты у своей матери, – отец-то твой, граф Алексей Григорьевич Разумовский, обладая несметным богатством и умирая бездетным уже после смерти императрицы, все оставил своему брату, столь же богатому, как и он сам, не подумав о том, что нужно же оставить что-нибудь и дочери, особенно после того, что императрицей ей ничего не оставлено. Наконец, каким образом граф Кирилл Григорьевич, здравствующий до сих пор и благотворящий везде, где может благотворить, получив после брата несчетное богатство и зная, что все его благополучие устроилось благодаря брату, не подумал, что нельзя же не помочь родной племяннице, законной или незаконной, все равно. Родственное чувство, полное благодарности, не может не оставаться тем же, к кому бы оно ни относилось.
Приведя все это, ты бы сказал своей матери: согласись, матушка, что всё это весьма невероятно! Ты ответишь, что все они боялись войти в политическую интригу. Нисколько! Они бы явились к государыне, заявили бы о твоем существовании и просили бы ее указания, что им сделать и что предпринять? К этому, может быть, ты прибавил: государыня в России не настолько глупа, чтобы отказаться, прийти к соглашению взаимным устранением недоумений, тем более что ты, матушка, объяснил бы ты ей, хотя бы рожденная даже в морганатическом браке, но при жизни царствующего государя даже не объявленная, ни в каком случае не могла иметь какие-либо права на престолонаследие. Но допустим, что, несмотря на все невероятие, все, что ты говоришь, правда. То и тут действия твои вызывают вражду, рознь, могут вести к великим бедствиям наше Отечество. Потому мы должны ехать, обговорить, устроить наше дело у себя дома, а не вызывать, не искать врагов своей родины. Если мы ошибемся и вместо человечности и внимания встретим вражду и насилие, если вместо того, чтобы уладиться и устроиться в согласии, мы сложим свои головы, то наши головы будут жертвой согласию, единству и благоденствию России, принесенной ее истинными сынами, а не честолюбивыми проходимцами, желавшими во что бы то ни стало внесть в нее рознь и вражду, хотя бы такая вражда стоила миллиона русских жизней и, как я сказала, на сотню миллионов уничтоженного русского труда…
Так, Чесменский, ты должен говорить своей матери, если бы в то время был самостоятельным и взрослым человеком и был русским в душе, в сердце, со всей преданностью благополучию России до самоотвержения. И если бы мать твоя не согласилась с тобой, то ты бы употребил все меры, чтобы иначе ее замыслы на гибель России уничтожить и действия ее во вред России прекратить; хотя бы для того пришлось прибегнуть тебе к насилию или обману. Ты бы сказал себе: я жертвую своей матерью, но спасаю Отечество!
Ты не был человеком самостоятельным, был только в зародыше, стало быть, о том нечего и говорить. Но что же ты делаешь теперь, став взрослым уже и хотя еще юным, но уже самостоятельным человеком? Ты принимаешь на себя миссию мести тому, кто, сделав все это вместо тебя, принес этим громадную услугу мне и Отечеству; который избавил Россию от страшной, ожесточенной войны, против коалиции, справиться с которой, по всей вероятности, у России не было бы средств. Ты хочешь мстить ему за то, что действия его, не без причины со стороны твоей матери, были против нее направлены, и хочешь мстить – кому же? Родному отцу! Да разве можно допустить это? И затем, разве можно предпринять против тебя, ввиду твоих вин, что-либо кроме как заключение под строгим и неусыпным надзором?
Государыня замолчала. Чесменский, собравшись с силами, вынужден был сказать:
– Всемилостивейшая государыня, – робко проговорил Чесменский, – говоря перед вами о своих чувствах с откровенностью сына перед матерью, я невольно высказал мое душевное требование мести тому, кого считаю виновником всей лжи, всей фальши моего положения. Но, разумеется, я ни одной минуты не полагал освободить себя от обязанностей полного, всеподданнейшего повиновения вашей высочайшей воле. Виновный однажды в ослушании, я ни в каком случае не мог себя допустить до повторения своего преступления. Стало быть, указания вашей высшей воли, после оказанной мне милости и снисхождения, считались бы мной священными. Мои чувства, мои взгляды, мои требования остались бы только для одного меня ввиду заявленного вашим величеством желания, чтобы они ни в каком случае не касались того, что вы, как мать Отечества, изволите признавать заслугу перед вами и Россиею.
Екатерина улыбнулась, вглядываясь в красивую, молодую и откровенную фигуру Чесменского. Она тут только заметила, что он недурен, очень недурен, главное симпатичен. В выражении его лица сохранилось много той симпатии его матери, которая привлекала к ней постоянно окружающих. Но что? Еще мальчик, совсем мальчик!
– То есть как же это, милый мой Чесменский, – сказала государыня добродушно. – Ты бы хотел быть моим верным подданным и в то же время моим противником; хотел быть послушным сыном Отечества, в то время как мысли, желания, мечты стремились бы всеми способами принести ему вред? Ведь это невозможно, мой милый; нужно что-нибудь одно из двух: нельзя желать в одно и то же время и угодить своей государыне и делать ей напротив: ненавидеть, что она любит, и любить, что она ненавидит? Нельзя в одно и то же время служить Богу и мамоне!..
– Нет, Чесменский, – продолжала она после секундного молчания, – знаешь что? Взгляни-ка лучше на свою явку ко мне, как на явку блудного сына, который все былое решил оставить за собой, чтобы явиться перед отцом в полном раскаянии. Подумай! Ты просил у меня смертной казни. Ну представь себе, что я велела тебя казнить. Ведь тогда все эти затеи иллюминатства, вся эта месть, вся напускная восторженность заразы французского духа, который, нужно сказать правду, коснулся тебя весьма легко; наконец вся эта канитель злобы и ненависти, должны бы были поневоле вместе с тобой умереть, испариться, явиться на высший суд, где во всяком случае получать себе своевременно применение. Ты же, обновленный, очищенный, со свежими силами и чистым сердцем, должен снова вступить в жизнь, как бы только явился на свет Божий.
– Видит Бог, ваше величество, всемилостивейшая государыня, я явился к вам с полною готовностью отказаться от всего прошлого. От всего сердца, искренно, я себя готов принести в жертву, чтобы искупить свои прошлые ошибки и увлечения.
– Между тем в то же время готовишься к мести, мало того, пропагандируешь месть родному отцу? А думал ли ты когда, что, может быть, в то время, как ты думал, что отец хочет тебя со света Божьего сжить, он страшно тосковал и мучился, что не может прижать тебя к своему сердцу, не может пересказать своих мук, своих страданий, тем более что видел холодность твою к нему, твое пренебрежение даже к его подаркам…
– Кто же ему препятствовал, ваше величество…
– Сознание, что ведь все же он лишил тебя матери! Да! Это сознание и собственная гордость, не допускающая отца склоняться перед сыном, особливо нося в сердце убеждение, что как гражданин, как сын Отечества он должен был поступить именно так, как он поступил. И знаешь ли ты, чего, может быть, ему стоило поступить именно таким образом? Может быть, дух захватывало, сердце замирало, но он заставил себя, вынудил себя силой воли. А что у Орлова—Чесменского есть сила воли, в этом никто не сомневается! Но вынудив, заставив себя, кто знает, как он страдал! Может быть, не раз кровавыми слезами обливался он прежде, чем решался выйти к тебе и сказать свое холодное слово, встречая во взгляде твоем, в твоем выражении лица не сочувствие, не сожаление в его мучениях, а жажду мести и ненависть! О, я по себе знаю, как тяжко встречать ненависть и укор там, где хотела бы видеть любовь… Мы все читаем чуть не безучастно жертвоприношение Авраама. И мы не видим тут страшной драмы, душевной борьбы, которая должна была происходить в сердце старого отца, когда он должен был поднять нож на своего единственного взрослого сына. Эти душевные страдания были так велики, что воля Божия остановила нож… Но государственная необходимость не обладает всеведением и всемогуществом Божиим. Она, как молот машины, бьет бесповоротно и вот сына, родного и единственного, заставляет видеть в отце врага. Нет, Чесменский, ты не сознаешь чувства отцовской любви, некому было развить в тебе силы сыновнего почтения. Поговори с преосвященным Платоном. Он разовьет перед тобой новый мир, в котором ты увидишь, как дорого может стоить отцу сознание, что он встречает от сына только одну ненависть!
– О государыня, да разве я могу что-нибудь говорить против слов ваших, разве я могу возражать? Я своей жизни не пожалел бы на то, чтобы снять чьи бы то ни были страдания, если в них я сколько-нибудь виноват, не только если эти страдания могут касаться моего отца. Но с моей стороны могло к нему обратиться слово сочувствия. Оно явилось бы и могло бы ему представиться моим заискиванием перед его богатством и знатностью. Между тем, верьте Богу, государыня, как ни тяжка мне мысль об этом заключении, но даже такое заключение я бы предпочел положению, в котором я должен был бы жить подарками и помощью своего отца!
– Ты не будешь поставлен в это положение, Чесменский. Даю тебе это слово! Только с истинным сердцем и полною откровенностью своей молодой души взгляни на дело, как оно есть, не задаваясь ни задней мыслью, ни предвзятыми сомнениями. Пойдем со мной!
Между тем граф Алексей Григорьевич сидел и ждал государыню опять в бриллиантовой комнате.
"Она приказала мне прийти сегодня пораньше, – думал граф Алексей Григорьевич, – я и явился ни свет ни заря, а ее нет и долго не выходит. Верно, занята своим случаем! Ох, уж эти мне случаи!"
Граф Алексей Григорьевич забыл, как он случаем своего брата Григория Григорьевича пользовался.
"Я, кажется, не опоздал, – сказал себе граф Алексей Григорьевич, посматривая на свой брегет, – Захар Константинович, кажется, не носил еще кофе. Вот как опоздаем, так она любит за то выдержать. Пожалуй, целый день продержит. Но я не опоздал, а ее все нет! Она сказала, приходи до народу, а то после вздохнуть не дадут, ну я, кажется, до народу. Впрочем, говорят, Рылеев уже здесь! А она все еще не выходит!








