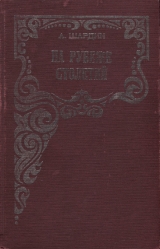
Текст книги "На рубеже столетий"
Автор книги: Петр Сухонин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
– Тоже обстоятельства, фальшивое положение…
– Все обстоятельства, все фальшивые положения нужно дома устраивать, у себя облаживать. Чужие тут не помощь и не лад. Особенно все эти ордена да общества, которые, разумеется, рады будут воспользоваться вами в чем можно, да потом над вами же и посмеяться. Вот, будут говорить, дурак-то, за ломаный грош пошел на виселицу! Разве вы хотите в мою кожу попасть? Не завидное дело, скажу по совести, очень незавидное, хотя я и проживал по двести и по триста тысяч франков в год. Даже, я вам вот что скажу, случалось, что среди самой-то этой роскоши, я сожалел о том времени, когда служил стремянным у Радзивилла и мог спокойно спать. Говорю по совести, – вы, пожалуй, скажете, какая совесть у бретера, у игрока? Вы имеете право это спросить… а вот какая: вы, я думаю, полагаете, что с вами говорит семидесятипятилетний старик, а мне нет и шестидесяти. По неволе состаришься, как ночи не спишь, да все думаешь, да вспоминаешь… Но все это, по крайней мере, окупалось деньгами; а вы-то за что?
– Будто вы все всегда делали только за деньги?
– Только за деньги! Или солгал, вы напомнили мне случай, случай единственный, когда я действительно без всяких денежных видов вызвал на дуэль Робеспьера и хотел эту гадину насквозь проколоть. Ну, да это уж такой случай! Изобидел он меня очень, так изобидел, что мне теперь жизнь не мила. Впрочем, случись, что я бы его убил, сказали бы, аристократы подкупили.
– Чем вас мог обидеть Робеспьер?
– Как вам это сказать. Видите, был у меня друг – не друг, а товарищ и помощник хороший. Он был из хохлов, попович, но такая продувная бестия, что другой такой и не выдумаешь! Бывало, только намекни, а уж он оборудует. Куда самому не ловко, сейчас его; он бобами разведет, все приготовит и все устроит. Сколько раз из беды выручал! И так мы, худо ли, хорошо ли, около тридцати лет вместе жили и тужили; вместе с голоду помирали, вместе и богачей обирали. Вот как через иллюминатов мы втерлись в здешний свет, нам тут делишки обделывать была рука. Здешние графчики дуэли любили, ну и картишки и все… Я вам все рассказываю, да, знаете, с земляком рад душу отвести, нам тут барашков стричь просто лафа была. Разумеется, денег мы не нажили. У нашего брата деньги как-то не держатся; зато жили на славу! Никакой Роган, никакой интендант французской армии не утер бы нам носа. Ну, да ведь, на что же и деньги, если их не проживать? А тут, как назло – революция, барашки ускакали, наш капитал был в ассигнациях, упал, и мы вдруг очутились, как рак на мели. Делать было нечего, пришлось за экономию приниматься. Из отеля мы выехали, лошадей продали, прислугу распустили. Все это страшный убыток, потому что в то время все продавали и никто не покупал. Наняли себе скромную квартиру, но все же квартирку людей, живущих в довольстве; потому что и из остатков от прошлой роскоши скопилось кое-что. Наняли квартирку в бельэтаже, ну, и обстановка была приличная. А в третьем или четвертом этаже над нами, у столяра жил Робеспьер.
Нам и в голову не приходило, что это такая знаменитость будет. Ну так, адвокатишко поганый, и только: прилизанный, примазанный, височки вперед, в коленкоровых воротниках, туго накрахмаленных; застегнут на все пуговицы, дрянь дрянью! Он жил у столяра и сжился с его дочкою – такая жирная француженка, что на редкость, молодая еще, да такая резвая, и не дурна! А мой Квириленко, как настоящий попович, очень любил толстушек. Ну, встречались на лестнице, начал с ней балагурить и хотя он был не более как лет эдак на девять меня моложе да и собою-то с рыла не то чтобы того, так что, пожалуй, и не лучше Робеспьера бы, но подарочками да тем и сем смутил толстушку, та и начала с ним амуриться.
Только одним вечером, меня дома не было, она и пришла к нему. Комнату заперли, сидят и амурятся. Вдруг, откуда ни возьмись, в самую критическую минуту из-за ширмы выходит Робеспьер. Он, должно быть, заранее как-нибудь забрался и спрятался. Та вскрикнула. Квириленко к нему.
– Что вам, милостивый государь, угодно?
– Я не милостивый государь, я просто гражданин, – отвечал он, – и не к вам, а к ней…
И кажется, что он хотел было ее граждански отдубасить. Но у Квириленки кулак был здоровый. В комнате никого, кроме их, не было, и он дал ему такого туза, что тот не захотел другого, стал сам же извинений просить.
Ну известно, наш брат русский отходчив, извинился и даже обещал всякие амуры прекратить, с тем чтобы только он ее не трогал за прошлое. Так и разошлись, казалось, по-приятельски. Только что же? Через неделю или две он нашел какого-то мерзавца и подговорил его подать донос якобинцам, что Квириленко переодетый священник-францисканец и прислан будто бы Римом – это хохол-то, православный попович, – смущать ихних аббатов не принимать присяги.
И что же вы думаете, из-за такого подлого доноса моего друга в сентябре зарезали в тюрьме, даже не спросивши ни разу, точно ли он из Рима, а он и по латыни-то знал чуть не одно слово: Dominus bobiscum!
Когда я узнал, что все это штуки Робеспьера, по неволе взбесился как черт и хотел проколоть его именно как какую гадину. Он от меня, я за ним. Он успел спрятаться на чердак и там заперся. Я целые сутки караулил, но как он успел убежать и спрятаться, показываясь только по вечерам в клубе якобинцев, откуда его провожали целою толпою. В это время его сделали членом комитета общественной безопасности и он успел запрятать меня в тюрьму. Но я не боюсь его. Он слишком трусоват, чтобы предпринять что-нибудь решительное; разве подговорить кого сонным зарезать. Благодаря братьям иллюминатам у меня все же есть некоторая сила, и я надеюсь, что как теперь освобождаю вас, так после и освобожу и себя. Я бы, может, и давно себя и освободил, да расчету не было. Разорившись от революции, я рассчитывал революциею же и поправиться, а поправиться можно было только здесь, около аристократов. От них все же можно было кое-чем поживиться, а в Париже эти санкюлоты – голь хитрая. От них не вытянешь и сантима, да и без друга как-то ни на что рука не поднимается; так-то редко думаю, ну, убьют так убьют, туда мне и дорога…
Шепелев, сказав это, опять непривычно задумался, опустив вниз голову. Чесменскому даже жаль его стало. Он подумал: вот человек сам говорит, что весь век бился из-за денег, всю жизнь свою себя продавал, а теперь… – Видите, я разговорился с вами и все рассказывал, оттого что обрадовался встретить русского. Что бы кто ни говорил, а у нас у всех есть что-то родное, что родному сердцу весть подает… Вы же так еще молоды! Дело вот в чем: я всю жизнь погибшим человеком жил, а отчего? Оттого, что с детства был оторван от родной почвы. Отсюда пошли все мои невзгоды… Вы молоды, и как я сказал, человек свой, потому вот вам добрый совет. Уходите из тюрьмы, повидайтесь, если хотите с Анахарсисом, увидите, что я не пророк, а отгадчик. Дела не будет никакого. А потом бросьте все эти масонства и иллюминатства и возвращайтесь домой. Ваша царица-барыня с эрфиксом, но барыня умная. Она, может быть, намылит вам шею, но простит. Она поймет, что вы ничего против нее не сделали, а явились блудным сыном. Я – другое дело. Я злодей, и такой злодей, который, пожалуй, разбил ее собственное счастье, меня простить нельзя; тем более что мое объяснение, быть может, нанесло бы сердцу ее новый удар, перед которым все другое покажется ничем. Да! Мне явиться невозможно, просто невозможно! А вы, вы? Там у вас будет почва, будет дело! В вашем деле может быть разум труда, вас обеспечивающий и приносящий пользу всем! Здесь же, что вам предстоит? Карьера, подобная моей, – горькая, говорю, доля, даже если вы успеете усыпить свою совесть. Вы скажете: в работники пойду, каменья буду ворочать. Пожалуй. Но разума-то в вашем труде не будет, потому что ни обеспечения ваших потребностей, ни пользы обществу ваш труд не даст. Неужели вы думаете, что я от радости стал бретером, неужели вы думаете, что тысячу раз я не проклинал себя, когда передергивал карты или выкидывал другие мошенничества. Верьте, иногда сердце кровью обливалось… Послушайтесь моего доброго совета, пока время не ушло… Однако я заболтался, вам пора уходить… Прощайте, вспоминайте, хотя изредка добром вашего соотечественника Семена Никодимовича Шепелева! Если же услышите, что я погиб, то помолитесь за меня по-нашему, по-православному, по-христиански, да отпустит Господь мои прегрешения.
И он почти насильно вытащил растроганного Чесменского к смотрителю и выпроводил его за двери тюрьмы.
Глава 8. Великий Анахарсис
Выйдя из тюрьмы, Чесменский в течение недели или двух имел все случаи по горло насладиться явлениями, происходящими из державства народа, прославляемого в столь звучных фразах жирондистами, которых Гора только поддерживала. Он убедился воочию, как Кондорсе бессовестно лгал, описывая события, бывшие перед его глазами: как Бриссо, туманностью фраз и громких слов прикрывал свое полное невежество, легкомыслие и тупость; как Верно и Адде, ораторы действительно не бездарные, трепетали перед кулаком какого-нибудь мясника или плотника, а то еще хуже, просто беглого каторжника и разбойника, который до того грабил на большой дороге дилижансы, а теперь предпочитает, под видом доброго патриота, грабить дворцы, отели, замки и имения, оставленные дворянами, бежавшими из Франции.
– Ведь грабить аристократов дело патриотическое! – говорит он, не отказываясь, кстати, задеть при этом бакалейные и москательные склады, содержимые уже никак не аристократами. – Но ведь они устраивались для тех же аристократов, от них питались и разрастались, – говорил он, – для аристократов заготовлялись, чего же их жалеть!
– Но ведь это не моя сфера, – говорил самому себе Чесменский, – я не могу мириться с аномалиею ломки без цели, под прикрытием только громких фраз. Шепелев прав, нужно домой, домой! Там и для меня может быть дело, там мне есть почва. А здесь, что такое я здесь? Однако я должен повидать этого пресловутого Анахарсиса, которого Книге мне выставил чуть ли не апостолом и над которым Шепелев и д'Эни смеются, как над дураком! Что бы кто ни говорил, но общество приняло на себя издержки моей отправки, освободило из тюрьмы и я должен сделать то, за чем сюда приехал. Это обязанность моей чести, мой долг, которого я не могу не сознавать!
Оказалось, однако, что великого человека видеть было не легко. Клоотц не скрывался, но был решительно невидим. Где он был, что делал – никто не знал, так что думалось, не прячется ли он от самого себя.
Несмотря, однако же, на всевозможные отговорки, прятанья, скрыванья, отказы, ему удалось, наконец, добиться, что великий Анахарсис, этот великий современный скид Французской республики, этот постоянный наблюдатель, принимавший в перипетиях едва ли не наибольшее участие, назначил ему час, когда он должен был ему представиться.
Он жил в то время в отеле Шатонефа, одного графа, успевшего убежать в Кобленец и потому занесенного в список эмигрантов, подлежащих гильотированию. Имущество его, в том числе и отель, были конфискованы, но прежде правильной конфискации, совершенно разграблены. Потому Клоотц имел полную возможность выбрать любой из павильонов этого отеля и устроить его по своему вкусу.
Маленький арапчонок, составлявший в то время единственную прислугу Анахарсиса, провел его с лестницы через маленькую переднюю прямо в кабинет и ударил в стоящий перед дверьми китайский гонг.
Кабинет состоял из большой угловой залы в семь окон, из коих пять, по продольной стене, выходили на набережную Сены, а два, по поперечной – в сад, покрытый уже в то время зеленью. Против простенка, между этими двумя окнами, шага на три вперед от стены, стоял огромный письменный стол, заваленный бумагами, набросанными в беспорядке, между коими высилась большая бронзовая лампа, изображающая Муция Сцеволу в момент самосожжения им своей собственной руки и с латинскою надписью на пьедестале: "Таковы граждане республики". Подле стола стояло большое, высокое, обитое богатою пунцовою с золотом парчою кресло, а подле него стул, единственный во всей комнате.
Стены залы были увешаны географическими картами и графическими изображениями разных статистических данных, также рисунками необыкновенно оригинальных, надо полагать, импровизированных костюмов, и обставлены множеством столиков, кронштейнов, пьедесталов и тумб, на коих красовались различные предметы весьма странного свойства. Тут была модель парохода, представленного Людовику XV еще маркизом де Ко и не принятая, потому что окружающие маркизу Помпадур иезуиты уверили ее, что такая машина могла быть выдумана только дьявольским наваждением; был земной и небесный глобусы; было мистическое сочетание различных положений звездного неба с историческими положениями земли; были кабалистические знаки и формулы, доставшиеся масонству, по некоторым объяснениям, чуть ли не прямым путем от самого Озириса.
"Не через его ли представителя на земле, древнего Аписа?" – спросил бы, пожалуй, иной, если бы все знали, что ничем так огорчить, обидеть и рассердить Анахарсиса нельзя было, как напоминанием ему, под каким бы то предлогом ни было, Аписа. Стояли вдоль стены, на кронштейнах и столиках, электрическая машина, громоотвод, машина, поднимающая воду; образцы неизвестных орудий, будущего процветания человечества; были масонские атрибуты: человеческий череп с берцовыми костями, курильница с треножником, кадуцей Меркурия с молотом и наугольником вольных каменщиков; стояли чучела вороны и кошки, мумия крокодила, висели одежды разных народов и характерные отличия разных стран. Целый скелет человеческий стоял в углу, под красною фригийскою шапкою и под красным покрывалом, составляя, может быть, прототип будущего дивного создания, очертившего нам фигуру Мефистофеля. Подле стола стояла модель корабля и, в заключение, станок гильотины.
Несколько позади стола и правее его, прямо против окна, выходящего в сад, стояла высокая бухгалтерская конторка, за которою, спиною к входу, стоял и что-то писал или чертил человек, в костюме не то древнего грека, не то средневекового пилигрима. Он так был углублен в свое занятие, что не оглянулся даже тогда, когда раздался громкий звук гонга, произведенный ударом приведшего Чесменского арапчонка.
– Вот он, – сказал арапчонок, указывая на спину занимающегося человека, – но масса занят, он думает, и ему нельзя теперь мешать!
С этими словами арапчонок исчез. Чесменский с Анахарсисом остались вдвоем. Чесменскому поневоле пришлось ждать, смотря в спину занимающегося человека.
Он увидел плечистого, довольно здорового малого, хорошего роста, со светлыми, несколько изрыжа волосами, широкою ступнею и толстыми руками. Голова его, срезанная к затылку, бросалась в глаза своей угловатостью.
Подождав немного, Чесменский закашлял и зашаркал ногами, но Клоотц не оборачивался. Он повторил свой маневр несколько раз; прежде чем тот наконец его услышал.
Когда он повернулся к Чесменскому лицом, то последнего поразили необыкновенно узкий лоб, вьющиеся кудрявые виски волос и большие темно-карие, необыкновенно выпуклые навыкате и будто несколько растерянные бычьи глаза.
– Ты хотел видеть меня, брат гражданин? – спросил Клоотц, упирая в Чесменского как бы застывший взгляд своих выпуклых глаз.
Чесменский сложил пальцы треугольником и коснулся своего брелока, изображающего молот. Клоотц отвечал ему соответственными знаками высшего масонства.
После взаимных приветствий по масонскому обряду, Чесменский обратился к нему с речью в таком виде:
– Младший ученик великого мастера просвятителей человечества от имени своего учителя и собратий пришел поклониться источнику света и хранителю мудрости в лице славного Анахарсиса великого и выслушать его поучения и повеления.
Говоря это, хотя и с изученною аффектациею, но все же с некоторою невольною робостью, так как Анахарсису ничего не стоило упрятать ту же секунду его опять в тюрьму, а от тюрьмы гильотина была весьма близко, он невольно внутренне смеялся.
Однако же он поклонился с полным самообладанием и подал ему условным образом сложенные письма бароном Николаи и Книге и свое полномочие, которым предоставлялось Чесменскому от имени общества иллюминатов условиться о взаимности действий с великим мастером масонства и тугенбудства. Полномочие было подписано отцами иллюминатизма, Филоном, Спартаком и Псаметихом.
– Мир и привет брату! – сказал Анахарсис и стал читать привезенные письма.
Чесменскому было время вглядеться в него весьма подробно.
Клоотц был человек еще молодой, лет двадцати восьми, не более. Густые, светлые брови, широкий рот, нежная, прозрачная кожа и видимая неразвитость верхней части его головы при его выпуклых, будто блуждающих глазах, невольно заставляли всякого спрашивать себя, что это такое?
– Неужели это выражение характера, непреклонной воли, глубины анализа, силы мысли? – невольно спросил себя Чесменский, вспоминая рассказы о его философском величии. Но в эту же минуту он говорил себе утвердительно: это не может быть, ни в каком случае не может быть! Ни низкий лоб, ни голова клином не дают возможности предполагать, что под ними может скрываться что-нибудь, кроме предвзятых идей и упорства, правда, может быть, бычьего упорства! Кроме такого упорства, ни Лафантер, ни Галль не нашли бы в его физическом строении ничего, что бы могло заставить чего-нибудь от него ожидать!
И Чесменскому пришел в голову отзыв об Анахарсисе, сделанный Шепелевым: "Немецкая тупость, едущая на французском фразерстве". В этом Чесменский уверился еще более, услышав обращенный к нему ответ.
– Руководитель баварских просветителей пишет мне, – проговорил Анахарсис, – о слиянии отдельных действий тайных обществ в Германии для признания разума за начало всего существующего. Но это уже сделано и утверждено. По декларации прав человека, разум принят за основание, а равенство – за начальную функцию всех отношений взаимности…
– Но действия, – позволил себе было ввернуть Чесменский.
Анахарсис рассердился и перебил его.
– Должны быть разумны, вот и все! – сказал он как-то резко, будто его не понимают.
Потом вдруг он самым наивным тоном спросил:
– К какому департаменту брат Книге предположил отнести баварских иллюминатов?
Чесменский не понял вопроса.
– То есть, как это к какому департаменту? – нерешительно переспросил он. – Большею частью они в Баварии…
– Это ничего не значит! Они могут быть в Баварии, в Лапландии, в Сибири! – отвечал великий Анахарсис. – Но они одинаково должны принадлежать великому народу, первому, открывшему свободу мысли. Я, например, родился близ Берлина, но я француз, по естественному праву человека быть человеком!
– Но ведь Бавария независимое государство…
– Ни независимых, ни зависимых государств более нет и не может быть! Все независимы и в то же время зависимы по взаимности отношений. С падением тиранов, против которых объявлена уже теперь всеобщая война, люди должны составить одну великую семью, несмотря на различие рас и местностей происхождения. Это должна быть одна Франция.
– Вы и Россию, таким образом, причисляете к Франции? – спросил изумленный Чесменский, и в нем, против его воли, дрогнула гражданская жилка чувства своей самостоятельности, ему как-то грустно, обидно стало, что вот его великое отечество предполагается обезличить, предполагается слить с чем-то, что должно закрыть собою его самобытность до того, что оно должно будет забыть даже свое наименование.
– И Японию, и Китай, и Корею! – горячился Анахарсис. – Есть земля, есть люди – эти люди, волею-неволею должны составить народ, управляемый разумом, выражающимся в народном державстве. Само собою разумеется, что для определения этого всеобщего народного державства, распределения общих тяжестей и водворения повсеместного порядка, необходимо разделение нэ общины, когорты, которые, сливаясь одна с другою, составят департаменты. Первый департамент Франции начинается с северо-востока Европы и называется Обо—Печорским. Он располагается между течением эти двух великих северных рек…
– Учитель, да там и не живет никто! – с невольною улыбкою проговорил Чесменский. – Кроме разве нескольких зверопромышленников и лопарей!
Но Анахарсиса всякое замечание и возражение только горячило.
– Тем скорее они должны принять царство разума, – горячо отвечал он, – принять царство, разливающее повсеместное довольство и ведущее к общему благоденствию и счастью!
– Само собой разумеется, – продолжал он несколько хладнокровнее, – что для поддержки общих стремлений к пользе, добру и равенству, нужно чтобы все отделяли часть своих избытков на общее управление, которое по справедливости принадлежит великому народу, первым указавшему на зарю общего счастья в свободе, равенстве и братстве и стоящему во главе цивилизации. Но этот налог должен быть легок и падать только на богатых! Этот налог должен быть только братский взнос для общего блага…
Чесменский молчал, видя, что каждое слово его только сердит Анахарсиса, и помня обязанность масонства и иллюминатства в послушании старшим степеням. Но в то же время он кипел от негодования.
Аудиенция окончилась на этой пустой болтовне. Анахарсис остановился на мысли, под какими номерами следует заносить департаменты Америки и какими средствами заставить присоединиться ко Франции Англию? Он обещал обо всем этом подумать и подробно описать руководителям просветителей. Чесменскому ничего более не оставалось, как откланяться.
Но откланиваясь, на замечание Клоотца о выполнении платежей Бавариею Чесменский не мог не заметить:
– Учитель, Бавария теперь в войне с Франциею. Французские войска разоряют баварские области, убивают ее жителей. Будет ли справедливо заставлять их еще платить на поддержание того, что их губит?
– Война ведется против тиранов, а не против народа, – заносчиво отвечал Анахарсис. – Народ, достойный свободы, должен понять это и жертвовать своим настоящим ради благополучия будущего. Будет убито несколько тысяч жителей, сожжено несколько городов, казнено несколько отдельных упрямцев-аристократов, но что все эта значит против вечности и стоит ли обо всем этом говорить в виду будущего общего благоденствия человечества!
На этих словах они расстались.
Так вот он, великий Анахарсис, вот тот, который думает разлить благоденствие при помощи штыков и пушек. Вот тот, который хочет ввести счастье убийством! Нет, тут не то! Не убийством и насилием достигается благосостояние. В убийстве нет и не может быть разума!
Такое замечание, после ужасов французской революции и войн, веденных Наполионидами и против них в течении почти всего XIX века, разумеется, далеко не так смутило бы нынешнего мыслителя, как смутило оно юного питомца последних десятилетий XVIII века, в котором, до самых минут террора, гуманность, доходящая даже до сентиментальности, составляла первое и существеннейшее свойство образованности и цивилизации. Чесменского смутило оно до крайности, и великий Анахарсис представился в его мысли далеко не великим.
Но сознание, что тут не то, не так, заставило обратиться Чесменского к самому себе, заставило вдуматься, то ли и так ли то, чем он увлекся, за что готов был безропотно пожертвовать жизнью. Затем он ездил к Анахарсису – чтобы сблизить с ним общество иллюминатов. А что ему иллюминаты? Но как же, их цель благая в высшей степени. Они хотят просвещать, вести народ по пути разума, прогресса, преуспеяния. Они хотят уничтожить мрак суеверия, уничтожить иезуитизм, гнет, насилие! Ничего не может быть гуманнее, разумнее. Цель истинно прекрасная. Но средства? Те же, которыми пользовались иезуиты, распространяя суеверие, схоластику, мрак… Они также не хотят разбирать средств для достижения цели? также вводят у себя условия мертвого послушания, обращая людей в своих руках в исполняющие чужую волю трупы; также принимают на свое попечение бретера и, может быть, содержат несколько наемных убийц.
Такими ли путями распространяются истины, действительно могущие служить к возвышению и улучшению человечества? Нет, Шепелев прав, иллюминатство, масонство и все другие тайные общества, равно как и иезуатизм, и все общества и братства, настоящие и будущие, которые будут иметь секретные цели, руководства и указания, ничего более, как заговор против человечества!
– Но, – объяснял Шепелев, – немцам и французам, с их сословностью, привилегиями городов и взаимным противодействием учреждений, поступать в такие общества есть какой-нибудь смысл. Вступать же в них русскому, у которого есть почва, есть дело дома, просто бессмысленно. "Разве только я, – говорил Шепелев, – за деньги и разные выгоды. Но я, положим, весь век был продажным человеком, а вы-то, вы?" Прав Шепелев, тысячу раз прав! Еду в Россию, что бы там ни было, чем там ни было, чем бы не решили, если и повесят, то, право, русская веревка лучше французского гильотинного ножа…
Несмотря на это решение, он дождался письма Анахарсиса к барону Книге, считая обязанностью в точности выполнить данное ему поручение, дать отчет о поездке и сделать заявление о своем выходе из общества, прежде чем он его окончательно оставит, чтобы никого не вводить в заблуждение относительно своих убеждений.
Между тем предсказание Шепелева начинало сбываться. Стоглавая гидра начинала пожирать сама себя. Гильотина рубила не только аристократические головы, но и плебейские. Прежде всего, попали под ее нож жирондисты, федералисты и фельянды, одним словом, все, кто неодинаково думал, как думает Гора. Скоро она начала резать всех подозрительных и подозревать стала даже самое себя. Прежде всех должна была свалиться голова Дантона и того же Анахарсиса. Шепелеву удалось уйти из тюрьмы, но Робеспьер его все-таки доконал, выдав его за прусского соглядатая. Шепелев, кстати, говорил по-немецки как немец, и был пойман во время разговора с каким-то немцем. По крику какого-то агента Робеспьера, что это шпион, соглядатай, на него набросилась толпа. Хотя в руках у него была палка и тот, который обозвал его шпионом, лежал у его ног с расколотым черепом, а он защищался молодецки, убив не менее десяти нападающих, но все же был убит бабами Сен—Антуанского предместья, которые изорвали его в куски, разнесли его тело по косточке. Наконец, дошла очередь до Сен—Жюста и самого Робеспьера. Ничего этого, впрочем, Чесменский не дождался, – в это время он был уже по пути в Россию.
Но еще прежде своего выезда из Парижа, когда еще ни Дантон, ни Анахарсис не ожидали столь близкой к ним катастрофы, имея уже, впрочем, письма Анахарсиса в своих руках, шел он по площади Революции и вдруг видит выходящую из Пантеона процессию – торжественную, парадную, великолепную, с атрибутами власти и блеском представительности.
– Что это такое? – спрашивает Чесменский.
– Празднование торжества разума, – отвечал ему кто-то из толпы. – Сегодня 20 брюмера (10 ноября), потому назначено шествие богини Разума из Пантеона в храм Свободы и Равенства!
Чесменский остановился. Перед ним проносились значки и знамена разных парижских секций и клубов, и между ними, среди самой бесшабашной толпы, на длинной древке болтались самые грязные, самые оборванные штаны – знамя санкюлотов. За этою толпою шел Парижский муниципалитет, замыкаемый Шометом и Гебером, то есть прокурором Парижской коммуны и его главным помощником, гнуснейшим из представителей убийства! За ним ехал мэр города Парижа и великий Анахарсис с некоторыми членами Горы, а за этими представителями власти шли в два ряда молодые девушки в белых платьях; украшенных розами, и с букетами в руках. Позади них, на плечах четырех великанов, одетых в какие-то фантастические костюмы, неслось седалище – нечто подобное колеснице Феба, обернутое белым серебристым глазетом с прикрепленными к нему гирляндами роз. На этом-то фантастическом троне восседала богиня Разума, обернутая в небесно-голубой газ и прикрытая плащом того же небесно-голубого цвета. Она была в римских сандалиях на босых ножках и с атрибутами свободы, равенства в братства в руках, обозначаемых кадуцеем Меркурия, лавровым венком и ветвью оливы. Голова ее украшалась миртами и фригийским колпаком.
В своем уборе, с золотистыми волосами и необыкновенно свежею белизною лица, богиня Разума была не дурна и волновала красотою своею беснующееся и отуманенное население Парижа.
За нею опять шли девицы с цветами, потом хоры музыки, за ними старшие представители общин, выборные и, наконец, войско и национальная гвардия.
Вся эта толпа проходит мимо глаз изумленного Чесменского и входит в храм Notre‑Dame, называемый тогда храмом Свободы и Разума.
– Да это комедия, – готов был воскликнуть Чесменский, но вспомнил тюрьму, удержался и спросил только скромно: – Дозвольте узнать, гражданин, кто же представляет тут богиню Разума и почему выбор пал именно на эту женщину, по баллотировке, что ли?
– О нет! – отвечал какой-то словоохотливый француз. – Это жена типографщика Маморо и говорят, порядочно украшающая голову своего супруга оленьими украшениями, преимущественно с его приятелями, муниципальными чиновниками коммуны, так как он печатает все бланки, все приказы и циркуляры, которые от коммуны по городу Парижу рассылаются. Эти-то и его приятели, из которых не исключают даже ни Шомета, ни Гебера, хотя первый только и толкует о святости брака и целомудренной жизни, а уже о Венеоне и Рансоне говорить нечего – эти граждане у Маморо живмя живут, день и ночь не выходят. Ну, вот они и устроили, чтобы богинею Разума была она, с платою ей от города за каждую процессию на костюм и прочее, и хорошею платою. Дело, говорят, недурное вышло, очень недурное, то есть с коммерческой точки зрения.
Между тем в храме, поставленная на пьедестал богиня, сходит торжественно на землю, несет венок и кладет его вместе с оливкового веткою и кадуцеем свободы на алтарь отечества, потом, возвращаясь, направляется к председателю комитета общественной безопасности, который принимает ее в свои объятия, сопровождая их поцелуем при общих аплодисментах народа. Видите, слияние разума и власти! Затем вся процессия, тем же порядком отправилась в заседание конвента.
Чесменский выдержал себя, просмотрел всю эту процедуру не улыбнувшись и не сказал ни слова. Но он услышал, что его же мысль высказал какой-то молодой француз.
– Да это просто комедия! – сказал он.
– Отчего же комедия, гражданин? – спросил этого француза кто-то из толпы, вероятно, из ярых вольнодумцев, может быть, прежних дворян, теперь уже поголовно приговоренных к гильотине. – Ведь ты слышал, что вчера в клубе говорил Робеспьер? Если бы не было Бога, то нужно было бы его выдумать! Ну вот и выдумали богиню! Правда, что богиня-то, говорят, с изъянцем, ну да что ж делать-то, когда лучшей не нашлось? Все же лучше египетского Аписа или крокодила. Эту хоть целовать можно!








