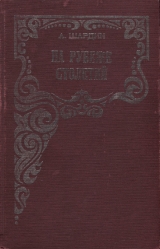
Текст книги "На рубеже столетий"
Автор книги: Петр Сухонин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 27 страниц)
Глава 4. В тюрьме
За неделю до казни короля, в парижской тюрьме "Свободной пристани" в улице "Ада", вновь устроенной для арестуемых, во имя свободы и братства, французских дворян, в довольно роскошном и с полным комфортом отделанном кабинете сидели графы Растиньяк и Легувэ и маркиз Буа д'Эни.
Дом для этой тюрьмы был куплен и отделан на счет арестованных, под условием, что каждый, соответственно сделанному им взносу, имеет право занимать в нем какое угодно помещение и пользоваться за свои, разумеется, деньги различными удобствами.
Они сидели за круглым столом и занимались важным делом: обдумывали menu сегодняшнего обеда.
– Я хочу сегодня хорошо пообедать, – сказал граф Растиньяк, старший из собеседников, мужчина лет тридцати, не дурной собою, с острым взглядом своих карих глаз, тонкими губами и темно-каштановыми волосами. – Хочу, во-первых, потому, что хорошо пообедать всегда хорошо; а во-вторых, потому, что я пригласил с того отделения тюрьмы обедать сегодня у нас нашего врага, этого разбойника министра, этого Бальи, подписавшего наш арест и требовавшего для нас скорейшей смертной казни. Положим, это разбойническое требование не было уважено, мы живем до сих пор. Разбойника победили другие разбойники, также арестовали, и теперь одинаково требуют смертной казни как для нас, так и для него. Но это нисколько не лишает нас права признавать его действительным врагом нашим; а врагов, как и друзей, если зовешь, то следует угощать хорошо, угощать всем, что ни есть лучшего.
– Что касается меня, – отвечал граф Легувэ, человек годом или двумя моложе графа Растиньяка, но с видом более серьезным и даже несколько задумчивым. – Я всегда рад хорошему обеду, но с тем, чтобы он сопровождался хорошим вином. А едва ли мы достанем сегодня хорошего перпиньянского, которого выпили еще вчера последнюю бутылку!
Маркиз Буа д'Эни, по летам младший из них, так как ему едва ли минуло двадцать три года, красавчик писаный, высокого роста с русыми волосами и нежными голубыми глазами, не сказал ни слова. Он молча на лежавшем перед ним листке бристольской бумаги рисовал итальянским карандашом женскую головку.
– Достанем, как не достать! – ответил Растиньяк. – Пошлем к управляющему Пралена, ему погреб его господина ведь не для санкюлотов же беречь? А у Пралена, я знаю, был большой запас отличного перпиньянского вина. Потом у меня в погребе есть превосходная мадера 65‑го. Прикажу весь ящик принести! Авось выпьем прежде, чем отрубят голову! А ты, маркиз, все об одном думаешь, все свою герцогиню очертить желаешь, – продолжал он, обращаяь к Буа д'Эни. – Хороша, очень хороша, сказать нечего! Вот иди и зови ее от имени всех у нас обедать. Скажи, что зверя Бальи ей покажем, того самого зверя, из-за которого теперь мы сидим здесь, вместо того, чтобы прогуливаться в Париже или играть в рулетку где-нибудь в Трире или Бадене.
– Ну так какой же обед, суп из черепахи? – проектировал Легувэ.
– Пожалуй, тем более, что говорить, Фроберу превосходных черепах привезли и, разумеется, не санкюлотам же их есть! – ответил Растиньяк. – Потом дикая коза в трюфелях а lа Басомпьер!
– Прекрасно! Говорят. Басомпьер выдумал это блюдо, сидя в Бастилии, и мы, в воспоминание его мысли, будем есть его в тюрьме.
– После легюмье: артишоки в масле и спаржа по-голландски, – продолжал проектировать Растиньяк.
– Остендские устрицы! – бросил вскользь свое слово маркиз Буа д'Эни, продолжая рисовать.
– Отлично! А там: "аспазия финансие"! Оно для Бальи будет как раз кстати. Он все проповедовал финансовую аристократию.
– После пунш ройяль!
– Нынче нужно говорить пунш санкюлот, ройялизм в тюрьме сидит, – заметил Легувэ.
– Ну уж санкюлотам-то такой пунш не полагается, не по носу, – ответил Растиньяк. – Какое же жаркое?
– Да если достанем, всего лучше фазан по-королевски.
– А на сладкое персики и ананасы в рисе! Потом к десерту: дюшесы из Тулузы и виноград из Фонтенбло! Так, что ли?
– Ну да, чего же еще?
– Нет рыбы! – бросил неожиданно Буа д'Эни. – А герцогиня, как я заметил, всегда кушает рыбные блюда!
– Браво, д'Эни! Теперь я вижу, что ты действительно любишь, как говорят, всею душою, всем сердцем. Подмечать желания – это верный признак истинной страсти. Но что ты прикажешь делать, когда проклятые санкюлоты, кажется, всех лососей из Сены выгнали. Не ловятся, да и только! Третьего дня с трудом достали рейнского сазана, ведь теперь никто ничего не везет во Францию. Впрочем, можно подать фаршированного карпа под майонезом, только для того нужно приказать украсть его из тюльеских королевских бассейнов. Думаю, теперь это не слишком затруднительно. Королю, полагаю, не до карпов!
– А вина? – спросил вновь Легувэ.
– После супа подадим перпиньянское от Пралена и мою мадеру; козу запьем бордосским; с устрицами – английский эль, благо теперь он непомерно дорог; с аспазиею и после рыбы подадим рейнское, с жарким – шампанское; а после сладкого вспомним отцов бенедиктинцев… Кажется, будет хорошо? – отвечал Растиньяк.
– Да! Только принесли бы перпиньянского! Кстати, говорят, отцы бенедиктинцы хотят прекратить свое производство, и будущая Франция будет иметь одним удовольствием меньше!
– Я думаю и не одним, – сказал Буа д'Эни, любуясь своим рисунком. – И она заслужила это, хотя бы тем, что уничтожила мои виноградники и лишила себя возможности пить крем д'Эни! Ведь уничтожать плоды труда есть тоже труд, но думаю, что, во всяком случае, не труд разума!
– Кто же у нас обедает еще? – спросил Легувэ.
– Обедает виконтесса де Креси, чтобы было не скучно его герцогине. – Растиньяк указал с улыбкою на Буа д'Эни. – Потом обедает граф Фонтенэ с женою, граф Лозен, и еще я позвал этого русского дуэлиста, знаешь, что Робеспьера хотел заставить с собою драться и загнал его на чердак, как его фамилия-то: де Шепель… Шевель… Право, никак не могу запомнить эти варварские иностранные имена, русские и английские… Английские, те хоть большею частию коротки: Кокс, Дикс, а русские, польские, иногда и итальянские, это Бог знает что! Натощак не выговоришь! Знаешь того, что маркизу Вилеруа на нос зарубку положил?
– Шепелев, что тут трудного? – проговорил Легувэ. – Тебе просто не хотелось вспомнить его имя. Рассказывают, что ты и сам от него чуть не получил такой же зарубки, за то, что переврал его фамилию и отделался только тем, что вызвался фехтовать с ним на пари и заплатил деньги.
– Да, господа, черт возьми, признаюсь! Право, кроме Сен—Жоржа, я и не знаю, кто бы мог против него стать. С первого же аванса я почувствовал, что весь в его руках. Нечего сказать, он этим-таки пользовался и порядочно обирал наших. А как он играет, заметили вы, как он играет? Карты будто по заказу вытаскивает!
– Вообще, нужно правду сказать, что он порядочный негодяй, – сказал граф Легувэ. – Нахален и низок, и еще нынче пообтесался, а то был просто неприличен.
Но все же он вполне заслужил наше внимание. Вызвать в настоящее время на дуэль Робеспьера, хотеть заставить его драться – это, право, заслуга, и заслуга серьезная! Если бы он его убил, то разом поставил бы себя на такую высоту, что ему монумент поставили бы, герб позолотили. Разом бы историческое бессмертие заслужил. Но, не говоря уже о величии такого подвига, как полное искоренение такого изверга, как Робесньер, самый вызов его, выставивший перед Франциею всю низость того презренного гада, которым она теперь восторгается, есть уже заслуга перед человечеством. Во внимание к сознанию этой заслуги мы с графом согласились приглашать его изредка в наше общество.
Всего за нашим столом, вместе с нами, будет обедать девять человек! Ну, а там другой стол…
– Гастрономическое число! – заметил Растиньяк.
– А музыка будет? – спросил д'Эни.
– Чтобы тебе было удобнее напевать своей герцогине разные сладости? Как же, я приговорил и уговорил! – отвечал Растиньяк. – Приговорил музыкантов, обещал заплатить сполна серебряными экю, не давая ни одной ассигнации, а уговорил смотрителя, подарив ему мою золотую цепочку. Да нельзя же! Два графа и маркиз угощают, так нужно, чтобы все в порядке было как следует, хотя они и сидят в тюрьме. А какой же обед без музыки?
– Сервировкою и цветами я распорядился, – прибавил Легувэ. – Тебе, маркиз, нужно позаботиться только о хрустале, потому, что растиньяковский богемский хрусталь весь перебили эти разбойники, когда желая его засадить, обыскивали его отель, а у меня богемского хрусталя никогда и не было. Ну, а за нашим обедом не подавать же пить вино из бокалов французского стекла?
– Зачем, я прикажу принести свой богемский! – отвечал маркиз.
Чтобы читателям могла быть понятна возможность подобного разговора в революционной тюрьме, нужно сказать, что конвент, пленив короля с семейством в Варене, когда тот хотел оставить волнующуюся Францию, и, заточив его в Тампль, объявил от имени государства арест всему неуспевшему бежать французскому дворянству, обвиняя его в содействии бегству короля и вообще в выражении ему сочувствия; в то же время конвент приказал арестовать большую часть духовенства, не принявшего гражданской присяги, и множество чиновников и офицеров королевской службы. Но, по объявлении ареста такому множеству лиц, нужно было их разместить. Тюрьмы были переполнены; распорядились купить несколько домов, но как денег не было, то решили покупать дома на счет тех же арестуемых аристократов, которые пожелают иметь некоторые удобства в помещении. Из этих-то вновь купленных домов образовались новые революционные тюрьмы "Свободной пристани" святого Лазаря, и другие, впоследствии был обращен в тюрьму и Люксембургский дворец. Разместив таким образом арестуемых, нужно было озаботиться и их содержанием, а у государства решительно не было на то средств. Тогда было решено: пусть всякий содержит сам себя и живет в тюрьме на свой счет, как умеет и как хочет, с тем, чтобы богатые, за предоставленные им льготы, оплачивали содержание бедных; наблюдение за ними поручалось смотрителям, под надзором Парижской коммуны. Такое решение, разумеется, заставило не препятствовать сношению арестованных с внешним миром. Они имели право требовать к себе своих управляющих, поверенных, ходатаев, заведующих их домами, которые и доставляли им все, чего они желали.
Для смотрителей тюрем, надзирателей за камерами, караульных и им подобных, равно как и для прокуроров парижской коммуны, такое распоряжение было слишком выгодно, чтобы они могли желать его ограничить. Они, напротив, старались всеми мерами усиливать требования арестантов, извлекая из таких требований себе пользу, потому что обложили всякое исполнение их пошлиною, взимаемою ими под благовидным предлогом: на содержание тех, кто не в силах содержать себя.
А как контроля ни в сборе этой пошлины, ни в расходовании ее не было, то и можно представить, какую выгоду из прихотей богатой аристократии, про которую говорили, что на счет стоимости одной ее серебряной посуды можно купить все прусское королевство, все надзирающие за тюрьмами умели себе извлекать.
– Граф Растиньяк требует на кухню тюрьмы двух поваров!
– Ну, что он, – говорит смотритель. – Пусть платит пошлину за каждого повара по 10 франков в день и требует их хоть десять!
– Граф Растиньяк хочет хор музыки!
– Прекрасно! Пусть заплатит 10 франков с каждого музыканта.
– Граф Легувэ приказал принести свой серебряный сервиз!
– Отлично! – говорит смотритель. – Пусть за впуск и выпуск заплатит 20 франков.
– Маркиз д'Эни велел принести свой богемский хрусталь!
– Ну, тоже 20 франков в пользу содержания бедных арестантов!
– А вино?
– По два франка с бутылки!
– А провизия?
– По три франка с обедающей головы!
– А мебель?
– Ну, на ту нужно взглянуть.
– С одной штуки и 2 франка довольно взять, а с другой не грех требовать и двадцати!
– Зато, когда им отрубят голову, мебель вся в тюрьме останется. Наследники ведь не придут же за нею, чтобы их тоже засадили!
– И то правда! Так мы с мебели будем брать не за внос, а за вынос.
И так все, решительно все!
– Я не думаю, чтобы такой порядок был дурен, – говорил член комитета общественной безопасности Колло д'Эрбуа. – Во первых, благодаря ему, содержание всей этой массы арестованных государству ничего не стоит; во-вторых, тоже благодаря ему, у нас из тюрем почти не бывает побега арестантов. Беднякам бежать не на что, а богатых смотрители и надзиратели берегут как зеницу ока. Допустить бежать богатого, для смотрителей и надзирателей все равно что зарезать курицу, несущую золотые яйца.
– Так-то оно так, но допускаются иногда такого рода развлечения…
– И что же, пускай развлекаются, если от того весьма хорошо! Ведь баре, тираны, кровопийцы, что о них толковать! Пусть себе тешатся барски, обедают, ужинают, поют и пляшут, пока мы их всех самих чертям на ужин не присудим или на эшафоте не заставим проплясать.
Разумеется, об этом думали арестованные аристократы французской абсолютной монархии. Арестованные огулом, без всякой причины с их стороны, большею частью люди молодые, беззаботные, веселые, как по характеру, так и по воспитанию, они знать не хотели, что там будет дальше. Теперь им позволяют жить как хотят. Ну и прекрасно! Нужно этим пользоваться. А там, авось народ образумится и их выпустит; не всегда же под арестом держать будет! Ну, а если голову с плеч, ну так что же, ну голову с плеч! Оттого голова ведь не будет крепче на плечах держаться, что мы станем постничать да хмуриться.
На основании такого рода рассуждений, представители родовых начал французской аристократии обратили свои тюрьмы в приюты светских удовольствий, исчезнувших в это время из демократического Парижа. Роскошные обеды, изящные балы, концерты первоклассных артистов, музыкальные, танцевальные и литературные утра и вечера, драматические представления и живые картины, представления пословиц и шарад в самом роскошном и изящном виде, перенеслось сюда из дворцов, замков, отелей и других помещений роскошного аристократизма, теперь разоренных и ограбленных. Такого рода светские развлечения и удовольствия наполняли собою все время тюремной жизни французской аристократии. Ей и подумать о себе было некогда, хотя она и была в тюрьме.
Ну, что ж не все ли это равно, тюрьма ли, дворец ли, было бы весело, особенно тем, кто здоров и молод?
Пожалуй, если бы только суровая Немезида не указывала беспрерывно правого призрака и не грозила, в конце концов, смертью.
Но молодежь смеется над всеми угрозами; она не боится смерти!
– Эх, Боже мой, смерть не беда, – говорит граф Растиньяк. – Вот беда, настоящая беда – это скука! Мы, впрочем, от скуки выдумали новое развлечение!
– Какое?
– В собственную смерть играем!
– Как так?
– Очень просто! Представляется, со всевозможною точностью, тот беззаконнейший, бессовестнейший суд, перед которым мы должны предстать; предлагаются вопросы; формулируется обвинение, разумеется, нелепое; в таком роде: не носили ли вы парика?
– Носил!
– А пряжки на башмаках?
– Тоже носил!
– Обвиняется в нарушении нравственности и порядка. Обвиняется в явном неуважении народа, противодействии власти и отрицании законов свободы, равенства и братства, ибо, по собственному признанию вашему, носил костюм аристократов! Затем судьи удаляются для совещания и происходит объявление несправедливейшего приговора: за ношение пряжек на башмаках и парика, доказывающего презрение к народу – смертная казнь! При таком объявлении, если есть жена, сестра, мать или дочь – они падают в обморок; слышны всхлипывания, слезы. Потом идет приготовление ко смерти, прощание, слова завещания и мольбы, обращение к народу; наконец, самое исполнение приговора, предсмертный туалет и самая казнь. Каждый старается представить, как он будет умирать на эшафоте, что будет делать и говорить прежде, чем положит свою голову под секиру палача или гильотины!
– А потом?
– Потом представляется другой, третий, всякий по-своему, смотря по тому, как он смотрит на жизнь и на смерть и что ожидает от будущей, и что оставляет в здешней жизни, пока не придет очередь в самом деле повторить то, что так красиво выходило в представлении!
Так рассказывала о себе и так в самом деле забавлялась в тюрьме молодежь представителей родовых начал французской аристократии, не думающих о том, что они стоят на рубеже, заканчивают собой последнюю страницу минувшей истории. Не хотели они того знать, что с падением их беззаботных голов, начинается новая история, в которой род должен будет уступить свое влияние другому элементу общественности, капиталу, трудовой рост которого род так искренно презирал. Нам возразят: неправда, род любил богатство, то есть капитал, очень, даже чересчур любил! Да, в его результате, в его конечном проявлении. Он любил богатство, капитал, когда тот падал в его рот сам, в виде манны с небес: были ли то королевская милость, нежданное наследство, выигрыш в карты или подарок любовницы. Но трудиться, копить, пускать в оборот, брать проценты – фи! Это жидовство! Достойно ли оно какого-нибудь Гизо или Монморанси? Нет! Этого род не любил!
– На подобные вещи способен лишь Филипп Эгалите!
– Да, потому я иногда думаю, не из жидов ли он?
Детское рассуждение, не правда ли? Рассуждение, откоторого неминуемо должен был измельчать род, до исчезновения самого принципа родовых начал; до того, что щит с лилиями и перелетными птицами, прикрывавший когда-то своей эмблемой гордых рыцарей бурбонского дома и родовитых Гизов, боровшихся с королями Франции, прикрывает в настоящем грешки чуть ли не уличной девки в Петербурге. Но история есть история. Факт измельчания рода несомненен. Принцип родовых начал должен всецело был уступить свое место капиталу. Но станет ли от этого лучше? Бог ведает!
Тогда, по крайней мере, во время разгара страстей французской революции, никто не мог положительно ответить на этот вопрос. Практика жизни не указала ему, что преобладание капитала производит такой гнет, перед которым гнет рода кажется игрушкою. Не возбуждалось еще от тяжести гнета, производимого капиталом со всею жестокостью его бессердечия, то роковое, кровное противодействие третьего элемента общественности, труда, которое, если не будет вперед обсуждено и предупреждено, может окончиться, пожалуй, полным разгромом и падением нынешней цивилизации. Ведь трудно только начало. Легко говорить, легко все отрицать, легко приговарить все огулом, дескать, аристократы делают злоупотребления – руби головы аристократам; капитал давит и жмет – режь капиталистов. А дальше что? Какие последствия будут от этой общей резни? Тогда поневоле приходилось опять отвечать: Бог ведает! Практическая жизнь, обращаясь в рутине заскорузлых понятий, не давала никаких данных для анализа, выступающих из такого рассуждения вопросов. Поневоле приходилось опираться и увлекаться красивыми фразами, вроде равенства перед законом, державства народа и неограниченной свободы, охраняемой комитетом общественной безопасности; а этот комитет, по своему человеколюбию ради обеспечения и безопасности Франции, ее общего счастия, требовал не более, не менее под нож гильотины как сто тысяч голов!
Всего менее могла думать и говорить об этом заключенная в тюрьмы французская аристократия, вскормленная и воспитанная фразерством и на фразерстве. Она просто хотела жечь жизнь в том виде, в каком она есть в данную минуту, не думая о завтрашнем дне. Она знала, что этого завтра может у нее и не будет. И она именно жгла жизнь. Все, что можно было иметь в Париже, было только в тюрьмах. Париж нуждался в насущном хлебе, в тюрьмах – наслаждались гастрономическими обедами; Париж стонал под грозою страшного террора, в тюрьмах раздавалась музыка, пели и танцевали, стараясь забыть, что они танцуют на вулкане; Париж богохульствовал, отрицая религию и поклонение высшему разуму, в тюрьмах служились торжественные мессы, исполнялись художественно реквиемы и производились другие духовные церемонии с таким же благоволением и блеском, с каким столь недавно выполнялись они при блестящем версальском дворе. Светские удовольствия, роскошная жизнь, свойственные свету и его суете, интриги затуманили собою легкомысленное и не думающее ни о чем общество заключенных. Не один роман разыгрался в тюрьме. Мало того, тюрьмы вздумали еще благотворить. Начинались концерты, представления, базары с благотворительной целью. Дамы жертвовали своими вещами, трудом, деньгами. Мужчины следовали за дамами. Собирались довольно значительные суммы, которые шли на дела помощи и благотворения тем, кто с неистовством требовал их скорейшей смерти. Но это именно и есть болезнь, недостаток, если хотите уродство родовых начал, уродство рода, как элемента общественности. Он презирает и пренебрегает всем, что не принадлежит ему, и благотворит тому, кого сам же презирает и чем пренебрегает. Другое дело капитал…
В числе арестованных аристократов, оставшихся неприкосновенными среди сентябрьских убийств, вероятно, случайно, потому что о них забыли, спаслась вместе с Растиньяком, Легувэ и д'Эни сидевшая с ними в том же отделении тюрьмы "Свободной пристани", молоденькая двадцатидвухлетняя вдовушка, герцогиня де Мариньи. Это была прелестнейшая женщина, добрая, милая, любезная. Покойный муж ее, герцог, так как был единственным сыном командовавшего французскою армией в Нидерландах графа де Мариньи, пожалованного герцогом за победу, одержанную им над австрийцами под Брюсселем, был вторым интендантом французской королевской армии. Он женился поздно, получив, уже после смерти отца, его титул и имение. Тому, впрочем, было несколько причин. Во-первых, когда граф Мариньи был возведен в герцоги, то финансы Франции были далеко не в блестящем положении. Он должен был довольствоваться весьма незначительным, данным ему на герцогство майоратом и с трудом мог поддерживать с надлежащим блеском свой герцогский герб.
Жить двумя домами, двумя семействами, герцога де Мариньи и графа де Мариньи они решительно не могли, тем более что у отца его, кроме него, было несколько дочерей, которых нужно было или выдать замуж, или разместить по монастырям, а то и другое требовало значительных расходов. Потом граф де Мариньи, командовав в молодых летах полком, скоро получил назначение быть губернатором Лузиньяны, а там жениться прилично было не на ком, да и не стоило. Губернатор там и без жены как сыр в масле катался. Наконец, было еще свое, сердечное препятствие графу де Мариньи жениться вовремя, которое отстранилось только тогда, когда он достиг солидных, весьма солидных лет, лет эдак шестидесяти, а, может быть, и с хвостиком.
Но получив назначение второго интенданта и титул герцога, вместе с именем, когда сестры были уже пристроены, он решил непременно жениться. Во-первых, какой же это будущий герцогский дом, когда нет герцогини. Потом, ему хотелось бы иметь наследника своему герцогскому имени.
По тогдашнему обычаю, он выбрал себе молоденькую и хорошенькую монастырку, принадлежащую одной из самых старинных, но обедневших фамилий Франции, которая приглянулась его сластолюбивому, старческому взгляду.
Разумеется, отказа он не получил: да и некому отказывать было. Девушка была круглая сирота. Отца и матери у нее не было, а старший брат служил где-то в колониях. Что же касается монастыря, то он рад был отделаться от неплатящей пенсионерки и старался всеми мерами заставить девушку думать, что Бог посылает ей особое счастье в сватовстве герцога; тем более что было известно, что герцог не оставит монастырских увещаний без вознаграждения. И свадьба состоялась.
Юная, неопытная, не знакомая ни со светом, ни с жизнью, едва ли понимающая, в какие отношения она себя ставит, молодая герцогиня вдруг очутилась среди полного разгула тогдашнего развратного общества, среди толпы ловеласов, составивших себе из ухаживания за чужими женами цель жизни и возведших правила такого ухаживания на высоту науки.
Ясно, что первое время головка ее совершенно отуманилась.
Среди светского блеска и шума, среди ежедневных удовольствий, окруженная толпою поклонников и ухаживателей, со старым мужем, достаточно богатым, чтобы поддерживать ее на известной высоте, притом мужем, не только не ревнивым, но, кажется, гордящимся ее светскими успехами и победами, герцогиня стала просто целью общего светского соревнования. Все стремились заслужить ее одобрение, все ловили ее взгляд.
Легкость правил, внушаемых светом, разумеется, должны были герцогиню, даже против ее воли, увлекать. Она невольно должна была поддаваться своим впечатлениям. По счастью, взаимное соперничество этого бесконечного, общего ухаживания охраняло герцогиню от таких увлечений. Оно, можно сказать, берегло ее от ее самой. Таким образом, молоденькая герцогиня вне всяких правил, вне особых принципов, со старым мужем, ожидающим наследника своего имени от случая, сохранила себя в течение почти трех лет если не в нравственной, то в физической чистоте и совершенной девственности. В это время началась французская революция.
Неповиновение крестьян, о котором писали герцогу, выразившееся явным отказом выполнять его приказания, вызвало его из Парижа в его замок, на юг Франции. Герцог, сын маршала, сам командовавший полком французской армии и управлявший целою провинцею, и вообразить себе не мог, что такое неповиновение могло окончиться явным восстанием. Да если бы ему и пришло это в голову, то, относясь к крестьянам с самолюбивым презрением, как низшей расе, когда-то подавленной его предками, он бы не повторил, что недостаточно одного его прибытия, чтобы все укротить, все успокоить. Весьма может быть, что он и точно прекратил бы первоначальные, весьма нерешительные попытки крестьян к отрицанию помещичьей власти, если бы отнесся к их заявлениям сколько-нибудь человечнее и вник в их причины, которые возбуждают их неудовольствие. Но он ничего не хотел знать. Опираясь на свои феодальные права и видя слабость и неспособность правительства, он, с чисто французскою хвастливостью, начал с того, что велел на дворе своего замка поставить виселицу. Дело окончилось тем, что замок был взят приступом, разграблен и сожжен, а все его защитники, вместе с самим герцогом, убиты. Герцогиня осталась девственною вдовою, без опоры, без поддержки, посреди самого разгара революционных страстей. На основании постановлений конвента, она, вместе с другими членами французского дворянства, не успевшими эмигрировать, была арестована и посажена в тюрьму "Свободной пристани". Эмиграция не приходила ей даже в голову: во-первых потому, что она никак не думала, чтобы ее можно было в чем-нибудь обвинить; во-вторых потому, что наличные средства, оставленные ей мужем, были не настолько значительны, чтобы можно было рисковать и все бросить на произвол судьбы. В тюрьме, в числе многих знакомых, принадлежащих тому же обществу, что и она, встретила маркиза Буа д'Эни.
Маркиз был, как мы сказали, красавчик писаный. Молодой, живой, веселый, он был, однако же, вовсе не ловелас. Напротив! В нем, несмотря на его всегдашнюю веселость, можно было заметить скорее поэтическое настроение, даже стремление идеализировать жизнь. Материальные требования настолько были далеки от его восторженных взглядов, что, встречая герцогиню в свете, блестающую и окруженную поклонниками, он почти не замечал ее. Но вдруг встретил он ее печальною вдовою, обобранную, покинутую и в тюрьме. Это вызвало его невольное сочувствие. Тут только он заметил, как она хороша, как грациозна и как девственна. А как тюрьма наполнялась тем самым обществом, которое привыкло видеть у себя, которое до того блистало во дворцах, в салонах, в свете, и как оно, несмотря на все грабежи, учиненные с их именами, не только не нуждалось в средствах жизни, но имело даже с избытком все, что могло сделать жизнь приятною, по крайней мере, на этот день, не думая о завтрашнем – то тюрьма, само собою, будто волшебством, обратилась в изящный общественный клуб, из которого только не было выхода. Среди всевозможного вида светских развлечений молодые люди скоро сошлись. Буа д'Эни видел в герцогине идеал, который заставлял его забывать тяжесть заключения. Герцогине казалось, что она только в тюрьме начала жить.
В Буа д'Эни она видела нечто иное противу тех ловеласов, которые ее окружали при жизни мужа и пугали своим цинизмом и материальными стремлениями. Начался сантиментальный дуэт, во вкусе мармонтелевских повестей, который, при всей своей идеальности, окончился разговором, что вот, по выходу из тюрьмы, герцогиня сложит свой герцогский титул, откажется от табурета и обратится в простую маркизу Буа д'Эни. Но только нужно выйти прежде из тюрьмы!
– Ведь не вечно же они будут держать нас взаперти, – говорил маркиз. – Черт возьми, наконец, не допустит Европа.
Не думал он, молодой идеалист, что Европа в это время думает, как бы из положения, в которое поставила себя Франция, извлечь себе побольше выгоды, еще не полученной, она уже препирается сама с собой.
– Не то мы бежим, мы должны бежать! – говорил маркиз, думая, что от его слова должны распасться все замки, раскрыться все двери.
Все эти мечты разлетелись вдребезги от сентябрьских убийств. Узнали о задержании и заточении королевского семейства; революция брала верх, мечтать не только об освобождении, но и о бегстве из тюрьмы было нечего. Нужно было готовиться к смерти.
Но ветреное, безумное общество от того не угомонилось. Напротив, оно окончательно начало жизнь, наполняя свое время всевозможными удовольствиями, – изящными, даже изысканными, способными напомнить собою римские сатурналии времен первых императоров. Балы, концерты, драматические представления всевозможных форм и видов не давали задумываться. "Пришел день, он наш", – говорили они и стремились кружиться и веселиться, кто как умел, до вечера, когда к перекличке являлось тюремное начальство, с объявлением на чью голову выпал тираж завтра со светом сложить ее на эшафот сперва под ударом палача, а потом под ножом гильотины, так как палачи не успевали уже выполнять задаваемой им работы.
Одним утром, когда наши приятели Растиньяк, Легувэ и Буа д'Эни были заняты тоже проектированием устройства какого-то нового удовольствия, им принесли газету, в которой описывался ход королевского процесса и результаты голосования в конвенте.
– Признаюсь, у меня замирает сердце, – сказал Легувэ. – Неужели они решатся его убить?
– Не бойся, не поцеремонятся, как и нас с тобою, непременно убьют! – отвечал Растиньяк.
– Да! Но мы с тобой не короли!
– Зато мы не делали королевских ошибок! – отвечал Растиньяк. – Нас убить можно, а обвинять решительно не в чем; разве в том, что носили парик или брюссельские манжеты. Правда, зато и убьют нас без обвинений и без церемоний: сегодня меня, завтра его, а потом тебя или с тебя начнут, а может быть, надумаются всех троих разом. А тут, видишь, целый процесс: и обвинение, и защита, и суд. Те же судят, кто и обвиняет, которые хотят безапелляционно судить. Это ничего, благо форма соблюдена и защита предоставлена. Да как им его и не обвинять? Он все делал, чего они хотели. Захотели они, чтобы не было крепостных, он в своих уделах сейчас же крепостных освободил; захотели обсуждать положение дел, он собрал штаты; захотели мещанское правительство, он и это им предоставил, назначив Бальи министром; захотели конституцию – он дал конституцию. Чего же еще? Осталось желать одного – его убить, они и убьют!








