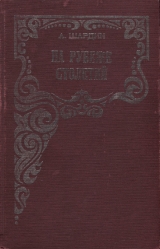
Текст книги "На рубеже столетий"
Автор книги: Петр Сухонин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
Глава 10. Она не та, что была
По звонку государыни вслед за камердинером, несущим на золотом подносе кофе и бисквитки, явился и Рылеев, уже в генеральском эполете.
– Что нового? – спросила Екатерина у обер-полицеймейстера, становя на стол допитую чашку кофе, когда тот, после своего глубокого поклона, успел подняться.
– Из Шлиссельбурга пришло главнокомандующему донесение о благополучном принятии привезенного из Москвы Новикова и помещении его в одном из тайных казематов!
– А других еще не привезли?
– Не имеется еще сведений, Ваше величество!
– Хорошо, скажи Шешковскому, чтобы ехал в Шлиссельбург для допроса! Я не допускаю пытки, пытка редко ведет к открытию истины. Но допрос должен быть строгий, так и скажи Шешковскому. О том, что окажется по допросу, сию минуту доложить мне!
– Слушаю, Ваше величество, – отвечал Рылеев с невозмутимой флегмой. – А насчет картинок и надписей к ним, стихов и разных других шуточных производств, что вы приказывали непременно узнать их сочинителя и распространителя, то первая, у кого те картины показались в Петербурге, была фрейлина Вашего величества Семикова, но была ли она одна сочинительницей и рисовальщицей тех картин, подписей и стихов к ним или кто другой с нею вместе сочинял, или она только распространяла, это пока еще не известно!
– Семикова, вы говорите – Семикова? Ах, негодница! И это после того, как я приняла в ней такое участие? Вот благодарность! Да как она смела?..
– По глупости, надо полагать! – бухнул Рылеев.
Государыня рассердилась.
– По глупости? Вы все готовы оправдывать собственной своей глупостью. При тетушке за такие глупости на площади кнутом пороли, ноздри рвали. Тогда не было и в помине глупости. Теперь, когда я смотрю, можно сказать, матерински, и глупость в моду вошла. Но я покажу им глупость, я заставлю…
И Екатерина, засучив рукава своего шлафрока, начала скорыми шагами ходить по своей спальне.
Рылеев молчал. Он знал, что такая походка означает сильное раздражение государыни и что в минуты такого раздражения она была очень крута.
– Я распорядилась бы так и с Семиковой – такую дрянь, которая смеет цыганить свою государыню, жалеть нечего. Но жаль отца, старого заслуженного генерала. Одна дочь. Это убьет его! Нельзя, однако ж, оставлять таких вещей без наказания, особенно в настоящее время, когда целый народ с ума сошел и беснуется от отрицания всякой власти, пожалуй, благодаря таким же пасквилям и насмешкам. Немедленно представить ее ко мне! Да велите позвать ко мне Анну Александровну Протасову.
Рылеев исчез, а Екатерина с засученными рукавами ходила еще по своей спальне.
Через минуту вошла в спальню государыни дама лет пятидесяти, с весьма строгим выражением лица и тою непринужденностью, которую дает только ежедневная привычка обращаться с высочайшими особами и давнее нахождение при дворе.
Это была одна из ближайших статс-дам Екатерины, надзирательница за ее фрейлинами, украшенная звездой дамского ордена святой великомученицы Екатерины, Анна Александровна Протасова.
Она хотела было, по обыкновению, после установленного тогдашним этикетом глубокого поклона подойти к государыне и просто поцеловать ее руку, как невольно остановилась, заметив ее сильное волнение.
Удивление ее возросло до чрезвычайной степени, когда государыня, всегда ровная и спокойная, встречающая ее обыкновенно сердечным приветом, сегодня вдруг афро-пировала сердитым окриком:
– Что это, мать моя, какие это нонче у вас порядки завелись? С какой это стати вы фрейлин распустили до того, что они на меня стихи сочиняют, пасквили пишут и карикатуры рисуют? Ваше дело смотреть за их поведением, отвечать за их поступки! Ваше дело внушать им скромность, почтение, послушание, а не поощрять такого рода рисунки, в которых я и Ивана Грозного роль играю, и выжившего из ума дедушки Иренея, от старости впавшего в детство. Может, и впрямь вы думаете, что я с вами стану в куклы играть?
И выражение глаз Екатерины покрылось словно льдом тем стальным взглядом, о котором Петр III говорил, что он его боится, а Потемкин сказывал, что в минуты такого выражения взгляда Екатерины у него дрожит зрачок его фарфорового глаза, здоровый же глаз он просто закрывает, чтобы не явиться совершенным трусом, хотя вся армия может засвидетельствовать, что он никогда не трусил турецкой канонады.
Протасова на минуту совершенно потерялась перед такой строгостью выражения государыни. Ее спокойствие и ровность, которые она всегда с государыней принимала, также всегда спокойной и ровной, тут испортились будто влиянием какой-то таинственной силы. Тем не менее привычка взяла свое, ту же секунду она оправилась и отвечала почтительно, но твердо.
– Государыня, – сказала она, – вся власть Вашего величества смотреть на меня и делать со мной что угодно! Но я не слыхала ни о чем подобном и, разумеется, не допустила бы, если бы слышала. Невероятно, чтобы которая-нибудь из фрейлин, после вашей материнской о них заботливости…
– Между тем это факт! Фрейлина Семикова сама ли сочиняла все эти пасквили или только распространяла их, но несомненно, что здесь в Петербурге, она источник, из которого они появились.
– Не говорю о всем неприличии, всей несоответственности благородной молодой девице заниматься пасквилями, но указываю на полную безнравственность и полную развращенность фрейлины, которая пасквилем платит за мои благодеяния. Независимо, впрочем, ни от чего, такой факт, по самой сущности своей, есть преступление в оскорблении величества. За такого рода преступление при Петре Великом слышали "слово и дело", а затем ломка костей и рубление голов; при императрице Анне даже за поступки меньшей степени, даже не против государыни, а против ее любимца Бирона назначалась пытка первой степени и смертная казнь, которой подвергались не только виновные, но и их сообщники, пособники и попустители. При сравнительно милостивом царствовании моей тетки Бестужевой вырезали язык, Лопухину били кнутом, Лилиенфельдт – плетьми на площади. Что же мне следует делать с вами за попущение и с тою, которая, забыв почтение и благодарность, позволила себе подобное неприличие?
– Государыня, мы все в вашей всемилостивейшей воле, но естественно, что о преступлении Семиковой я не могла знать. Что же касается самой преступницы, то молодость, легкомыслие… Ведь Семиковой едва ли минуло шестнадцать лет!
– Тем большего она заслуживает наказания. Если в эти годы допустить неуважение старших вообще, не только своей государыни и благодетельницы, то что же будет после? Я понимаю твое желание избежать публичного скандала в столь щекотливом деле, но оставить такое преступление не наказанным я не могу. Это прямое распространение заразы французского духа, коснувшееся даже моего двора. Потому, из сожаления к ее старому отцу, которого я не хочу обидеть публичным процессом, потом тяжелой казнью его единственной дочери, я приказываю тебе – ее сию минуту сюда привезут – строго ее допросить, кто ее учил, кто помогал, кто сочинял, одним словом, все подробности. Потом, после надлежащих внушений, наказать ее семейство розгами. Ты позовешь шесть-семь женщин, преимущественно со стороны, стало быть таких, которые при дворе никого не могут знать; запретишь им болтать и накажешь, строго накажешь, но не так, чтобы только мух погонять, а чтобы целую жизнь помнила. Понимаешь, Анюта, это моя непременная воля!..
Сказав эти слова, Екатерина опустилась в кресло и взяла в руки перо, обозначив тем, что аудиенция кончилась.
– Ваше величество, – отвечала Протасова грустно. – Хотя такое приказание ваше служит одинаково наказанием как виновной, так и мне, но не могу не склониться перед вашим правосудием. Девочке в шестнадцать лет, облагодетельствованной своей государыней, разумеется, такого рода дурачества непростительны и ваше материнское ей наказание без всякого сомнения менее всего может отозваться на ее будущности. Потому нельзя не признать, что оно исходит из вашего великодушия и всего более может привести к раскаянию грешницу!
Эти слова смягчили несколько Екатерину. Стальное выражение глаз ее исчезло, взгляд принял свой обыкновенный мягкий и приветливый вид.
– Как быть, Анюта, знаю, что тебе неприятно, но что же делать? Прощать такого рода проступки более чем грешно! Мы не только перед отцом, но и перед Богом отвечаем за поведение тех, кого берем к себе, и опускать такого рода пассажи, который позволила выкинуть себе девица Семикова, просто непростительно!
Протасовой оставалось только откланяться. Она видела, что все ее ходатайства в пользу Семиковой скорей пойдут к увеличению наказания, чем к его сокращению. Потому с гнетущим чувством неволи она должна была уйти. Ей так не нравилось, что экзекуция была возложена на нее, но делать было нечего.
В это время из старого дворца у Полицейского моста Рылеев подвез к Зимнему молодую девушку, совершенно омертвелую от испуга. Что такое? Обер-полицеймейстер, двое урядников конвоя, казаки? Ей не дали даже оправиться, схватили и повезли как есть.
– Государыня милостива, – думала она. – Но что же это такое?
Введя ее в комнату перед уборной государыни, Рылеев пошел о привозе ее доложить.
Екатерина была уже в уборной, она сказала, что она не хочет видеть такую негодницу, которая занимается пасквилями, и приказала отвезти ее и сдать с рук на руки Анне Александровне Протасовой.
Рылеев поклонился и вышел исполнять приказание.
Девица Семикова обмерла, услышав слова государыни. Со слезами на глазах, дрожащим голоском она стала умолять Рылеева передоложить государыне и испросить у ней для нее аудиенцию, хоть на одну секунду.
Рылеев, разумеется, отвечал, что это невозможно, что он должен в точности исполнить приказание и не смеет вновь государыню беспокоить.
И он стоял на своем слове твердо, несмотря ни на какие слезы, ни на какие моления молоденькой и хорошенькой девушки. Он действительно не смел.
Но в эту минуту в комнату перед уборной вошел Александр Сергеевич Строганов, имеющий право в течение дня входить к государыне без доклада.
– M-lle Семикова! – сказал он удивленно. – Что вы тут делаете? И что с вами? Вы не похожи на самих себя!
– Ах, граф, не оставьте вашей милостию, – сказала Семикова умоляющим голосом, складывая против груди свои руки с выражением полного отчаяния. – Испросите у государыни милостивое дозволение ей представиться хоть на одну секунду! Я не знаю, что со мной сделают, но должно быть что-нибудь очень страшное, так как привезли меня сюда под конвоем и к государыне не допускают. Умоляю вас, сжальтесь, помогите!
Граф был человек добрый, и ему жаль стало молодой девушки.
– Хорошо, – сказал он, – попробую, хоть и не знаю в чем дело! Но полагаю, что было не столь важное, чтобы решение по тому было бесповоротно. Подождите моего ответа.
Строганов ушел.
Когда он вошел к государыне, государыня сидела уже совершенно успокоившись. Она приняла его со своим обыкновенным приветом и лаской.
– Рады дорогому гостю! – сказала она – Садись, Строганов! Знаешь, кто сочинитель картинок и надписей, или по, крайней мере, распространитель их здесь, в Санкт—Петербурге, помнишь, что мы вместе рассматривали и сердились, нашелся. Это моя фрейлина Семикова!
– Как, маленькая Семикова, может ли это быть! Потому-то она так умоляла меня хоть на секунду выпросить ей у вашего величества аудиенцию!
– Не хочу я видеть этой мерзавки! – отвечала Екатерина с сердцем. – И не говори, Строганов, – продолжала она, заметив, что тот хотел возражать. – Таких вещей опускать нельзя, иначе мы придем к тем же последствиям, к каким пришли французы. Людовик в своих несчастиях никого не может столько обвинять, как самого себя, свою снисходительность и слабость. Я не сержусь за себя, но сан величества должен быть священен в душе каждого. Я это говорю не потому, что ношу его, но по разуму, по чувству. Государь – представитель народа и великое оскорбление ему есть оскорбление всего народа. Его положение обусловливается общим к нему расположением, уважением и преданностью. Тогда только и только тогда он будет соответствовать своему великому назначению быть разрешающим голосом всех недоумений, всех противоречий, всех несогласий. И такое общее уважение к сану величества, к государю народа должно охраняться во всех видах государственного устройства, то есть в монархиях самодержавных и ограниченных; скажу более, таким же уважением должны пользоваться в правлениях республиканских их консулы и президенты. Самодержавие, аристократизм одинаково должны признавать главу государства своею честью, своею гордостью, палладиумом своей народности и славы. Смеяться над ним, кощунствовать, цыганить может только глубоко безнравственная душа. Это значит – смеяться над своим народом, смеяться над самим собой… Это такая вина, на которую не может распространяться ни снисходительность, ни милосердие!
– Да, государыня, от обыкновенных людей, но не от Семирамиды Севера, которая оценит, что это было не умышленное желание подорвать к ней уважение, а легкомыслие ребячества. Ведь m-lle Семикова еще совершенный ребенок!
– Тем менее можно простить ее, потому что уважение к старшим нужно внушить с детства!
– Но милосердие, государыня. Вашему милосердию нет пределов, а она слишком наказана одним привозом сюда, выполненным Рылеевым со всем известными точностью и рвением.
– С этим я и не могу согласиться. В мире всему есть пределы, а такая вина зашла уже за пределы милосердия. Я и так распорядилась мягче, чем могла. За такие преступления в России недавно языки резали, кости ломали, ноздри рвали и кнутом на площади били самых знатных дам. Я, напротив, взглянула на это дело именно как на ребячество и распорядилась наказать ее отечески, без огласки! Не проси, не говори ни слова, Строганов, иначе я рассержусь на тебя!
Сказав это, государыня позвонила и явившемуся официанту приказала передать Рылееву, чтобы он не дожидался, а исполнял в точности то, что ему было приказано.
Строганов поневоле должен был молчать. В уборную вошла Мавра Саввишна Перекусихина – любимая камер-фрау государыни.
– Матушка государыня, – сказала Перекусихина. – Явился с повинною отставной лейб-гусарский корнет Александр Алексеевич Чесменский! Просит дозволения взглянуть на ваши очи ясные, сложить к вашим ножкам свою повинную голову.
– Чесменский! – удивленно спросила Екатерина. – Откуда, как?
– Прямо из-за границы, из Парижа, – отвечала Мавра Саввишна, – говорит, коли ты, матушка, казнить велишь, то пусть лучше он сложит голову на русской плахе, под русскими топорами и от русской руки; пусть лучше умрет среди народа православного в виду соборов святых, чем ему сгинуть среди гнусных извергов, пьющих свою собственную кровь.
– Вот еще преступник, с которым нужно обойтись и строго, и милостиво, – сказала Екатерина Строганову. – Поверь, Александр, что если я не признаю возможным абсолютно миловать всех, то не потому, чтобы не хотела. Лучше высечь девчонку в шестнадцать лет, чем ее вешать, когда будет ей тридцать! Зови, Мавруша, Чесменского, я посмотрю, чем станет он оправдывать свое явное непослушание и бегство.
Перекусихина ушла, но через секунду вошла снова, ведя за собой нашего парижского приятеля Чесменского.
Войдя, Чесменский упал перед государыней на колени.
Часть третья
Глава 1. Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский
Граф Алексей Григорьевич с самого 1776 года, то есть со времени торжественного празднования Кучук-Кайнарджицкого мира и знаменитого похищения Али-Эметэ, жил в Москве почти безвыездно, теша свою самодурную фантазию и свою залихватскую русскую удаль всем, что могло только прийти ему в голову. Сегодня он сам, своей особой объезжает десятитысячного арабского жеребца. При этом он в нагольном тулупе, казанских рукавицах, кумачовой рубахе и смазных высоких сапогах. Только по бобровой шапке можно было узнать, что это не один из его заводских смерцов, тогда как сопровождающий его арап-скороход залит в шелк и золото, а пунцовый его бархатный берет украшен редкой красоты белыми страусовыми перьями, прижатыми к берету бриллиантовым аграфом. Завтра граф празднует свадьбу этого самого арабского жеребца, которого объезжает, с превосходной дорогой фрисландской породы кобылой. Пусть, дескать, в смешении своем представят на диво миру новую породу орловских коней.
Послезавтра в саду Нескучном назначена травля. В зверинце сада приготовлено десять рысей. На них выпустят больше сотни собак с двадцатью егерями, доезжачими и псарями, долженстующими управлять нападением собак, но не помогать им. Любоваться травлей звана вся Москва. В великолепной трапезной графа в его Алексеевском дворце, как любил называть свой дом граф Алексей Григорьевич, в отличие от Григорьевского, Федоровского и Ивановского, у Крымского брода, где братья Орловы из своих домов образовали целую улицу – в великолепной графской трапезной, украшенной множеством драгоценного оружия, большею частью восточного, и разными атрибутами охоты вроде оленьих и турьих рогов, чучел лосей и медведей, громадных зубра и кабана, было накрыто более четырехсот кувертов для обеда. Столы ломились под тяжестью золотой и серебряной посуды. На кухне сорок поваров под руководством трех французов суетились и хлопотали, чтобы всю эту посуду наполнить съедобным, накормить и напоить из нее приглашенных – да графски накормить и напоить, чтобы и до будущего года никто не забыл нынешнего угощения. Это для избранного общества Москвы. А там, в затрапезной другой стол – стол уже на тысячу приборов. Тут место второму разряду общества. Сюда просят чиновничество, купечество, церковный причт и знатное лакейство. Пусть, дескать, пьют, едят и господ бранят, а графа Алексея Григорьевича хлебом-солью вспоминают. А для народа опять угощенье: на широком лугу за Нескучным стоят покоем один вплотную к другому сто столов; по ним протянуты полотенца вместо скатерти и положены деревянные кружки вместо тарелок. Между каждыми тремя кружками стоит большая серебряная братина с опущенными в нее ковшами и чарками. Братины налиты медом, пивом, брагой, различными квасами, только русского зелена вина нет. Ну, да ведь все знают, что не любит граф Алексей Григорьевич русским зеленым вином угощать. На столе между братинами на лотках поставлены пироги, в деревянных чашках похлебка разная; солоницы резные, деревянные с солью. Целый жареный бык с золочеными рогами на коленях стоит, начинен жареной живностью и кашей, несколько баранов в таком же роде стол украшают. Кругом них большие ножи разложены, вместо вилок – руки Бог дал, а ложки с собой принесли, народ православный, и кушай на здоровье, если уж пришел графскую потеху посмотреть. А вот для забавы вам шесты лентами и подарками разными разукрашены – коли ловок, попробуй счастье, что достанешь, то твое! А за шестами качели длинные и круглые; раешники стоят; а шуты колесом вертятся. Фонтаны пивом, медом и вином рейнским бьют. Пей, душа меру знает! В саду играет музыка, а по пруду песенники русские песни распевают. Гуляй, русский народ, и не поминай лихом графа Алексея Григорьевича!
Вот после травли вам отдых. У графа на другой день тоже праздник, да не ваш праздник. Французские пословицы в лицах представляют, а после итальянский певец Сариоти поет. Состарился уже Сариоти. Не разливается его голос серебряным колокольцем, не звенит золотой струной, как когда-то звенел он, хватая за душу в арии Страделлы, которую пел перед умирающим последним русским паншенетом XVIII века, поклонником красоты и наслаждения, знаменитым князем Андреем Дмитриевичем Зацепиным. Но и теперь он все еще хорош, чудно хорош, все еще заслушаешься его нежащих слух переливов, задрожишь невольно перед вибрацией его голоса и замиранием его звуков, от которого жмется сердце. И невольно отдашь ему справедливость, невольно поклонишься перед его искусством.
И Москва суетится, торопится послушать Сариоти, трудно только, билетов не достанешь ни за какую цену. А вот стоит получить приглашение от графа Алексея Григорьевича, даром наслушаешься и будешь иметь право говорить потом, что слышал, дескать, знаменитого певца, хоть на закате его дней… Но все это не для вас, народ Божий. Вам хвастать не перед кем, да и незачем! Не для вас, детей природы, любящих то, что она дает в первобытной своей простоте и прелести, и что естественно соединяется с молодостью и красотой, разбитый уже голос хоть и знаменитого, но состарившегося певца. Вы не поймете и не оцените ни переходов его, ни вибраций, ни чудного искусства. Кроме того, вы любите то, что говорит вам о вас, об отцах и дедах ваших, напоминает вашу собственную жизнь; любите то, что трогает ваше народное чувство, что вызывает вашу залихватскую удаль. А здесь для вас "какая-то Гекуба"!
Вот после пословиц и итальянского певца у графа Алексея Григорьевича будет опять вам праздник, будет кулачный бой, на котором гончаровцы попробуют свою силу над суконщиками. Говорят, что и сам граф хочет силой померяться с Сенькой Медвежатым, на таком договоре: коли Сенька осилит, то граф ему целую сотню рублевиков дарит и из своих вотчин на выбор невесту предоставляет, а коли граф одолеет, то тяжелая работа на долю Сеньки придется. Он должен будет целый месяц изо дня в день у графа на дворе в собачьей конуре прожить и ночью там вместо цепной собаки караулить и лаять по-собачьему, потому что граф ему говорит: ты не человек, братец, а собака! Какой же ты человек, когда у тебя на лбу и на носу волоса и под глазами волоса растут? Шерстью совсем оброс. А коли собака, так и карауль дверь!..
Ну что ж, никто не тянулся, сам вызвался; что шерстью-то оброс кругом весь, так это действительно, только Сенька-то недаром Медвежатым зовется, тоже подковы ломает, кочерги в узлы вяжет, да и помоложе графа будет, так что графу не легко будет с ним справиться, куда не легко!.. Вот это твой праздник будет, православный народ! Ты тут и угостишься, и нагуляешься, и чудных песен твоих наслушаешься, и над теми же песнями себе вдоволь горло надерешь. Тут тебе и кости поразмять есть где, и руки порасправить, и кулаки попробовать. Смотришь, и поколотишь кого, да и тебя поколотят здорово; будет не одну неделю чем праздник вспомнить. А там у графа опять бал с иллюминацией и фейерверком. Зато после медвежья охота – сам граф, говорят, обещал Михаилу Ивановича Топтыгина на рогатину поднять.
Так жил и роскошествовал в Москве граф Алексей Григорьевич Орлов—Чесменский. Доступность его была всеобщая. Кто хотел видеть графа, говорить с ним, чужой ли, все равно – вали на двор, граф сейчас же на балкон выйдет и непременно всех выслушает, со всеми поговорит. И нечего сказать, в чем можно, не очень щедро, но сообразно нужде поможет-таки всякому. Вон лезет мальчишка, редкого чижика показывать хочет; граф смотрит чижика, узнает, что учил его сам мальчишка, полтинником поощряет. Вот старый дворник ногу крепко порубил, работать не может; велел граф своему доктору рану осмотреть, примочку отпустить и, пока нога не пройдет, со своей графской кухни корм отпускать, не только на самого, но и на семейство, по чашке приварку и пирогу на каждого; за стариком приходит малец – жалится, что жена третью неделю без просыпа пьянствует; граф велит отрезвить, потом при муже хорошенько поучить! Народ и он знает тут, что это значит. Так о всех ходатайствует, всем помогает граф Алексей Григорьевич. Тому прикажет отпустить для посева ржи; этому крупки на прокормленье семьи до нового хлеба; а этому для свадьбы его дочери браги и пива велит из его графских погребов нацедить. И так все и для всех. Все это просто, по-русски, без всякого обезьяньего ломанья. Выйдет ли он в залитом золотом и бриллиантами мундире или в дубленом полушубке, одинаково он встретит всех дружелюбно и приветливо. Иногда со старым знакомым, хотя бы то простой мужик был, но мужик почтенный, уважаемый, он поцелуется; другому свою руку даст поцеловать; а третьего приласкает просто, положив свою руку на его плечо. А мещанам, торговцам и особенно ремесленникам еще больше у графа льготы было. Последним граф иногда весь материал на три месяца заготовлять на свой счет приказывал: бери, работай и рассчитывайся! Рассчитаешься, придет нужда – ведь и снова купить можно! Зато можно себе вообразить, какой популярностью граф Алексей Григорьевич в Москве пользовался. Кажется, только свистнет, пол-Москвы за него в огонь пойдет, а слово скажет, так, пожалуй, и вся пойдет!
– Да, добрый человек граф Алексей Григорьевич, живет не только для своего мамона, но всякому служить и помочь готов. По-христиански граф смотрит, сказать нечего, по-русски истинно, дай Бог ему здоровье! – говорит Москва. – А молодец-то какой, молодец-то!..
Так-то оно так! Граф Алексей Григорьевич, пожалуй, и сам поверил, что он и добрый человек, и истинный христианин. Ему же так часто говорят это в Москве, хоть матушка Екатерина и окрестила его именем великого плута. Но мешают тому, к сожалению, страшные воспоминания одного утра и одного вечера. Такие воспоминания, что от них кровь стынет, волосы седеют и мозг сохнет. Утром припомнится, страшный призрак будто стеной в глазах станет – ни дышать, ни думать не дает, свет Божий будто туманом застилает. Вечер вспомнится: другое дело, тут и ноги корчиться начинают, кровь будто огненная лава по жилам переливается, а сердце так тоскует, так бьется, что будто выскочить хочет!
Но ведь он хотел лучшего! За что ж так мучат его они – эти воспоминания? В первом случае он, кажется, достиг того, что стало лучше. Царствование Екатерины было славное: и победа над врагами, и законодательство, и развитие производительности!.. Да! Но кто тебя избрал быть решителем судьбы русского народа? Кто дал тебе право судить, что лучше и что хуже для его будущего? Кто дал право своевольно распоряжаться и давать то, отнимая это, и не на данную только минуту, а надолго, надолго, пока сделанная тобою перемена не сольется с общим ходом жизни?
Какой же ответ дашь ты в этом самовольстве, в этом самодурстве твоем? Ты коснулся того, что неприкосновенно; кощунствовал над тем, что свято. Русский ли человек оправдает тебя? Ты хотел лучшего – говоришь ты, – да! Для себя, не думая о том, что то, чего ты святотатственно касаешься, относится ко всем. За это нет тебе прощенья. Имя твое перейдет потомству, как имя злодея, который ради земных благ, ради своего чревоугодничества не признавал границ своему самохотению. Что же тут твоя доброта, твое ломанье перед народом?
А другой случай – воспоминание вечера. Здесь нет неприкосновенности, нет святости, тут просто уничтожение интриги – польской или иезуитской, французской или шведской – это все равно, интриги, во всяком случае направленной против России, против ее спокойствия. Такая интрига могла тяжко отозваться на всем царстве русском, могла много зла принести нашему любимому Отечеству. Полно, Алексей Григорьевич! Неужто ты в самом деле мог думать, что молодая, неопытная женщина, без гроша денег, с двумя-тремя ухаживателями, хотя бы эти ухаживатели были мелкие князьки Священной Римской империи, может быть опасною русскому православному царству, и в такое-то время, когда громы побед его только что заставили дрожать Балканы и Карпаты? Нет, ты не так наивен, ты не думал этого! А тебе просто хотелось подняться, сделать что-нибудь выходящее из ряду. Брат же твой, князь Григорий Григорьевич, потерял свой кредит и случай в это время, и тебя очень хотели затемнить, и было на чем затемнить, хотя бы на том только, что потребовалась бы более строгая отчетность, чем та, от какой тебе хотелось отделаться! Хорошо, но все же, положим, не очень опасную интриганку не дурно было уловить для прекращения всех смут и толков. Ведь тут нельзя не признать – нет неприкосновенности, нет ничего особенно дорогого, нет святого, заветного? За что же может тут мучить совесть, отчего при воспоминаниях замирает сердце? Очень просто! Нет тут неприкосновенности, ни святости, а есть, в глазах народа, любящая женщина!
Подумай, граф Алексей Григорьевич, благородно ли, честно ли, наконец, разумно ли заставить себя любить, для того, чтобы продать; вызвать сочувствие и откровенность для обмана и предательства? Честно ли, благородно ли, человечно ли принять личину преданности, более – страсти, для уничтожения и гибели? А ты уничтожил и погубил не только беспредельно любящую тебя, но и твоего собственного, родного сына. И ты хочешь быть спокоен в своей совести? Хочешь смотреть на себя, как на человека доброго, благодетельного? Подумай лучше, можешь ли ты смотреть на себя хоть просто как на человека? Положим, нужно было разбить интригу. Но ты разве не знаешь силы любви, разве тебе неизвестно могущество ее влияния? Любящая женщина, преданная тебе бесконечно, легко могла бы убедиться в невозможности того, что рисовало ее воображение, но никак не диктовал разум. А тогда не было ли бы достигнуто то же, только средствами разума и чести, а не проходимством воровства, предательства и самого зверского кощунства над чувством, над отношениями и над разумом истины? Подумай, вот ты женился, женился по своему выбору на восемнадцатилетней девице, хорошенькой, очень хорошенькой, знатного рода, со связями и богатством. Авдотья Николаевна Лопухина пошла за тебя не насильно же? Стало быть, ты имел все шансы в женитьбе своей надеяться на счастье самое полное, самое совершенное. Но был ли ты счастлив с ней хоть одну минуту, так счастлив, как с тою, которую ты предал, обманул?.. Нет, ты знаешь это, сознаешь это, и даже сам не понимаешь отчего. Жена прожила недолго, оставила дочь. Графиня Анна Алексеевна не красавица, но хорошая девушка, сказать нечего! И государыня ее любит, и все справедливость отдают. Но видишь ли ты в ней то, что хотел бы видеть в своей дочери? Нет, тысячу раз нет! Она не то, что ты бы хотел, чего ожидал, чего надеялся! Она хорошая девушка, но не такая, какой ты желал!
Уж одно: ты никогда скуп не был, когда деньги есть, готов был всегда делиться и своею милостью всех награждать. Тут немало попадало от тебя и странникам, и каликам перехожим, и духовенству, и монастырям. Но ты никогда не любил с ними возиться и время проводить. Ты говорил духовным духовное, а нам, мирским людям, мирское! А дочь твоя – Анна? Видишь, она и слушает только калик перехожих да аскетов многоглаголивых. Она тает от их речей, смотрит в глаза им, а о других даже и не думает, других даже за людей не признает.
К тебе приехал сын твоего старого товарища. Что за молодец, что за разумница. Молод, а уж заслуги какие оказал, видимо, через отца перешагнет. Отец старый самодур, однако ж генерал-аншеф и человек весьма уважаемый и богатый. Сынок этого самодура Михайло Федотыча Каменского, Николай Михайлович Каменский, приехал к графу Алексею Григорьевичу и дал почувствовать, что графиня Анна Алексеевна ему очень и очень нравится. Вот бы женишок: всем взял! Граф богат, хорош, молод, не сегодня-завтра фельдмаршал! Потому что талант, настоящий талант… Очень бы хотелось графу Алексею Григорьевичу сладить это дело. Не тут-то было! Графиня Анна Алексеевна предпочитает слушать какого-нибудь странника, какого-нибудь калику перехожего, любуется скорей каким-нибудь монахом Афонской горы, ей нравятся больше рассказы о невероятных чудесах греческих монастырей, чем полный ума и блеска, образованный разговор графа Николая Михайловича, которого заслушивается и на которого засматривается сам Алексей Григорьевич, хотя ему досталось, кажется, в жизни много кое-чего видеть и много кое-чего испытать. Отчего же это так? Отчего между отцом и дочерью такое противоречие взглядов? Очень просто: идеалы их разошлись! А разошлись они оттого, что ни жена его покойная, ни его дочь никогда душой не сходились с ним, никогда не сливали с ним своих желаний и своей мечты…








