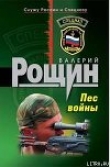Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц)
– Врага? – еще раз переспросил Георга. Он уже не улыбался – он был растерян, сбит с толку. – Какой я тебе враг… куда мне до тебя? – спросил он после секундного молчания.
– Да разве я не вижу, что у тебя на уме? – сказал майор. – Не выйдет, Георга! Взбаламутить дом я тебе не позволю. Тут я старший…
– Да ведь это и мой дом тоже? – снова улыбнулся Георга.
– Еще бы! – в тон ему подхватил майор. – Поди вытащи гнилые камни своего отца…
Вот так, Георга! «Поди вытащи гнилые камни своего отца…» Нет, молчать было все-таки лучше! Майора ему не переговорить, а если б он его и переговорил, что от этого изменилось бы? Неужто майор действительно позволил бы ему вытащить отцовские камни? А куда ему с этими камнями деваться потом? Да нет, не разорять же в самом деле гнездо матери и брата…
– Да как их вытащишь? – усмехнулся Георга, почесывая себе затылок.
Бом-ммм, бом-ммм, бом-ммм! – били огромные, как шкаф, часы; и Георга честно выполнял свои обязанности, чтобы понять цель и смысл собственного существования. Цвела лоза; завитые, как женские локоны, черенки наливались зеленым светом; от вывернутого мотыгой кома земли шел пар, как от куска мяса, только что вынутого из кастрюли. Плечи Георги горели, над его ухом жужжала пчела, на кончике носа появлялась капелька пота, вечная, нескончаемая, сразу же заменявшаяся другой, как только она, сорвавшись с носа, падала на руку Георги, на его мотыгу или прямо на комья земли. «Э-ге-гей, Георга!» – кричали крестьяне, работавшие на соседних виноградниках. «Э-ге-гей!»– отвечал им Георга, смачно вытирая рукавом разгоряченное лицо. Под заборами шелестела пыльная, пожелтевшая от зноя трава; на выбитой, белой от пыли дороге извивался уж, и казалось, что земля колышется, раскалывается на неровные куски. Воздух пропитывался запахом дыма: горели стебли и сорняки. В конце виноградника, в спертом воздухе плавней, жужжали комары; как роженица, стонала древесная квакша; притаившиеся в тени козы молча размышляли о своих делах. Кричал осел – так, словно кто-то учился играть на трубе. В тени орехового дерева, сидела отдыхавшая женщина в черном. Ее косынка была расстелена на коленях, и потрескавшиеся, натруженные руки лежали на ней так, словно женщина показывала их богу. Без косынки на голове она казалась моложе – лишь кое-где в волосах, как в конском хвосте, поблескивала седина. Она сидела задумчиво сжав губы, – вечная служительница бога и человека, вечная мать, растящая детей и пекущая хлеб; не укоряющая и не благодарная, не горестная и не счастливая, не радостная и не печальная, не юная и не старая – вечная женщина, исток вечной жизни! От нее пахло выметенным и сбрызнутым водой двориком; от зноя и быстрой ходьбы ее лицо раскраснелось, как горячие угли в золе. «С божьей помощью все будет хорошо…» – молча думала она, родившая Амирана и Медею и вместе с тем похожая на их дочь…
– Если только не будет града… – по-взрослому вздыхал вернувшийся с виноградника Георга, сидя перед хлевом и подставляя ветерку для просушки свои свежевымытые, упертые в землю лишь пятками ноги.
– Устаешь очень… Ты ведь еще маленький! – улыбалась рано возмужавшему сыну Анна.
– Вот кто маленький! – кивал он подбородком в сторону Петре. – Потише, малыш… не съешь маму! – ласково говорил он младенцу, прильнувшему к груди матери с надутыми от удовольствия щеками и то ворковавшему, как голубь, то сердито косящему большим, как сито, глазом.
Бом-ммм, бом-ммм, бом-ммм, – били огромные, как шкаф, часы; и точно, секунда в секунду рассчитанное время тащило за собой и обновленную (или новую) семью Макабели, над которой, как мертвый ангел, витал призрак двухмесячной девочки. Говорят, правда – кто умеет обращаться с судьбой, к тому она хоть раз в год постучит в дверь; но мало ли что говорят… Сказано это ведь не самой судьбой, а людьми – но если б даже она сказала это и сама, то дверей, ждущих судьбы, в мире так много, а дней в году так мало, что поверить в это трудновато! А потом – как, собственно, опознать птицу судьбы, присевшую перед твоей дверью? Кто знает, какая она, какого цвета, маленькая или большая, по-своему как-нибудь чирикает или по-человечьи говорит? Каковы признаки, позволяющие не спутать птицу судьбы ни с какой другой птицей? В какое время года и суток она предпочитает появляться? А главное – можно ли ее увидеть вообще? Или она так же незрима, как душа, мечта, надежда, желание? А все-таки человек верит в судьбу, верил в нее всегда, всегда ждал ее, и для перечисления всех обличий, которые она принимала в его воображении, ему не хватило б ни времени, ни бумаги. Судьба существует постольку, поскольку она необходима человеку, – необходима хотя бы для того, чтобы сваливать на нее все свои удачи и неудачи и этим делать их более переносимыми для ближнего. Человек покоряется выдуманной им самим судьбе, приспособляется к ней; но это вовсе не значит, что приспособляемость– его главное свойство. Она скорей результат принуждения, следствие необходимости выжить, и приобретение ее неизбежно искажает – пусть хоть частично – истинную природу человека. Ибо спасительная эта приспособляемость никогда не приходит сама по себе, без боли и жертв; она – плод продолжительной, напряженной духовной борьбы, отличающейся от всякой другой тем, что в ней побеждает побежденный, право на жизнь получает лишь угнетенный и подавленный. «Такова, значит, моя судьба…» – сколько уж раз говорил человек эти слова, по какому только поводу не говорил, и сколько раз еще скажет! Ибо как бы остро ни ощущал он своего одиночества, в действительности он – никогда не один, никогда не принадлежит себе одному; он – часть сложной, многогранной, многоцветной сущности, именуемой жизнью, которой, как и самой природе, в общем-то безразлично, кто, как и когда приспособится к установленным ею порядкам, законам, условиям и границам. Было поэтому естественно, что рано или поздно все бури мира войдут, хотелось этого Кайхосро или нет, и в его новый, крепко выстроенный дом, что они, не спросив дозволения, унесут с собой все, что им понравится и попадется под руку, – и Макабели тоже должны были платить свою дань времени, хотя их, как и всех других, оно об этом не предупреждало. Поэтому и в двухэтажном, на городской лад особняке майора все сваливалось на судьбу, считалось волей божьей, и каждый член семьи шел по дорогам жизни вслепую, с упрямством и усердием, свойственными людям недалеким. Но майор свою заветную мечту все-таки осуществил: теперь у него был надежный собственный дом и из колыбели на него глядел его сын, его собственная плоть и кровь! Мысль о казарме была по-прежнему горька и мучительна; но с течением времени в ней, как в созревающей хурме, возникала и некая сладость. О борчалинце забывать, конечно, не приходилось, но пока что о нем не было ни слуху ни духу, и вполне могло статься, что майор его никогда больше не увидит. Однако Кайхосро упустил из виду, начисто забыл то, что забывать нельзя, как женщину или врага: он забыл свой город… не забыл даже, а просто выбросил, вытряхнул его из сердца, как хлебные крошки со скатерти. И все-таки изредка его вновь и вновь, как молния, ударял сдавленный в ущелье жар города, десятки раз разрушенного, сожженного и десятки раз воскресавшего из мертвых! Словно попавшая в глаз соринка, его вдруг вновь пугали и мучили мелькнувшие где-то за чертой забвения воды реки, накатанная, как бы отполированная железными ободьями мостовая, сверкающие на солнце стекла галерей, пестрое белье, вывешенное для просушки прямо на улице, купол с раскрытыми крыльями креста, как бы ожидающего встречи с богом, узкие, искривленные, исчезавшие одна в другой улочки! Кайхосро забыл, что город этот – вечный и для него единственный, что и он и его семья связаны с ним судьбой так же, как сидящий в коляске связан с ее колесом полой шинели, только что незаметно зацепившейся за это колесо, и пусть в это мгновение он еще не знает, что его ждет, не чувствует, как пола шинели укорачивается, натягивается, – в следующую же секунду она сорвет его с места, бросит его под колеса, и помочь ему нечем, ибо времени скинуть с себя эту чертову шинель, избавиться от ее затягивающей смертельной силы у него уже нет. Разница в том только, что такая смерть – дело секундное, и несколько случайных уличных очевидцев у нее найдется всегда; а смерть семьи зрителей не имеет и длится долго…
Чего Кайхосро действительно не хотелось, так это помирать, и, хотя отец Зосиме все время уговаривал его любить ближнего своего, именно ближнего-то он и боялся, ибо был уверен, что покуситься на его жизнь может любое собачье отродье и помимо борчалинца; и не только может, но и захочет; и не только любой чужой, посторонний, столкнувшийся с ним случайно, но и свои, близкие, те, кто обязаны были бога молить о продлении его жизни, ноги ему целовать! И это была такая непредставимая, такая бесчеловечная несправедливость и неблагодарность, что Кайхосро задыхался от ярости, терял сон и по ночам, высоко подняв над головой лампу, бессмысленно бродил по еще пахнувшим известкой и краской комнатам. В могильной тишине собственного дома ему на каждом шагу чудились убийцы или злые духи. «Ну-ка, проснись!» – грубо, больно тыкал он рукой съежившуюся под одеялом Анну, поднося лампу прямо к ее лицу, как бы для того, чтобы прочесть ее тайные мысли и намерения до того, как она успеет надеть личину. К подобным пробуждениям она уже привыкла – после того как к майору привязалась колющая боль в боку, он частенько заставлял ее вскакивать с постели, чтобы согреть кирпич, и она, дрожа от холода, приседала на корточках перед камином, мучительно силясь не задремать, не свалиться лицом в огонь. Но не всегда майора будила боль в боку – его мучили и какие-то другие, не менее пугавшие его недуги, и, хотя жене он в этом не сознавался, она ясно видела, что причиной – или, во всяком случае, одной из причин – этих тайных недугов он считает ее. Догадаться об этом было нетрудно: это было написано на его лице, заметно по его голосу, подтверждалось каждым его движением! И все-таки ночные эти пробуждения заканчивались почти всегда любовью – болезненно раздраженной, неласковой, неприятной… Возбужденный страхом и болью, он не мог сдержать себя, а она не могла противиться, отказывать – она была женщиной, его женой и чувствовала, что нужна ему именно в эту минуту.
– Зря радуешься… вот возьму и не помру, всем вам назло! – шептал он в ухо жены, как в щелочку в стене исповедальни, сам отчасти смущенный, но вместе с тем и разозленный собственным еще раз бесчувственно удовлетворенным желанием.
– Спи! Ничего опасного у тебя нет… – отвечала Анна. Съежившись, плотно сжав замерзшие ноги, она лежала в темноте, прислушиваясь к дыханию засыпающего мужа, – униженная, огорченная не разделенной, а навязанной ей страстью. «За что это? Чем я провинилась?» – думала она, незаметно засыпая. Но ее тут же вновь будили шершавая тяжесть и холод кирпича, соскользнувшего с тела мужа, – тогда она, взяв в руки кирпич, украдкой вставала с постели Кайхосро и облегченно, взволнованно, как человек, выплативший долг или отбывший наказание, возвращалась в собственную постель, холодную и чистую, как снег. Лежа в ней, она думала только о Георге и его отце – горячо, преданно, с благоговением, как верующий о святых, в тысячный раз мысленно оплакивая смерть одного и сиротство другого! А потом в своей колыбельке просыпался Петре, и его надо было кормить…
После того дня, когда майор впервые овладел Анной, в их отношениях ничто не изменилось; и каждое их соединение было как бы бесплодной попыткой возобновить и завершить то, первое, прерванное неожиданным появлением Георги, – попыткой затянувшейся и поэтому надоедливой. «Зачем тебе делать меня еще несчастней… ну пожалей меня!» – взмолилась она перед майором в тот миг, когда он впервые схватил ее за руку. Но она тут же почувствовала, что удержать его не сможет, что он действует не по минутной прихоти, а исполняя какой-то заранее обдуманный замысел. Понять этот замысел она, естественно, не могла, но и воспрепятствовать ему тоже – майор ведь был первым после ее мужа мужчиной, вступившимся за нее, подвергшимся ради нее опасности! Главным, однако, было то, что она на него «понадеялась». В чем состоит эта надежда, что она ей даст, что в ее жизни изменит, – этого Анна толком не знала и сама. Ей хотелось лишь одного: увидеть, как Георга встанет на ноги, заживет своим домом, заведет семью, детей… вот что она называла надеждой, не сознавая, что эта-то надежда и вынуждала ее стать сначала наложницей борчалинца, а потом женой майора, что эта-то надежда и издевалась над ней, и насиловала ее, рядясь то в овчину, то в мундир с эполетами. Став женой майора, она ослепилась этой надеждой еще больше. Теперь-то уж, по крайней мере, никто не посмел бы в полночь войти в ее дом без разрешения – теперь в этом доме был плохой ли, хороший ли, но хозяин! Правда, она отдала сына в руки отчима, но не она же первая. Не она изобрела отчимов и пасынков, это было всегда, а порой отчимы относятся к пасынкам и лучше родных отцов. Почему ж именно их должен был наказать бог, почему именно их это должно было обречь на гибель? В чем состоял особый, отличавший их от других, такой уж непростительный грех, если не в самом их существовании и желании спастись? Анна была женщиной, и соглашаться и оправдывать больше соответствовало ее натуре, чем отказываться и обвинять, но она была бы просто глупа, если б сочла себя счастливой, поверила б урукийским женщинам, бездумно завидовавшим ее судьбе. Она была обречена на несчастье – замужество лишь убедило ее в этом окончательно. Даже если б майор любил ее, все время окружал ее лаской и заботой, счастья ей все-таки не было б: теперь ведь они с Георгой жили не в одном доме, как положено матери и сыну, а в одном дворе, словно человек и скотина! Теперь, правда, рядом с ней был другой сын, но он-то был не пасынком, а законным сыном, и если ее еще держали в доме, если и ей не стелили подстилки в хлеву, как Георге, то, пожалуй, только из-за него. «Да в его-то возрасте у меня и такого хлева не было…» – говорил майор о Георге с таким видом, словно иметь то, чего он не имел в детстве, бог весть какое преступление! Единственным, что удалось бедняге отцу Георги, было то, что он оставил сыну хоть дом, не бросил его без приюта под открытым небом, под дождем и снегом; и, пока у Георги был этот дом, ни враги, ни друзья не могли считать его человеком окончательно пропащим. Собственный дом, пусть самый ветхий и незащищенный, лучше чужого дворца: он твой, он пропитан твоими мыслями и запахами; он не только немой свидетель твоего страха или голода, тоски или надежды, а сочувствующий и помогающий друг. Не зря ведь говорится: в своем доме и стены помогают! Анна же своей «надеждой» добилась лишь того, что разрушила дом сына – вот к чему привели все ее старания! Но сообразила она это лишь потом, увидав вдруг на месте снесенного дома, на этом потрясающе оголившемся клочке земли, Георгу, перепачканного сырой землей и плесенью, беспомощного и несчастного, как извлеченная из панциря черепаха. Тогда она впервые почувствовала, что ей трудно смотреть в глаза сыну, трудно найти для него слово утешения. Утешать его она была уже не вправе: их судьба, их дорога, всегда казавшаяся ей единой и неразделимой, разделилась. У нее теперь был муж – а Георга так и остался без отца; у нее был дом – а у Георги его уже не было. Но ведь существует бог, от которого не укроется ничего! Бог не простит обид Георги никому, бог потребует ответа у всех – и у нее самой прежде всего! Одно лишь это и воодушевляло Анну, одной лишь этой надеждой она теперь и жила, ибо с течением времени все больше убеждалась в том, что изменила сыну, что в погоне за его спасением и счастьем невольно, по недомыслию, несла ему несчастье и гибель. И бог уж наказывал ее! «Слава тебе, господи… – шептала она, вернувшись от мужа, одна в своей ледяной постели. – Сгнои нас обоих заживо!» Болезнь мужа она считала и своей; она была убеждена, что бог послал ее им обоим вместе и что она убьет обоих – но не сразу, а постепенно, с муками и страданиями, чтоб открыть обоим, каким грехом они связаны, за что их бог наказывает. Поэтому-то она с таким неизъяснимым удовольствием разогревала мужу его кирпич, когда он, как рабыню, сгонял ее с постели среди ночи, стирала его вонючее от мочи и крови белье и даже по-прежнему отдавалась ему – она не имела права быть брезгливой, не имела права уклоняться от болезни, посланной богом ее мужу, чтоб через него заразить и ее, и ее запачкать и сгноить! Ненависти к нему она не чувствовала, но и жалости тоже – он ведь тоже не жалел Георгу, брошенного на милость божью. А бог строг и справедлив – так что Анне и не оставалось ничего другого, как до конца выполнять свой долг хозяйки семьи, спаянной лишь неизлечимым недугом, чтоб, если ей посчастливится, дожить до лучших дней, дождаться торжества сына…
Болезнь майора и впрямь казалась обрушившейся с неба, ниспосланной самим богом. Увлеченный строительством дома и усадьбы, он ни о каких болезнях и не помышлял! Закончив дом, он обнес его такой оградой, что заглянуть к нему во двор и всаднику было бы трудно. Две упряжки буйволов еле притащили огромные железные ворота, и двадцать мужчин, тяжело дыша, с трудом навесили их на ограду. Радостный, счастливый, как ребенок, он тоже суетился вместе со всеми, даже помогал им, но, когда тяжесть ворот легла в железные петли, он вдруг с ужасом почувствовал, что внутри его тела что-то оборвалось. Резкая, стремительная боль на миг ослепила его; сразу покрывшись холодным потом, он даже подумал, что в него выстрелили, но потом быстро успокоился: боль ушла так же внезапно, как и явилась, хотя все его тело еще дрожало, как невзначай задетая пальцем струна. Никто, однако, ничего не заметил, и это его тоже успокоило. Люди толпились вокруг ворот, проверяя, надежно ли они навешены.
Вторично боль напомнила о себе (он успел уж о ней забыть) недели через три. Он нагнулся к колыбели сына, чтобы поправить его слипшиеся, потные волосики, – и боль кинжалом вонзилась в бок. Он с испугом и удивлением оглядел комнату; но ничего незнакомого или необычного в ней не оказалось. В колыбели ворковал его сын; жена сидела на тахте и, чуть смущенная его неожиданным появлением, поспешно укутывала полотенцем еще влажную после мытья голову. Он вдруг почувствовал, как мирна и прекрасна жизнь и как жаль ему будет с ней расставаться. И жена в этот миг показалась ему красивее и привлекательней, чем обычно; он с сожалением подумал, что охотники на нее еще найдутся – и очень скоро. Словно догадавшись, о чем он думает, жена отвела глаза в сторону и отжала волосы в кулаке. Неожиданная боль заставила его заметить красоту жены, как будто мужа красивой женщины и смерть скорей пощадила бы. Было, впрочем, и вправду что-то успокаивающее, облегчающее в этой женщине с вымытой головой, как бы лишь сию минуту ставшей женщиной, получившей во владение теплоту и нежность собственного тела и теперь спокойно ими наслаждавшейся. А он опирался на качающуюся колыбель и, вспотев от боли, даже выпрямиться не мог! Стекавший с его лба и скул на подбородок пот медленно капал в колыбель, где лежала его плоть и кровь, беззаботная и несведущая, как укрывшийся под кустом от дождя зайчонок…
– Помоги мне! – изменившимся, надтреснутым голосом сказал он жене.
Младенец заплакал, решив, должно быть, что отец на него сердится, но отец его ничего уж не видел. Очнулся он, лишь ощутив прикосновение к лицу мокрых волос жены. Когда к нему вернулось зрение, он лежал на тахте и умолял ее не уходить. Младенец кричал, но он мог и подождать, ничего особенного с ним не происходило. Единственным, кто сейчас действительно нуждался в помощи, был он, Кайхосро! «Не уходи, не уходи…» – повторял он, лежа на спине, хотя жена и не пыталась отнять у него руку. Ее маленькая рука лежала на его груди, и это ему было приятно – он чувствовал, как в его встревоженную душу вливаются умиротворяющая прохлада, цвет и запах женской плоти. Он подумал даже, что теперь они всегда будут любить друг друга, что дороже ее у него никого нет. Но вместе с болью ушла и эта мысль, и он грубо оттолкнул ее руку.
– Это вы виноваты, вы! – заорал он ей в лицо. – Скажите хоть, что это такое! Чем вы меня заразили?
Что ей было на это ответить? Отвергнутая мужем, она склонилась к колыбели и дала грудь кричавшему младенцу, ничего на свете еще не понимавшему, умевшему только есть и ходить под себя. И все-таки, родившись, он требовал внимания, а в любви он рожден или в ненависти, и знать не хотел!
Потом у Кайхосро начались кровотечения: кровь выделялась с мочой. Заметив это впервые, он окончательно растерялся и с удручающим бессилием сдался судьбе. Куда и как ему, в самом деле, было бежать от этого нового страшилища, от убийцы, который не метил в него издалека, наподобие борчалинца, а поселился прямо в нем самом и мог прикончить его в любой момент, когда захотел бы?
Когда он вошел в комнату, Анна чуть не вскрикнула. От него остались одни глаза – пустые, выпученные, лихорадочно ищущие сочувствия и помощи. Почернев, как араб, он улыбался так смущенно, что сердце Анны сжалось от сострадания. После этого дня выйти помочиться стало означать для Кайхосро то же, что для приговоренного подойти к виселице. Он шел, но ноги его не несли; он шел, потому что не пойти не мог, но до последней минуты старался сдержаться, избежать этого. И все-таки потребность и надежда на то, что кровотечения, может, хоть сегодня не будет, заставляли его в конце концов трусить к столь роковой для него стене. Прислонясь к ней обеими ладонями, он с нечеловеческой, беспредельной ненавистью глядел на черно-красный поток, с шипением низвергавшийся к его ногам. Те три-четыре литра крови, которые он с таким трудом, такой дорогой ценой спас, которые он так заботливо оберегал, теперь уходили из его пропитанного смертью, насквозь прогнившего изнутри тела вместе с вонючей мочой, и остановить их не могло ничто! Это он понимал и сам и по ночам, думая о своей близкой смерти, плакал от ужаса – громко, душераздирающе, как побитый ребенок. Кого только не приводил, кому только не показывал его отец Зосиме – и все зря… Без конца перелистывали и Карабадин (долго еще лежавший у его изголовья и после этого); но ни до названия этой странной болезни, ни до лекарства от нее так и не докопались! В эти – горькие для Кайхосро дни ему, едва он впадал в дремоту, сразу же начинала сниться двухмесячная девочка с огромными усами, степенно говорившая ему голосом Каплана Макабели: «Так тебе и надо – зачем ты присвоил наше имя?» Только этого ему еще не хватало! Вскочив с постели, он с лампой в руке, как потерянный, слонялся по дому, ставшему ему вдруг совершенно чужим, по дому, в котором свободно и смело стучало лишь железное сердце огромных, как шкаф, часов.
– Я думаю, все дело тут в перемене места и воздуха… – говорил ему отец Зосиме. – Говорят ведь: привыкшего не отучай, а непривыкшего не приучай. В этом весь секрет человеческой природы! Индус, хоть ты его убей, холодной воды пить не станет – а мы привыкли, у нас кувшин непременно запотеть должен. Был, говорят, где-то человек, который змей, скорпионов и пчел, как фрукты, жрал – тьфу, накажи его господь! А другой – живых кошек… поймает за хвост и с аппетитом жрет. Да не простой кто, а султан какой-то… Неужто ж они этому выродку рожу хоть не царапали? Нашему брату кусок кошатины подсунь – все материнское молоко ведь наружу выльется. А тот без кошки не мог… привык, значит! Вот что говорит Панаскертели… – Отец Зосиме раскрывал Карабадин как раз на нужной ему странице, слегка откидывал голову назад и, отодвинув книгу от лица, водил пухлым указательным пальцем вдоль строк. – Вот: «…и всякого племени человеку яство и питие благоприятны суть, якоже привычен…» Видишь – привычен!
– Ты, батюшка, никак, воображаешь, что я всю жизнь одних змей, скорпионов и живых кошек ел? – с горьким ехидством ухмылялся Кайхосро.
– Нет, сын мой, нет! Не воображаю! Но поразмыслить надо обо всем. У болезни тысяча разных причин… – отвечал нежноглазый отец Зосиме, едва заметно продолжая улыбаться.
Разговор о болезни майора шел и в лавке Гарегина. Поток его клиентов был непрерывен, и не одни урукийцы, но и жители окрестных сел, приходившие к нему за сахаром, керосином, солью или тканью, вместе с покупкой уносили из лавки и весть о болезни майора, чтоб «как следует порасспросить» среди своих, не знает ли кто лекарства от такой болезни. Каждый считал своим долгом хоть поинтересоваться судьбой чужого человека, если уж помочь ему ничем не мог. Многие из них майора никогда и не видали и знали его только по рассказам Гарегина. «Где ж тут справедливость? – вздыхали и охали женщины в деревнях за десятки километров от Уруки, узнавая от своих мужей о болезни видного собой и благородного майора. – Вот такого человека и похоронят… а свекровь моя, спаси ее господь, помирает, помирает и все никак не помрет!» Вскоре по обе стороны Алазани не было деревни, где болезнь урукийского майора не стала бы предметом ежедневных разговоров и забот. И те, кто его знал, и те, кто не знал, одинаково жалели «такого короля», у которого, как они говорили, «блеск эполет и чинов-медалей, как венец, вокруг головы стоит». Выслушивая всех, Гарегин записывал все советы и поучения на отдельном листе, чтобы потом подробно доложить о них майору. «Это мне уж говорили! Все врачами сделались…» – злился майор, которого бессмысленное и безрезультатное внимание людей лишь раздражало. «У свояченицы одного моего знакомого такая ж история… лет сто уж прошло, а она и сейчас как огурчик!» – старался успокоить майора Гарегин. «Если ты человек порядочный – откуда ты знаешь секреты чьей-то свояченицы?» – орал вышедший из себя майор вслед спускавшемуся по лестнице и в душе, должно быть, уже проклинавшему собственную отзывчивость Гарегину. «С месячными небось спутала? Что общего у меня, майора, с твоей потаскухой свояченицей?» – неистовствовал майор…
– Удивительно! – говорил ему отец Зосиме. – Рождаемся мы, чтоб согрешить, а умираем, чтоб очиститься…
– Смерть вовсе не очищение, отец мой! Смерть – это грязь… – отвечал майор, глядя, однако, на священника с напряженным вниманием, стараясь не пропустить ни одного его слова.
– Смотря какая смерть… – сиял глазами отец Зосиме, медленно, неторопливо смакуя густое и яркое, как кровь, вино в пузатом стаканчике.
– По-твоему, смерть за ближнего своего ароматна, как роза? А, батюшка? Люби ближнего своего… так ведь по-вашему? – злорадно говорил майор, залпом осушая свой стакан. На его подбородке блестела крупная капля вина.
– Умереть за ближнего не всякому дано! Свои болячки убивают чаще. Благослови господь того, кто это вино делал… – говорил священник, чмокая губами.
Он не случайно заговаривал с майором о смерти – он считал себя обязанным подготовить его к ней. Тревога и сопротивление майора его не удивляли и не сердили: отец Зосиме сам был смертным, и служение богу вовсе не обязывало его требовать от других того, что вполне могло не удаться и ему самому: встретить смерть бесстрашно и безропотно. Если ж он, в отличие от Кайхосро, действительно считал, что не всякая смерть одинакова (как и не всякая жизнь), то и это было не так существенно, и это утешало не слишком; ибо и жизнь и смерть человека создаются не им самим, а незримым духом, и изменить это человек бессилен. Майора отец Зосиме просто жалел, вот и все; впрочем, он и не верил, что господь обрек того на скорую смерть, – никаких внешних признаков этого он не видел. И все-таки он считал своим долгом почаще навещать человека, из-за страха смерти потерявшего веру; навещать, чтоб если и не обратить его на путь истинный, то хоть рассеять, развлечь его своими рассуждениями о жизни и смерти – общими, поверхностными и все-таки для человека понятливого отнюдь не бесполезными…
– Не всякому дано, это верно! Вот Ной, например, – он не смог умереть ради ближнего своего. Гибели вместе с ближним он предпочел измену ближнему. Что, не так? Не это написано в Библии? Большего предателя, чем Ной, человечество не знает. Куда там Иуде! Ной предал весь род человеческий. Ему бы предупредить людей: так, мол, и так, торопитесь, спасайтесь кто как может. А он сидел и сколачивал ковчег… небось при этом еще и насвистывал… Ной мое божество! – крикнул вдруг майор, поставив (а верней, уронив) на стол свой пустой стакан. – Ной мое божество! Умереть может всякий, а вот спастись – нет…
– У тебя что-то другое на уме… это, сын мой, тебя и мучит. – Отец Зосиме понюхал свой стакан. – И все-таки из Ноева ковчега вышла новая жизнь, верующая и богобоязненная…
– Да. Только между ногами у нее находилось то же самое, что погубило и ее предшественницу! – мгновенно огрызнулся майор.
– Это… – Священник улыбнулся, накрыл свой стакан ладонью и, покачав головой, продолжал: – Это, милый ты мой, господь человеку дал не для пустословия!
– Сказать тебе правду? – Майор наклонился к священнику так, словно тот мог и не расслышать. – Сказать тебе правду? – повторил он, дотянувшись до кувшина и наливая себе вина. Его руки дрожали, вино пролилось на стол. – Я ненавижу ближнего своего! – сказал он и выпрямился. Он поднял стакан, но не отпил, а задержал его возле рта; при этом он пристально глядел на священника. Попавшая на мундир капля вина оставила на нем пятнышко, похожее на раздавленного клопа. Отец Зосиме взглянул на это пятнышко – майор невольно взглянул туда же и свободной от стакана рукой резко провел по пятну, словно отсекая, отшвыривая от себя взгляд священника, как заползшее насекомое. – Откуда я знаю, что я – действительно я, а мой ближний – действительно мой ближний? – вызывающе спросил он.
– Это уже что-то новое… – с интересом сказал отец Зосиме. Он тоже дотянулся до кувшина и, наполнив свой полупустой стакан, одним глотком опять наполовину осушил его; потом он отряхнул рясу и тщательно вытер ладонью донышко стакана.
– Вовсе нет! – Майор поставил свой полный стакан в лужицу вина на столе. – Это самое древнее сомнение человека – и самое, заметь, коварное! От него не так-то легко отделаться… Вот был у меня один друг. То есть не был, а есть – жив еще, наверно, на четыре года всего меня старше! Так вот, этого моего друга в детстве украли цыгане. Родители нашли его года только через два – случайно наткнулись на какой-то ярмарке. И цыгане его отдавать не хотели, и сам он к родителям возвращаться почему-то не желал; но о чем говорить, – конечно, забрали! Потом его родители померли, он тоже стал родителем… и жена ему попалась порядочная, и сам был человек очень уважаемый, а от сомнения избавиться не мог, хоть убей. В этом он сознавался мне одному, да и то только спьяну – откуда я, говорит, знаю, что цыгане вернули родителям именно меня? (Священник засмеялся и забулькал глоткой, как опрокинутый кувшин с водой.) Да что тут смешного? Родителей он всю жизнь ненавидел, всю жизнь мечтал найти укравшую и продавшую его цыганку… – Майор схватил свой стакан и, наклонившись вперед, широко расставив ноги, одним духом осушил его.