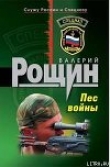Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 30 страниц)
– А что, ласточка так выглядит? – крикнула она Ладо.
– Ну-ка, покажи… – приподнял голову он.
Марта подняла свой рисунок повыше.
– Ничего не видно! – сказал Ладо.
Марта соскользнула со стула и, подойдя к печи, подала ему свой лист. Вытянув руку из-под тулупа, которым он был укрыт, Ладо взял рисунок в руки и долго его разглядывал. Подняв голову и сморщив носик, Марта терпеливо ждала. Рисунок, который Ладо держал в одной руке, гнулся, и он то и дело дул на бумагу, чтоб выпрямить ее, – вынуть из-под тулупа и вторую руку ему было лень.
– В общем, так… – сказал он наконец. – Только клюв у нее вышел как у ястреба.
– А у ласточки клюв какой? – осведомилась Марта.
– Ма-а-аленький, вроде твоего носика… – сказал Ладо, вновь дуя на рисунок.
– Отдай! – сказала Марта.
– Ястреб утащил цыпленка… как это там, в стихах? Ты у нас будешь цыпленок; а это – ястреб! – сказал Ладо, помахивая листком над головой Марты. Марта потянулась за своим рисунком, но достать его не смогла. – Жалобно пищал цыпленок… – Он снова помахал листком над головой Марты. – Только белый пух цыпленка по ветру кружился в поле…
– Отдай! – рассердилась Марта.
Ладо отдал рисунок и снова сунул руку под тулуп.
– Все мы цыплята… правят не цари, а времена! – сказал он в потолок и опять заскучал, опять предался унынию.
Марта вернулась к столу, залезла коленками на стул, перевернула лист чистой стороной кверху и языком смочила кончик карандаша.
– А сейчас… сейчас нарисую-ка я дядю моего! – сказала она себе.
– Саблю не забудь! – сказал Ладо.
– Тебе все равно не покажу! – надулась Марта.
Снаружи доносился хрип пилы. Печь глухо гудела.
Марта рисовала однорукого мужчину. Ладо Тугуши был, как всегда, не в духе. Его одолевала хандра, он был болен хандрой. Тут, в ссылке, он находился почти уж четыре года, но смириться с этим никак не мог. Окончательно осознав, что в сеть вместо перепелки попал он сам, что ни бог, ни люди ему уже не верят, он сразу сдался, сразу охладел и к богу, и к людям. Теперь он играл на гитаре совсем иначе, чем прежде; в его руках она плакала, стонала, жаловалась до тех пор, пока Тедо или Евгений не кричали ему: «Ладно, хватит уж… нас хоть пожалей!» Но и тут, в ссылке, его, так же как на воле, окружали люди, души в нем не чаявшие; все они называли его Ладиком и почему-то считали своим долгом кормить, оберегать, терпеть, а главное, любить его. Этому способствовали, конечно, и его приятный голос и наружность. Раньше, «в лучшие времена», когда он бледными, длинными пальцами водил по струнам гитары, гимназистки с трудом сдерживали вздохи и восклицания; а тосты он произносил такие, что подвыпившие ребята были, казалось, готовы броситься за него в огонь и в воду. «Влип» он до того глупо, что, случись это с кем другим, Ладо помер бы со смеху, рассказывая это как застольный анекдот, да и других до слез насмешил бы… расскажи он эту историю без всяких прикрас, все его знакомые девушки, плача от смеха и прикрывая рты руками, клялись бы, что он величайший в мире лгун и фантазер! Ладо Тугуши арестовали за перепелку, да, именно за перепелку его отправили в Сибирь, черт знает на сколько лет разлучили с утопающим в цветах вишни и сливы Кутаиси! Если б он в тот проклятый день сломал себе ногу и остался в своем Кутаиси, он и сейчас сидел бы где-нибудь за столом в качестве тамады. Арестовали его в Батуми – его, приехавшего на именины самой красивой девушки города, вытащили из мокрых кустов с фонарем в руках и обвинили в измене империи! Его защитник, ближайший друг его отца, адвокат, известный всей Грузии, увидав, что дело проиграно, стукнул рукой по перилам, за которыми между двумя здоровенными усатыми жандармами сидел Ладо, и воскликнул: «Да какого черта тебе, сынок, взбрело с фонарем по улицам шататься? Тоже мне Диоген нашелся…» Но хуже всего было то, что он и сам уж толком не знал, возводят ли на него напраслину или он действительно по неведению впутался в какой-то заговор против императора. Что его товарищи, как клялся адвокат, нарочно напоили его, использовали его как слепое оружие, было, впрочем, маловероятно – обо всей этой истории они знали не больше, чем он сам! Никто не мог вспомнить и того, кому первому взбрело в голову ночью, под проливным дождем идти охотиться на перепелок, кто поднял всех из-за стола, на котором не перепелок, а разве что лишь птичьего молока не хватало. Возможно, что эту ночную охоту затеял и он сам, чтобы порисоваться перед батумскими красавицами – сотни таких же глупостей он, в конце концов, проделывал и прежде. А может, он, желая доказать свою удаль и молодечество, и вправду был одурачен другими и, размахивая фонарем, действительно подавал какие-то сигналы туркам… Вот это и все последовавшее он помнил вполне четко: дождь и холод быстро его отрезвили, и ему ясно помнилось, как он с фонарем в руке, словно привидение, бродил по приморскому бульвару. В его новых, сшитых специально к именинам штиблетах хлюпала и переливалась вода; мокрые ветки скрытых во тьме кустов немилосердно хлестали его по лицу; он вымок с головы до ног и дурацкой этой затеи не бросал только уж из тщеславия: рядом с ним то тут, то там мелькал вдруг ежащийся, бессильный свет чьих-то фонарей, и ему не оставалось ничего другого, как продолжать поиски свалившейся в мокрую траву перепелки! Он был не кто-нибудь, а Ладик Тугуши, обязанный побеждать всех, на каждую добытую другими перепелку отвечать тремя! Остаток ночи он провел в камере, сидя на цементном полу в луже воды. Вода лилась с него ручьями; его зубы стучали, как ножницы для подрезки кустов.
– Еще не образумились, идиоты? – орал ему утром следователь. – Забыли уже, что с вами турки делали?
– Я, сударь мой, кутаисец… в Батуми в гостях, – пытался использовать права гостя все еще уверенный в собственной невиновности Ладо.
– Молчать! – утихомирил его следователь.
Потом все смешалось, и Ладо, не успев даже как следует прийти в себя, оказался в Сибири. «Да это ж, господа, мода… они лишь поддались моде! Ну что эти молокососы могут смыслить в революции?» – тщетно взывал в зале суда Кита Чкония, известный адвокат, друг юности отца Ладо. Революционером Ладо стал уже в ссылке, верней, там только он впервые понял, что он, Ладо Тугуши, красивый, веселый юноша, существует не сам по себе, не отдельно от людей; и что пока его порабощенная, но не покорившаяся родина еще дышит, любые его шаги, любые его поступки, пусть даже игра на гитаре (да как он и вправду мог играть на гитаре в такое время!), пусть даже ночная охота на перепелку – все будет для стражей империи подозрительным и тревожным! «Для империи невинных нет… – говорили ему его новые друзья. – Ибо кто хоть в душе не хочет ее разрушения, тот вообще не человек!»
– Разрушайте ее, делайте что хотите, а меня оставьте в покое. Меня это не касается! Боролись же вы до сих пор без меня, вот и продолжайте. У меня свои дела! Меня, помимо всего прочего, мать дома ждет… считает, что я на именинах застрял. – Ладо все еще пытался сохранить самостоятельность, независимость Ладика Тугуши. – Вам-то что… вы тут кто во второй, кто в третий раз! А некоторые и с семьями…
В этом-то он был отчасти прав (поэтому, возможно, его так и оберегали его новые друзья: Евгений Микадзе, Тедо Схирели и родители Марты – Лиза и Нико Макабели). Евгений и Тедо были уже старыми каторжанами, облысевшими, беззубыми; рот же Ладо был еще полон крепких, сверкающих зубов, а когда он расчесывал свой густой, упрямый чуб, гребенка у него в руке прогибалась. Нико Макабели, правда, был в ссылке впервые, как и Ладо, да и ненамного старше, чем тот, но рядом с ним были жена и ребенок, и жил он в отдельной избе. Ладо же не только не был женат, но и вообще ни разу еще не целовался как следует; вкуса настоящего поцелуя не знали ни он, ни те девушки, с которыми на пути к настоящей женщине его сталкивали случай, игра в фанты или навеянная вином лихость. У этих девушек губы были твердые, холодные от волнения и застенчивости, и исчезали они так быстро, что Ладо, сам взволнованный и напуганный не меньше их, целовал уже почти воздух и головокружительный аромат, который замешкавшиеся на миг девушки в этом воздухе оставляли. А Нико, как и Евгений и Тедо, находился тут за террор, хоть они и утверждали, что террорист из Нико получится, когда рак на горе свистнет. Говорили они это по вечерам, когда все собирались у печи, говорили не для того, чтобы позлить Нико, а так, в шутку. И Нико на них не обижался. «Виноват! Сознаюсь, виноват: мне его вдруг жалко стало…» – говорил Нико. А за стенами избы ревела буря и выли волки.
– Врага жалеть нельзя! Гляди-ка… – поворачивался к Ладо Евгений, оттягивая пальцем свою нижнюю губу. – Такое можно простить, а?
Ладо невольно отводил взгляд от оголенных, беззубых десен в каком-то отвратительном, похожем на иней белом налете!
Насколько Ладо понял из их разговоров, Нико Макабели было поручено убить какого-то генерала. С самодельной бомбой в руках он подстерег свою жертву на глухой улочке, но, вместо того чтобы взорвать коляску, в которой генерал возвращался домой, в последний момент кинул бомбу в стену и пострадал сам. Оглушенный взрывной волной, он очнулся в тюрьме.
– Он был старичок… седенький такой. Увидел меня у дерева, в коляске привстал – почувствовал, что ли? «Ради бога!» – кричит… а рука трясется, – рассказывал Нико.
Но еще больше удивлял Ладо поступок Лизы, жены террориста: ни понять, ни объяснить его себе Ладо не мог, ибо о любви он знал лишь то, что поется в песенках. Он считал, что Лиза просто предпочла похоронить себя заживо, но не опозориться, родив внебрачного ребенка, или же была настолько глупа и неопытна, что вздумала покрасоваться, совершенно не представляя себе, что ее ждет. Кто из девушек не завидует описываемым в книгах трагедиям любви? Но большинство из них, в отличие от Лизы, понимает же все-таки, что трагедии эти хороши именно в книгах, а не в собственной жизни! Первое время Ладо чуть-чуть даже над ней подтрунивал, но потом у него открылись глаза, и он понял, что нечаянно стал очевидцем любви более сильной и трагической, чем все описанные в книгах. Выяснилось, кстати, что Лиза приходится ему дальней родней, да не столь и дальней, чтоб совсем уж не знать об ее существовании, чтоб хоть для виду не интересоваться ее невзгодами и радостями. Беседуя с ней, Ладо постепенно вспоминал все, что он, благодаря бесчисленным бабушкам и тетушкам, знал о семье Лизы до их знакомства. Семья эта была одной из самых известных и уважаемых в Тбилиси. Отец занимал какой-то крупный, чуть ли даже не директорский, пост в Дворянском банке, а мать преподавала в гимназии св. Нины и была почетным членом нескольких благотворительных обществ.
– С раннего детства я больше всего боялась мамы. Говорю и взглянуть на нее не смею… – рассказывала Лиза, глядя в огонь и с рассеянной улыбкой поглаживая медовую головку дремавшей у нее на коленях Марты. – Мне всегда казалось, что она вот-вот сделает мне замечание, рассердится, что ей что-нибудь не понравится… Я не помню случая, чтоб она в самом деле на меня рассердилась, но мне почему-то так казалось. И долго…
– И такая женщина, узнав о твоих делах, поцеловала тебя в лоб, благословила избранную тобой дорогу, а сама отправилась чужих дочерей воспитывать? А? – подтрунивал над ней Ладо.
– Ну да… благословляю тебя, мол… – отвечала Лиза, как в дурмане. – Я так растерялась, так обрадовалась… Долго плакала… чуть даже на поезд не опоздала… – Лиза как бы не рассказывала, а думала вслух, улыбаясь чудившемуся ей в огне строгому, гордому лицу матери.
– В книге бы прочел – не поверил бы! – насмешливо удивлялся Ладо. – Вы как Нестан и Тариэл… разница лишь в том, что тут Нестан пришла в крепость к Тариэлу, а не Тариэл к Нестан, как оно нашему благословенному Руставели казалось более естественным… У вашей истории, впрочем, окончание тоже вполне естественное… не зря же говорится: рыбак рыбака видит издалека! Будь я поэтом, я б непременно изложил вашу историю в стихах, вот когда девчонки наши глупые всласть нарыдались бы! Вы только подумайте: ну что может быть интересней! Девушка, воспитанная в благородной, уважаемой семье, влюбляется в революционера, террориста, разрушителя порядка, бегающего не на лекции, а на конспиративные сходки, держащего под мышкой не книги, а завернутую в газету самодельную бомбу. Благородная девушка так уверена, что ее рыцарь спасет мир, что от счастья забывает даже некое простое правило, соблюдение которого до свадьбы одинаково желательно для всех девушек, и образованных и необразованных! А рыцарь, завидев жандарма, со страху роняет бомбу и сам взлетает в небо, как жаворонок, – навстречу солнцу светлого будущего. Благородной девушке только и остается следовать за ним – о нет, не потому, что ей нельзя показаться людям с внебрачным животом, а потому, что она любит своего жаворонка, жить без него не может, ради него не то что в светлое будущее, а хоть в преисподнюю идти готова! Как Эвридика за Орфеем… и тут, заметьте, все наоборот, и тут ролями поменялись. Удивительно, насколько теперешние женщины смелей своих бабушек! «Вы не вправе разлучать меня с отцом моего ребенка…» – кричит благородная девушка жандармскому полковнику, кладя прямо на его стол свой заметно уж округлившийся живот, тоже похожий на самодельную бомбу, которая вот-вот взорвется, подымет на воздух всю жандармерию, если только сумасбродное… простите, благородное требование героини не будет немедленно удовлетворено! И вот она и ее избранник преклоняют колени на прогнившем полу тюремной церкви и плачут от радости – так, словно им предстоит не отправка на вечное поселение, а возвращение в рай, потерянный лишь по их собственной глупости. Обалдевший от их поведения, а точней, от этой явной глупости, священник не знает, как ему быть: благословлять или проклинать… А они счастливы – слышите? – счастливы!
– Священник взял у Лизы ее булавку с алмазом… буду-де молиться за вас… – перебивал его Нико, улыбаясь огню так же, как она.
– Погодите, погодите… я еще не кончил! – кричал возбужденный собственным рассказом Ладо. – Они, говорю, счастливы… их возвысила любовь, они все принесли в жертву любви. Знаете же: «О любовь, своею силой ты в рабов нас обращаешь…» Но они пошли еще дальше – не только сами стали рабами любви, но в жертву ей принесли и ее же собственный плод, существо непорочное, ни в чем не повинное и все-таки с самого рождения закованное в кандалы, обреченное на вечную ссылку! Вот она, ваша любовь, кормилица добра и милосердия…
– Марта будет счастлива… она должна быть счастлива. Хорошо, что она увидит весь этот кошмар! Она будет больше, чем мы, любить свободу, не расстанется с ней так легко, как мы… если, конечно, все наши мучения, все наши страдания не напрасны… – говорила Лиза, поглаживая медовую головку дремавшей у нее на коленях Марты.
– Они не напрасны! Они, как порох, накапливаются в фундаменте империи, – говорил Евгений или Тедо, чтоб успокоить, ободрить ее.
– Все вы сумасшедшие, сумасшедшие! – кричал вышедший из терпения Ладо.
Потом Лиза умерла – но и смерть не смогла стереть с ее губ спокойной, чуть-чуть рассеянной улыбки. «Смотрите берегите себя… берегите себя!» – шептала она перед смертью пересохшими от жара губами. Все знали, что она умирает и что бороться против смерти они бессильны. Ладо ужаснула многочисленность каторжан, которые всё шли и шли; одинаково хмурые, одинаково бледные, одинаково бородатые, они понемногу собирались перед избой умирающей, и ему показалось, что это души покойников, вставшие из своих могил и терпеливо ждущие, чтоб живые уступили им душу Лизы. И смерть здесь была иной – голой, строгой, общей! Лиза умирала не только для своего мужа и ребенка, но как бы и для всего мира; все народы белой империи шли, казалось, к ее потонувшей в сугробах избе, как некогда волхвы, стремившиеся увидеть младенца в яслях. Глаза ей закрыл русский врач; польский священник отпел ее на своем языке; а гроб из еще сырых, пахнущих смолой сосновых досок принесли соседи-финны. Кто-то, взобравшись на крышу избы, привязал к дымоходу древко знамени; знамя распахнулось, как крыло, захлопало на ветру, и его красный отсвет пробежал по хмурым лицам людей, как если б они стояли у костра и глядели в огонь. Над избой мерцала большая, чистая, светлая, как слеза, звезда.
Что Лиза умрет, Ладо знал заранее: Нико ли ее заразил, или она его, но оба были больны чахоткой. О своей болезни они говорили так же просто и свободно, как о своей любви. «У нас с Нико и болезнь общая…» – улыбалась Лиза, и Ладо невольно вздрагивал. Русский врач тоже был частым гостем избы Макабели – температура подскакивала то у мужа, то у жены, и врач не говорил ничего утешительного, а то, что он говорил, не давало Ладо спать, вызывало у него ночные кошмары. «Чахотка – болезнь века… от нее люди не то что в Сибири, айв Аддис-Абебе мрут», – говорил русский врач, своими беспокойными пальцами постукивая по столу, как по груди больного, словно болен был и этот стол. Да, и стол был болен… и стены избы, и воздух, и снег, и гудящий в печи огонь тоже! Лишь потом, постепенно Ладо понял, осознал, что единственное возможное лекарство в этом гнилом, хвором мире – всегда говорить правду, одну правду, всегда смотреть правде в глаза! К этому и приучал своих пациентов-каторжан каторжанин-врач; это и было оружием в беспощадной, не на жизнь, а на смерть борьбе – борьбе не за продление еще на денек-другой этой собачьей, осточертевшей всем жизни, а за рождение другой, новой жизни… «Я убежден, что когда-то человек действительно владел эликсиром бессмертия, но сам его уничтожил, не поняв смысла бессмертия… или, верней, испугавшись необходимости быть вечным свидетелем рабства – своего или чужого. Но совсем обойтись без бессмертия он все-таки не мог – вот и выдумал бога! Даже не выдумал: его тоска по бессмертию сама родила бога, словно незаконного ребенка. Ибо бог – не что иное, как угрызение совести, созданное специально для наказания свидетелей; но именно оно-то и мешает человеку избавиться от склонности к рабству. А пока человек раб, не все ли равно, что его убивает – чахотка или обжорство…»– говорил русский врач.
Все происходившее вокруг Ладо напоминало бессвязный и нескончаемый кошмарный сон. С этим сном он не имел ничего общего, никакого смысла в том, чтоб он снился именно Ладо, не было – и все-таки пробудиться от этого сна он не мог. Он чувствовал, что гибнет, что сон душит, уничтожает его. «Еще день, и мне крышка!» – мучила его вонзавшаяся в мозг острая и холодная, как ледяная сосулька, мысль. Необходимо было любой ценой вырваться из этого сна, как-нибудь проснуться! Едва изба погружалась в темноту и он закрывал глаза, как ему чудился плевок с кровью, из которого, как муравьи из разоренного муравейника, упрямо подымались бациллы чахотки, вползавшие на его съежившееся тело, лезшие ему в рот, в ноздри, в уши! Безжалостные, неиссякаемые, они, шурша, шипя, пища, искали себе нового гнезда. Потом его рот наполнялся вывалившимися зубами, и он тщетно мучился, стараясь затолкнуть их обратно, в покрытые белым инеем десны. «Сбегу! Всем вам, как я погляжу, помереть не терпится. А я ничего еще в жизни не видел! – говорил он утром Нико, Тедо и Езгению. – За что я должен сидеть вместе с вами? Я-то охотился не на генералов, а на перепелку – и то единственный раз черт дернул… Почему мне за перепелку такое же наказание, как вам за генералов?» – «Успокойся, ладно… хватит тебе! – утихомиривали его то Тедо, то Евгений. – Если бы бежать было так просто, чего ради тут столько народу сидело б! Бегство – это уступка, это самоубийство! А мы боремся, и каторга это лишь подтверждает: опустеет она лишь тогда, когда мы или победим, или откажемся от борьбы. Бежать же мы не дадим и тебе – ты уже тоже наш. Веревкой свяжем, а не дадим! Тут и почище тебя ребята убегали – все волчьим брюхом переварены». – «Лучше сгнить… лучше пусть меня волки съедят, чем… чем…» – заплетался от волнения язык Ладо: жалея Нико, он боялся сказать «лучше, чем заболеть чахоткой!». Не встреться ему эти люди, он действительно наверняка бы погиб! После таких разговоров он падал на топчан навзничь и горько рыдал, словно соблазненная и покинутая женщина. Он и сам не понимал, что с ним происходит: ему хотелось то отрубить себе руку или ногу, то проглотить что-нибудь твердое и острое; десятки раз у него выбивали из рук нож или, насильно заставив разжать зубы, которыми он впивался в ножку стола, вытаскивали из его гортани наполовину уже проглоченную ложку или карандаш. Хорошо еще, что рядом были люди; они терпели все его выходки, возились с ним, иногда и тумака ему давали, и, высмеивая его сумасбродные желания, потихоньку его вразумляли! Однажды, выскользнув украдкой из избы среди ночи, он сорвал с себя белье и нагишом улегся в сугроб. «Найдите-ка меня сейчас, ежели вы такие молодцы…» – возбужденно и злорадно думал он, все глубже погружаясь в снег. Спасла его только песня – он даже не заметил, как затянул песню, иначе его действительно и сам черт не сыскал бы; по голосу же его, окоченевшего как полено, обнаружили и выкопали из снега. А в один прекрасный день он изумил всех, заявив, что до сих пор их обманывал, так как еще надеялся спастись, что ночью на батумском бульваре он охотился вовсе не за перепелкой и что он вообще никакой не Ладо Тугуши, как записано в его личном деле, а внук царя Соломона Второго, последний Багратид, и фонарем извещал турок о начале своего царствования.
– Когда я достиг совершеннолетия, мнимые родители, у которых меня скрыли мои настоящие, по их поручению велели мне отправиться в Батуми и ночью у моря помахать фонарем. Должно быть, по этому знаку турки двинули бы большую армию, чтобы вернуть мне престол. Но один завистник, как это водится у нас в Грузии, все-таки нашелся, и я, вместо того чтобы стать царем, да и вас тоже из беды вызволить, гнию тут, с вами, без бога, без короны! – Сказав это, он неожиданно встал и вышел из избы, царственно выпрямившись, неторопливо, надменно…
Когда его слушатели, опомнившись, выскочили вслед за ним, он уже застегивал брюки, а на снегу большими кривыми буквами было выведено его царское имя – без гласных, как в старинных грамотах, словно бы для экономии места или чернил. «СЛМН» – гласила желтая надпись на снегу. После этого его стали звать и Ладо, и Слмн – как когда, смотря по его собственному настроению и поведению в данный момент. Он был то Ладо, то Соломоном Третьим, то безвинным ссыльным, то свергнутым и оставшимся без короны царем; но сам он этого раздвоения не замечал, ибо и тем и другим одновременно не был никогда, оба эти персонажа друг с другом не встречались, и что один из них вдруг уступал место другому, он не осознавал. Так, на похоронах Нико (прожившего после смерти жены всего полтора года) Ладо появился в качестве Соломона Третьего и обратился к собравшимся с речью; вернувшись же оттуда и взобравшись на свою печь, он снова стал заключенным Ладо Тугуши, задумчивым, печальным, искалеченным судьбой человеком, мысленно сразу же перенесшимся в солнечный, цветущий Кутаиси. О том, что Евгений и Тедо только что с трудом вырвали его из рук разъяренных каторжан, он уж и не помнил. А ведь всего пять минут назад он в качестве Соломона Третьего призывал народ к укреплению трона Багратидов и верной службе ему, царю, а собравшиеся у могилы революционеры-каторжане размахивали красными флагами и, показывая ему кулаки, кричали: «Долой царя… долой самодержавие!» Но кем бы он ни был, Соломоном или Ладо, Марту он узнавал всегда – и не только узнавал, но и беспрекословно выполнял любое ее желание. После смерти Нико Марта жила в их избе, и трое мужчин, с любовью глядевшие в глаза этой маленькой девочки, берегли ее, как обитатели подземелья свою последнюю спичку. Раньше, при жизни своих родителей, Марта была для них просто ребенком; они любили ее, заботились о ней, но по-обычному. Когда же на их глазах между двумя могилами, словно из пара еще влажной, озаренной солнцем земли, родилась новая Марта, Мар-та-сирота, нежная и бледная, как ранний цветок, и в то же время спокойная и умная, словно божество чистоты, света, добра, принявшее облик ребенка лишь для того, чтобы безумный, бессердечный, пожирающий собственную плоть мир, занесший уж руку для свержения этого божества, хоть вздрогнул, хоть на миг осознал собственное безумие, – тогда-то все трое одновременно почувствовали, что с самого начала вышли в путь только ради спасения этого крохотного существа, что оно одно способно оправдать их запутавшиеся жизни, их бездомность и одиночество, их заслуженный или незаслуженный плен. Постепенно Марта стала для них олицетворенной надеждой, верой, целью, мечтой – и, сами того не замечая, они старались вложить в нее, сохранить в ее душе все, что осталось в них самих человеческого, незапятнанного, незамутненного… Так одинокие старики собирают в копилке деньги на собственные похороны, собирают годами, по грошу, с дрожью и блаженным волнением, ибо знают, что благодаря этой копилке не останутся без погребения и они; и копилку эту они не прячут от чужих глаз, но, напротив, держат на самом видном месте: она внушает им не только надежду, но и гордость. Такое же счастье приносила своим друзьям и Марта, которую они уважали, как сыновья мать, баловали, как братья единственную сестру, и почитали, как гости хозяйку.
– Спасет ли хоть что-нибудь нашу родину? – окликал ее иногда с печки Ладо-Соломон.
– Спасет! – коротко отвечала Марта, разглядывая книгу, рисуя или одевая куклу, сделанную ей дядей Тедо.
– Откуда ты знаешь, деточка… откуда ты знаешь? – беспокоился Слмн.
– Знаю… – твердо, упрямо отвечала Марта.
Она действительно знала куда больше, чем говорила! Она знала, что где-то за тридевять земель есть двухэтажный, обнесенный каменной оградой дом, в котором живут самые близкие ей люди. Во дворе этого дома шелестят липы, вокруг столбов веранды с писком кружатся белогрудые ласточки, а из хлева выглядывает осел с блестящими агатовыми глазами – осел, на котором когда-то возили в школу ее тетю. Давным-давно обитатели этого дома по вечерам собирались вокруг пузатой фарфоровой лампы, и бабушка Марты читала им напечатанные в больших книгах с позолоченным обрезом истории, слушать которые можно было без конца, – поэтому, когда огромные, как шкаф, часы показывали, что детям пора ложиться, и Агатия, старая няня, воспитавшая отца, дядю и тетю Марты, утаскивала их спать, в доме всегда подымался громкий шум (и Марта улыбалась, представляя себе эту сцену). Она знала, что дом этот – и ее дом, что забыть о его существовании она не сможет никогда и, куда б судьба ее ни закинула, ее лицо и сердце всегда будут обращены к этому дому. Знала она и то, что ее дядя Александр – самый сильный, смелый и добрый человек на свете; что, если она не найдет дороги домой, он разыщет ее сам – сквозь стену пройдет, а разыщет, в преисподнюю спустится, а разыщет, до небес дотянется, а разыщет! У него, правда, всего одна рука, но не дай бог кому-нибудь встать на его пути или осмелиться обидеть Марту! Она так много слышала с нем от отца, что узнала б его даже издали, и так часто рисовала этого однорукого человека, что очень удивилась бы, окажись он хоть несколько иным. Его она рисовала и сейчас. В избе пахло вымытым полом, мирно гудела печь, на которой лежал Ладо-Слмн, со двора доносился хрип пилы… и Марта даже представить себе не могла, что через какие-нибудь две-три минуты собственными глазами увидит дядю – не нарисованного, а живого. Выглянув в окно избы, она уже сейчас заметила бы черную точку, но ей, конечно, никогда не пришло бы в голову, что это упрямо приближающаяся черная точка и есть ее дядя Александр. Чуть-чуть обиженная тем, что в ее ласточке нашли сходство с ястребом, она теперь, в пику Ладо, рисовала однорукого великана. Внезапно хрип пилы прекратился, но ни Марта, ни Ладо внимания на это не обратили. Когда-то ведь он прекратиться должен был!
– Ну-ка взгляни… кажется мне или действительно кто-то идет? – спросил Тедо Евгения, который, повернувшись, тоже сразу увидел направлявшегося к ним незнакомца…
Ворона, маленькая, как брызнувшая капля дегтя, медленно, нехотя летела вдоль лесной опушки. «Она не летит, а надо мной кружит! – подумал Александр. – Почуяла, что я подыхаю… из-за этого и мечется, не отстает от меня. И не отстанет, пока глаз моих не выклюет, в зобе ими не булькнет! Эй ты, крикунья! Ты думаешь, я знал, что творил? Слепым родился, слепым и жизнь прожил. Ты ж этого и хотела, попадья чертова! Если ты думаешь полакомиться моими глазами, то зря! Они горьки, ядовиты… чтоб тебе с места не сойти! Ничего-то они не видали, кроме уродства и грязи, – пару желчных пузырей и проглотишь. И все-таки тебе придется глотать, переваривать их: они ведь и поруганную наготу сестры видели! А еще… еще они видят тебя, грязнуха паршивая, уродина почище еще меня самого! Почему ты кружишь вдали? Лети сюда, не бойся – я тебя поблагодарю только, если ты действительно выклюешь все, что я видел и запомнил! Лети ко мне, не то я всем скажу, какая ты уродливая, грязная… Пойми ты, дуреха, я не смерти боюсь, а жизни! Если ты меня стыдишься – ну вот, я на тебя не гляжу… – Он прикрыл глаза рукой. Глаза болели – глухо, приятно, не переставая; внезапно наступившая тишина была заполнена красными, сумасшедшими искорками. – Дуреха… дуреха! – несколько раз повторил он вслух, ни к кому не обращаясь, никого не имея в виду, словно ему просто понравилось вдруг это слово. Он шел, по-прежнему прикрывая глаза рукой. Задубевшие, несгибаемые полы его тулупа звенели примерзшими к ним сосульками, но сам он не чувствовал того, что идет, о чем-то думает, рукой прикрывает глаза… – Аннетин инженер хоть знал, кого ему бить; а я и этого не знаю… и никогда не знал! – Он отвел руку от глаз и взглянул на нее точь-в-точь так же, как шесть месяцев назад, под липами во дворе родительского дома. Сейчас красные, сумасшедшие искры прыгали у него на ладони. – Тьфу… проклятая, негодная кровь!» – сказал он, вытирая руку о тулуп, словно она в самом деле была в крови.
Он был уже виден – двое ссыльных, остановившихся возле мерзлого, наполовину распиленного бревна, его заметили. Оба они уже разглядели, что идущий к ним человек несет не полено под мышкой, а вытянутый, негнущийся рукав, – и оба уже догадались, кто он такой. Если ж они друг другу в этом еще не сознались, то только из боязни разочароваться, ошибиться в своей догадке; ибо им хотелось, им очень вдруг захотелось, чтоб человек этот оказался именно тем, за кого они его приняли, тем, кто в их представлении только таким быть и мог. Глядя, как он пробирается сквозь снег, они повторяли про себя его имя, хоть никогда прежде его не видели и ничего ни хорошего, ни плохого вместе с ним не переживали. И все-таки он был единственным, кого они ждали, кто непременно должен был прийти из того мира, если только тот мир еще существовал и если существовало еще братство вообще. Они были каторжанами, и важней хлеба, воды и огня для них была вера в то, что весть о судьбе брата всегда дойдет до брата даже за тридевять земель, что и там она не даст ему покоя, сделает его хлеб горьким, а изголовье каменным, не отвяжется от него до тех пор, пока не заставит его сделать невозможное возможным! Еще минутка, и Тедо скажет: «Пусть и мне оттяпают руку, если это не Александр, брат нашего Нико…» – скажет растерянно, обрадованно, но и озабоченно; ибо если эта догадка подтвердится, то вера их, конечно, окрепнет, но ведь с Мартой-то им придется распрощаться, Марту ее дядя заберет отсюда сегодня же! Оба сразу подумали и об этом – смутно, с неясным страхом и неясной радостью, как это свойственно всем ожидающим, которым именно в последнюю минуту ожидания всегда вспоминаются тысячи всевозможных «а вдруг…» и «а если…».