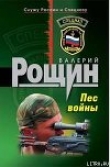Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
9
Руки помнили все. Он клал их на колени и, словно глядя в глаза мертвому другу, молча рассматривал оставшиеся от ранения ямки. Как тело мертвого друга, принес он в ту ночь домой свои руки, черные от крови. Его семья не знала и малой доли того, что знали эти руки, того, что они пережили вместе с ним – и плохого, и хорошего. Все его четыре жены, естественно, давно пронюхали, что он ходит к христианке, но им и в голову не пришло бы, что если он кого на земле и любит, то лишь эту христианку. Руки же знали и это – с их помощью он, вместе с одеждой, сбрасывал с себя и семью, и веру, и самолюбие, и долг, и страх, чтоб, словно истомленный жарой путник в незнакомую реку, бездумно и беззаботно кинуться в прохладные, мягкие, как бархат, волны любви. Он чувствовал, как его возвращают в детство, очищают, облагораживают не только чистота, спокойствие и щедрость этой реки, но и неясное ощущение ее загадочных, опасных, болезненно привлекательных глубин. От него пахло этой рекой – его жены всегда безошибочно знали, когда он возвращался «оттуда». Валяясь на овчинных подстилках и вспоминая недавно пережитое наслаждение, он блаженно улыбался воркотне жен, добрый и безобидный, как любой зверь у себя в берлоге. Он чувствовал, что постепенно отвыкает от дома; но это его ничуть не огорчало, и угрызений совести он не испытывал: семья была его долгом, а «то» – наградой. В уголках сакли копошилось его потомство: рождавшиеся один за другим, чуть ли не одновременно, дети разглядывали лежащего на овчине отца, и их голые животики и попки белыми пятнами мелькали в едва освещенной коптилкой темноте. Рожденное четырьмя разными женщинами, потомство это уже слепо, безоговорочно поклонялось величию и власти своего общего отца, как верующие с четырех концов земли – единому, восседающему в центре вселенной божеству. Женщины, все четыре одинаково придирчивые, взволнованные и разозленные, нюхали, обшаривали, перетряхивали его одежду, а он улыбался своим воспоминаниям и был счастлив, зная, что помешать существованию той, единственной, они бессильны и вчетвером. Вернувшись домой в ту ночь, весь окровавленный, он обнаружил в глазах жен радость, а в глазах сыновей гнев. Он долго не мог ничего делать руками: раны несколько раз загнаивались и вновь открывались; но он спокойно, безропотно переносил и боль, и свою беспомощность. Руки, в несколько слоев обмотанные пестрыми тряпками, лежали у него на груди, и он молча глядел в потолок. Сказать, что он стал ко всему равнодушен, было б неверно: он просто не знал, что ему делать, как поступить – не в данный момент, а вообще – если для него навсегда закрылась дорога к той, без которой ему ни к чему были и семья, И скот, ни к чему было быть мужчиной! Безысходная, одуряющая ленивая печаль сидела где-то внутри, и он с замиранием прислушивался к ее бесконечному шороху, стенаниям и вздохам – ничего другого он пока что делать не мог и не хотел. «Околдовала его эта ведьма…» – тяжко вздыхали жены, и он впервые в жизни испытывал стыд перед ними; не оттого, что изменял им, а оттого, что и они знали о его поражении. Он знал, что для них его измена простительней его поражения, что, объясни он им в самом деле, куда идти, они б за волосы притащили ее сюда, держали б ее тут на привязи – лишь бы только не видеть его, своего хозяина и кормильца, таким угрюмым и жалким, лишь бы его душа вновь расположилась к семье и хозяйству! Но он продолжал глядеть в потолок; обмотанные руки лежали у него на груди, и он чувствовал, что грызущая изнутри крыса тоски ему приятна. Потом раны чесались, и он зубами рвал повязки – собственные руки мучили его, как краденая лошадь, которую нужно вовремя надежно спрятать или же раз навсегда от нее избавиться, ибо клеймо, которым она помечена, общеизвестно. Его руки сами вынуждали его вернуться к жизни, вновь стать мужчиной, вновь заняться своими овцами, коровами, овчарками и лошадьми, вновь неделями и месяцами сидеть в чайхане, выгоняя из разгоряченного тела, вместе с потом, все недуги. Тоска и раскаяние были не к лицу ему, владельцу кулаков с баранью голову величиной, – тосковать и каяться следовало заставить других! Но он до сих пор не понимал, против кого, собственно, разъярен, да и разъярен ли вообще. Нет, он был не разъярен, а обижен, и обижен несправедливо. Ибо, по его разумению, он был защитником и ее, и ее сына: кончилось же все наоборот – тем, что от него-то их и защитили. Но и не это даже было главным! Ни майор, ни целый батальон никогда не заставили б его отказаться от десятилетней любви, если бы он чувствовал, что и они, мать с сыном, сами хоть немного его любят. Но его жены были, кажется, правы: десять лет подряд он действительно был опоен зельем! Десять лет подряд он был всей душой привязан к чужому отродью, не зная толком, сколько у него собственных детей; десять лет подряд он целовал ноги христианке, да еще чьей-то вдове, в то время как четыре женщины грызлись, как цепные псы, из-за чести вынести его помои. Десять лет подряд он был влюблен как безумный и не колеблясь перерезал бы глотку собственной жене или сыну, осмелься они преградить ему путь в Уруки! Все эти десять лет он был другим человеком, у него было другое сердце, другие глаза – это-то он понял сразу; но в том-то и была беда, что эти десять лет слепоты не только были лучшим, драгоценнейшим временем его жизни, но остались им и сейчас, когда они ему уже не принадлежали, навсегда от него отделились, задвигались сами по себе, как отрезанный хвост ящерицы. Желания мстить у него не было – теперь он уж и не был уверен, что действительно заслуживал потерянного, казавшегося ему своим лишь по глупости. И все-таки о мести он думал все время. Мстить он был обязан, хотелось ему этого или нет, – это зависело не только от его желания, это был его долг перед богом и перед собственным потомством, многочисленным уже, как овечья отара, – перед потомством, вокруг которого, словно четыре злые овчарки, кружились четыре женщины. Он знал, что его домочадцы вытерпят все, простят ему все – и постельные утехи с христианкой, и топленое масло для христианского ребенка, – но скорей умрут или добровольно продадутся в рабство, чем останутся женами человека, отвергнутого другой женщиной, сыновьями человека, оставившего свое оскорбление неотмщенным: а иначе им и не жить было бы под этим небом, на этой земле, где кровь смывается только кровью! Со временем его жены становились все строптивее и наглей, словно лишь сейчас им стало трудно мириться с тем, с чем они десять лет подряд мирились. Но он не спешил – мысль о мщении еще хоть как-то связывала его с Уруки; уже отомстив, он лишился б и этого. Всех сыновей и внуков, росших под его кровом, он заставлял дотрагиваться до своей раны; широко раздвинув ноги и поставив между ними ребенка, он стискивал его слабую, напряженную ручку и водил ею по ране до тех пор, пока на внимательном золотушном личике не появлялась улыбка неосознанной радости и столь же неосознанной гордости, улыбка человека, убедившегося в необоснованности своих страхов и сомнений. Он и сам не знал, зачем это делает, – вероятно, ему казалось, что его раненые руки скажут ребенку больше любых слов. Сейчас в эти две раны, в эти две сморщенные ямки, была втиснута, осела, опустилась вся его жизнь, рассказывать о которой он никому не собирался – не потому, что многое в этой жизни огорчало теперь и его самого, а потому, что это была его жизнь, до которой и его родному сыну дела не было! Человеку с понятием достаточно и того, что он видит, того, что скрыть нельзя; рана говорит о человеке больше и лучше, чем человек о своей ране. Это он видел и по глазам детей, в которых недолгие растерянность и любопытство мгновенно сменялись гневом и жаждой мести. Так что, давая сыновьям, а потом и внукам ощупывать свои пробитые пулей руки, он делал это не для развлечения – по грубым, уродливым складкам раны их нежные, слабые еще пальчики учились читать жизнь, как читают букварь слепые… Мщение было неизбежным; оставалось лишь решить, кому мстить, кто из двоих больше достоин смерти – мать или сын. О майоре он и не думал – майор был для него то же самое, что неодушевленный пистолет; смерть майора не оставила бы в его душе никакого следа, потому что никакого чувства к майору у него ни до, ни после выстрела не было. А вот мать с сыном, укрывшихся за спиной майора, он любил – и до происшествия, да и после него тоже; и мучило его не то, что ему пустили кровь, а то, что надругались над его десятилетней любовью. Но чем больше он обо всем этом размышлял, тем ясней становилось ему, что сын обидел его больше, чем мать. Не будь Георги, Анна на эту измену никогда не осмелилась бы. В сущности-то она променяла его не на майора, а на Георгу; неприязнь к нему родилась не в Анне, а в Георге. Анна же, когда ей пришлось решать, просто предпочла сына любовнику. Для него это было очень тяжело, очень горько – и все-таки это можно было еще как-то и понять, и простить. Анна просто выполняла свой долг, принадлежала тому, кто больше в ней нуждался, у кого было больше прав на нее, – он же, ввязавшись в эту любовь, лишь опозорил себя и перед семьей, и вне семьи! Но сейчас, когда все это давно уж стало воспоминанием, когда огонь страсти погас, испепелился, когда его сыновья сами уже похищали и покупали женщин, а в ямках ран начали копошиться робкие, любознательные пальчики внуков, он с душераздирающей тоской и печалью чувствовал, что главным в его жизни была все-таки любовь не к Анне, а к Георге, что десять лет подряд он добивался любви не Анны, а Георги. Сделать Анну своей женой он мог бы в любой момент, как только захотел бы, – с этой-то целью он ведь и вернулся в Уруки в ту проклятую ночь; но в Георгу он никогда, никаким колдовством не смог бы вдохнуть свою душу и кровь. У мужчины, отвергнутого женщиной, усы не отвалятся – он или возьмет ее силой, или заменит другой; но когда десятилетний сопляк, все эти десять лет пропрыгавший у тебя на коленях, вдруг обещает убить тебя – тут уж сраму не оберешься, тут уж ни поясом с кинжалом, ни аршинными плечами никого не обманешь. Дети и собаки, во всяком случае, сразу почувствуют, что ты за молодец! Поэтому месть была неотвратима – она росла упрямо, день за днем, как чрево соблазненной девушки; знал он уже и то, чья смерть из этого чрева родится. Но тут у него неожиданно возникла другая забота, и он перевел дух, облегченно вздохнул – ему представилась возможность еще ненадолго отложить уже решенное и неизбежное. «Урукийский торговец твоими похождениями, говорят, покупателей развлекает…»– сказал ему как-то его старший сын. Он не мог оторвать глаз от угрюмого лица сына – он был тронут гневом и нетерпением, звучавшими в голосе молодого мужчины, почувствовал, как тот страдает, и его сердце впервые сжалось от благодарности к родной плоти и крови. Внезапно он ощутил юношескую легкость и бодрость. Наказать урукийского купчишку было действительно задачей легкой и занимательной в сравнении с тем, о чем сын говорить избегал, – вот то было дело действительно святое, наследственное, дело, от которого зависела честь всего рода! В ту же ночь оба они были в Уруки. Сына он взял с собой не в помощники, а в свидетели – ему вдруг захотелось показать себя сыну, убедить сына в том, что он еще мужчина. «Я ему и с лошади сойти недам… я ему голову этого торгаша-сплетника, как арбуз, швырну!» – молча думал он. И все-таки сердце его колотилось, и думал он об этом для того только, чтоб не думать о другом, чтоб мысль об этом другом, главном, его не расслабила. Впервые в жизни он ехал в Уруки с недоброй, кровавой целью, и ехал вместе с сыном; а это была его, только его дорога, и ездить по ней его сын был вправе меньше, чем кто бы то ни было другой, – по ней он всегда ездил к любимой женщине. Теперь эта дорога как будто искривилась, стала длинней; на этот раз она вела не к любимой женщине, а к человеку, которому следовало умереть. И все-таки он так же, как когда-то, волновался так, словно должен был вот-вот опять увидеть ее, приласкать ее, облизать мокрые от слез щеки! «О чем ты думаешь, отец?» – изредка окликал его сын. «О чем? Сам не знаю. Думаю вот…» – машинально отвечал он, уже раздраженный близостью и заботой сына. Потонувшая в густой тьме деревня спала, но он сразу почувствовал, что за время его отсутствия тут что-то изменилось. Никогда в жизни не видевший этих мест днем, он, однако, знал их как свои пять пальцев; поэтому, когда вместо знакомого, все еще почти любимого дома, ему в глаза бросилась вдруг черная, удушливая пустота, он невольно остановил лошадь, хотя с самого начала решил и не глядеть на этот дом, не выдавать сыну его местонахождения. Сын тоже остановился, и он чуть не спросил у сына, что, собственно, произошло. На миг ему даже показалось, что приехал он сюда не для убийства Гарегина, а для того, чтоб забрать мать и мальчика с собой, как в ту проклятую ночь. «Заберу, и кончено… ногой больше в эту деревню не ступлю!» – думал он тогда; ему и в голову не приходило, что что-либо может помешать, воспрепятствовать его честным намерениям. Тогда в него всадили пулю, как в вора и разбойника. Хорошо, что он хоть вовремя прикусил язык, не стал объясняться – ему все равно не поверили бы, разве что, кроме пули, еще пинком в зад угостили б! Но еще несправедливей было бы, если б за это время что-нибудь случилось с ними без его участия, независимо от его воли. Снесенный дом вывел его из себя – то есть не сам дом, конечно, а неизвестность судьбы тех, кто обязан был встречать его в этой душной тьме, всегда, когда б он ни появился. Через минуту он уже стоял перед лавкой и грубо, злобно колотил кнутовищем в ставню. Как раз в этот момент Гарегин собирался разбудить жену – его заползшая под одеяло рука сразу одеревенела от испуга. Женщина первой приподнялась в постели. «Кого это черт мог принести в такое время?» – сказала она, зевнув. А стук в ставню продолжался. Рассвирепев, он стучал изо всех сил, словно человек, попавший в беду, человек, пришедший не убивать, а просить помощи. Его сын, остановив лошадь в стороне, даже не спешился; держа на луке седла заряженный пистолет, он спокойно ждал, словно ему не было ни малейшего дела ни до этой лавки, ни до человека, который, казалось, кулаками вот-вот отобьет ставни. Внутри лавки не слышалось ни шороха; но стучавший инстинктивно чувствовал, что это – не тишина пустоты, а тишина страха, нарушить которую может лишь страх еще больший. Свет зажегся так внезапно, что на миг это застало его врасплох, хотя лишь этого он и ждал. Не успела дверь открыться до конца, как острие его кинжала оказалось у кадыка Гарегина. Войдя в лавку вслед за своим кинжалом, он остановился, увидав, как Гарегин в одном нижнем белье плеснулся к стене, словно вылитое молоко. В темном углу, как крысы, зашуршали дети; жена Гарегина зажала рот ладонью, чтоб не закричать. В тот же миг он услыхал пение сверчка и сообразил, что все происходящее в лавке видно через открытую дверь и его сыну на улице. «Его нельзя убивать… и крови-то небось в жилах нет!» – злобно, горько подумал он, словно пытаясь переубедить сына. «Где они? – невольно вырвалось у него, и он тут же оглянулся на дверь, испугавшись, что это услышит и сын. – Ты, дорогой мой, язык, говорят, чересчур распускаешь?» – громко, чтоб услыхал сын, спросил он Гарегина. Ответа он ждать не стал – он понял уж и то, что парализованный ужасом Гарегин говорить сейчас не в состоянии, и то, что убить лавочника он не сможет, даже если б сын и счел его последним трусом! Он не мог марать рук в нечистой крови торгаша, его ждало другое убийство – священное, угодное богу; и узнать об их судьбе ему было сейчас гораздо важней, чем раздавить, уничтожить, вырезать все отродье болтливого купчишки. «Где они?» – обернулся он к женщине. «У майора… переселились», – не задумываясь ответила она, словно ждала этого вопроса всю жизнь: женское чутье помогло ей сразу разобраться во всем. Он невольно усмехнулся тому, что чуть было не поблагодарил ее, чуть было не швырнул денег копошившимся в темном углу детям. «Не бойтесь… вот если б сын мой сюда вошел, тогда все было бы иначе!» – подумал он. «Камень и гвоздь!» – крикнул он женщине: лишь в этот момент ему пришло в голову прибить Гарегина за ухо к двери собственной лавки. Чтобы проучить болтуна, укоротить его грязный язык, вполне достаточно было и этого – да и перед своим задыхающимся от злобы сыном он все-таки не так опозорился бы. За приоткрытой дверью было темно, в темноте стоял его сын, который все видел. На луке его седла лежал верный, быстрый, безотказный пистолет; но пустить его в ход он не мог, не смел возражать отцу – он был не участником дела, а просто свидетелем. «Бесится небось…» – подумал отец, прижимая кинжал плашмя к щеке Гарегина и гоня его к двери. «Посвети мне!» – приказал он женщине. В одной ее руке была лампа, в другой – камень и гвоздь. Голова Гарегина стукнулась о дверь глухо, как недозревшая тыква. Вложив кинжал в ножны и беря из рук женщины камень и гвоздь, он успел заметить ее счастливые, благодарные глаза. В темном углу копошились дети – он знал, что и они смотрят сейчас на его руки. А его сын на улице, наверно, уже кусал губы от злости. «Не убью, нет… раз уж до сих пор выдержал!»– мысленно крикнул он. На улице фыркнула лошадь, его лошадь, – лошадь, на которой сидел сын, фыркнуть сейчас не посмела бы. Что-то смутно, неясно обрадовало его – вероятно, злоба и беспощадность сына, – и он с силой ударил камнем по гвоздю. Гвоздь мягко, не встречая сопротивления, прошел сквозь мочку уха, и его рука сразу расслабилась; он почувствовал, что зря старается – его ярость прошла сразу же, как только он вошел в лавку. Нет – когда он узнал, что они живы! «Попробуй только хоть имя мое упомянуть еще раз…» – сказал он и снова ударил по гвоздю. Краешек камня раскрошился, крошки посыпались Гарегину за ворот, но он и не пошевелил прижатой к двери головой, словно боясь помешать карающей руке. «Придется постоять так до утра!» – сказал он женщине таким тоном, словно у него попросили совета. «Спасибо… ноги тебе целую!» – горячо сказала женщина. Швырнув камень в открытую дверь, он услыхал, как вздрогнули лошади, и ему вдруг до безумия захотелось исчезнуть, никогда больше сюда не возвращаться. Он уже вскочил в седло, когда женщина, выйдя на улицу с лампой, крикнула ему: «На этой стороне… не доходя церкви!» До церкви лошади шли шагом. Дом майора он узнал без труда, так, словно провел в нем полжизни. Нет, он узнал не дом – он просто всем телом почувствовал, что они именно в этом доме; их дух витал где-то рядом, в воздухе. Потом он пустил свою лошадь вскачь. Сын скакал вслед за ним, – и он старался расслышать в топоте копыт стук собственного сердца.

После этого вновь утекло очень много воды, – но он все еще медлил. За эти годы он похоронил двух жен, трех сыновей и одного внука, а его старший сын навек его возненавидел. Встречая отца, он теперь так отплевывался, словно ему в рот попал волос, но оба они хорошо знали, какой волос им мешает и от чего им нужно избавиться. «Нас гяурами называют… это правда, отец?» – едко, насмешливо говорил ему старший сын. Но сейчас это его уже не беспокоило – что ему делать, он знал и сам. После расправы с Гарегином он не раз еще вновь побывал в Уруки и усадьбу майора знал теперь так, что легко обошел бы ее с закрытыми глазами. Но цели своей он так и не достиг: в последний миг он каждый раз чувствовал вдруг такую слабость, что во весь опор гнал коня, боясь умереть в чужом дворе, как бездомная собака… И вот он снова тут – теперь уж воистину в последний раз! У него мало времени – прийти сюда еще раз он может и не успеть. Бегать взад-вперед ему уже поздно: он обязан немедленно получить все, что ему следует, и уплатить все, что должен сам, кровью смыть свои грехи, кровью очиститься от земной скверны и, родившись мужчиной, мужчиной же предстать перед всевышним! И вот он опять тут, под липами, – и довольно уж давно. Он глядит на звезды, и у него кружится голова; столько же раз, сколько в небе звезд, он уже вознес свою мольбу к аллаху: «Если тебе, боже, угодно, чтоб он пал от моей руки, сделай так, чтоб он проснулся и вышел…» А теперь он ждет: теперь пусть аллах решает сам, теперь оба они – и убийца, и выбранная им жертва – в руках аллаха. Теперь он и шагу отсюда не сделает до первого петуха; если этого захочет аллах, Георга выйдет из хлева до того, как пропоет петух. Выйдет, сердце чувствует, что выйдет, – и он к этому готов! Сейчас он исполняет не свою волю, а божью, и без колебаний исполнит ее как можно лучше и добросовестней. И вот… вот она, справедливость божья! Дверь хлева открывается, и из нее выходит он – причина и цель, сосуд жертвенной крови, агнец безвинный, уготованный в жертву богу вместо родного сына…
Георга проснулся неожиданно, чего-то испугавшись во сне. Ему снилось, что его кто-то ждет… ждет настолько давно, что сейчас было бы просто свинством выйти и объявить – извини, мол, я забыл, что ты меня ждешь! Следовало непременно придумать что-нибудь получше; но сознание словно застыло и ни малейшего подобия мысли в нем не зажигалось – поэтому-то он и проснулся с ощущением тревоги. Сунув ноги в шлепанцы, он выглянул из хлева и остановился как вкопанный – под липами действительно кто-то стоял! Его первым движением было вернуться в хлев: растерявшись от такого совпадения сна и яви, он не мог даже толком отличить их друг от друга. Но и времени на размышление не было: сон это был или явь, следовало все равно подойти к незнакомцу, попросить извинения и выяснить, кто он такой, чего хочет и почему так долго ждал, вместо того чтобы просто разбудить Георгу, для пробуждения которого достаточно было и стука воробьиного клюва. И Георга пошел к липам. Сделав шаг-другой, он вдруг узнал незнакомца – но вместо того, чтобы вскочить обратно в хлев и запереться на засов, лишь ускорил шаг. Незнакомец неподвижно стоял под липами, ожидая его. Кинжала Георга не заметил, но, ощутив острую, холодную боль в животе, не удивился и не испугался – чего-то в этом роде он бессознательно ждал с первого же взгляда на незнакомца. Боль повторилась резче и горячей, но на этот раз как бы уже вне его тела. Сразу вспотев, он, чтоб не упасть, обнял незнакомца, сунул лицо в ворот его овечьего тулупа– и вдруг голова его закружилась от удивительно знакомого, с детства родного запаха, такого забытого и в то же время такого незабываемого, что его сердце дрогнуло, и он сразу увидел отцовский дом, черную черкеску на стене, синий от яблоневых стволов двор и мать в огороде. Он почувствовал даже запах кориандра… кориандра того времени, кориандра своих детских лет! «Ты нас до сих пор не забыл… басурман ты наш!» – ласково сказал Георга убийце, словно давно потерянной и случайно нашедшейся собаке. Тот хотел что-то ответить, но не смог – лишь громко глотнул слюну. У Георги кружилась голова, все его тело ощущало какую-то одуряющую легкость; земля уходила у него из-под ног, и он все тесней прижимался к убийце. Жар потной шеи борчалинца был ему приятен – сейчас Георга как бы даже любил этого человека, принесшего ему смерть, святого и угрюмого, как ангел смерти. «Покончили с долгами!» – простонал Георга и тут лишь заметил, что борчалинец несет его на руках. «Куда-а ты?» – прохрипел он, сам уж не зная, к кому обращается – к убийце, к самому себе или к обоим вместе. Потом он сидел в хлеву на тахте… «В ту ночь я приезжал, чтоб увезти вас… увезти вас… увезти вас!» – трижды прошептал ему борчалинец, силой стаскивая его руки со своей шеи. Георгу знобило, к нему вернулось сознание. Он был уже один, беспредельно один, и это его удивило: он не понял, почему борчалинец не остался с ним до конца. Он прилег на тахту, но кровь пошла горлом, и ему пришлось приподняться. «Мама с горя помрет…» – мелькнуло у него в голове. Он бессмысленно пошарил рукой в темноте, но ничего, кроме сырой пустоты, там не оказалось. «Наши спят…» – внезапно подумал он и опять прилег– так медленно и осторожно, словно у него на животе сидел ребенок. Но лежал он недолго и снова присел – он чуть не захлебнулся кровью. «Зачем ты в меня из ружья стрелял?» – окликнул его выцарапанный на камне человечек. «Я? Неправда!» – обиделся он на несправедливый упрек. «Ты же был рядом с ним! Ты пытался остановить его?» – прищурил глаз человечек. «С меня взыщи, господи… за все взыщи с меня!» – пристыженно пробормотал умирающий. К его ногам натекла лужа крови; голени пробирала холодная дрожь. Он в третий раз прилег – но сейчас тяжести уже не почувствовал. В животе приятно жгло – что-то теплое, липкое, бесконечно медленно вытекало из его притихшего тела. «Вот тебе твой человек… или убей, или дай убить себя!» – крикнула вдруг ведьма Кекела из того угла хлева, где, по представлению Георги, должен был находиться осел. Потом он увидел Кекелу – он тут же узнал ее воспаленное веко; большим и указательным пальцами она, как веретено, вертела у себя на коленях изъеденную виноградную кисть. «Откуда здесь ведьма Кекела?» – удивился Георга. Ведьму Кекелу похоронили, когда он жил еще в отцовском доме; случайно оказавшись на ее похоронах, он запомнил их на всю жизнь – вероятно, из-за той горсти кутьи и глотка вина, которые он, давясь от отвращения, вынужден был проглотить над могилой ведьмы. Ведьма Кекела жила под лестницей приходской школы, и дети сквозь щели между ступеньками засыпали ее каморку хлебными крошками и песком или заливали ее водой до тех пор, пока Кекела, в отчаянии от их безжалостных проказ, не выскакивала из своей затхлой тьмы – как и полагается ведьме, вся нечесаная, грязная, в отрепьях! «Чтоб вам до моего возраста дожить… чтоб вам никогда не помереть!» – кричала она вспорхнувшей, как птичья стайка, детворе, вытряхивая из волос застрявшие в них крошки и песчинки. Георга ведьму Кекелу никогда не дразнил, но почему-то очень ее боялся. Один глаз ведьмы казался вывернутым наизнанку– ее вечно мокрое, воспаленное веко блестело, как подкладка красного атласа. Деревня похоронила ее из милости и, конечно, без особого огорчения; двое мужчин несли ее гроб, как старую, выбрасываемую в овраг тахту. Это Георге тоже запомнилось – никогда до этого, да и после этого тоже, он не видел, чтобы гроб несли вдвоем. Кекеле, впрочем, большего и не требовалось– она была такая маленькая и ссохшаяся, что в сильный ветер и на улицу выйти боялась. За гробом шла только жена могильщика; она несла завернутые в газету свечи, бутылку вина и тарелку кутьи. На кутье сидела большая, сверкающе-синяя муха. На некотором расстоянии за этой странной процессией шел и Георга. Засыпав могилу, участники похорон заметили, что он подглядывает из-за тернового куста. Он был уверен, что его выгонят и обругают: тебе-то, мол, что до этой ведьмы? Его изумило, что вместо этого его подозвали постоять вместе с ними у еще сырого могильного холмика и заставили проглотить горстку кутьи и глоток вина прямо из горлышка – ему объяснили, что это дар покойнице и милость божья. От темной кисловато-горькой жидкости его чуть не вырвало: ему показалось, что он проглотил и сверкающе-синюю муху, сидевшую на кутье давеча. Кутья застряла во рту, ее хотелось выплюнуть, но сделать этого он не посмел, постеснялся. Это было настоящее мучение – но он стоял и терпел! «Ты доживи до ее возраста…» – погладила его по потным волосам жена могильщика. «Отмучилась, бедняга!» – сказал могильщик, выливая на могильный холмик остаток вина из бутылки. «Доктор, доктор, тебя мальчик ждет… вон, у Макабели. Убили его, кажется!» – крикнула ведьма Кекела. «Плохи твои дела, Георга…» – сказал доктор Джандиери с ласковой, лучезарной улыбкой. «Узнал, значит!» – обрадовался Георга. Ему вспомнился день, когда он впервые увидел доктора Джандиери. Вся веранда дома была завешана сорочками и простынями Бабуцы; въехавшая во двор двуколка остановилась под липами, и доктор медленно, не торопясь сошел с нее. «Ну, как там твой виноградник?»– спросил он Георгу, улыбаясь именно так, как сейчас. Потом он вдруг помрачнел, покачал головой. «Плохи дела…» – сказал он и направился ко входу в дом. Запряженная в двуколку лошадь нюхала землю, лениво помахивая сверкающим серебристым хвостом. «Вот он! Или убей, или дай убить себя!» – крикнула ведьма Кекела и завертелась на месте. Из-под ее развевающейся юбки показались худые, увядшие голени, на миг напомнившие ему девочку, с которой он разговаривал во время венчания матери. «Молчи, ведьма!» – с ласковой улыбкой закричал доктор Джандиери, и Георга тоже улыбнулся. «Я, доктор, немного хочу…» – начал он, осмелев, и тут же запнулся, поняв вдруг, что на земле ему делать уже нечего. Все, что ему было поручено, он исполнил, и сейчас, даже если бы доктор его вправду спас, Георга и сам не знал бы, сколько еще и зачем ему жить. «Плохи твои дела, Георга… из рук вон плохи!» – сказал доктор Джандиери. «Ради мамы… для мамы…» – снова нерешительно начал Георга. Сказав «мама», он вспомнил вдруг мертвого отца и сразу же почувствовал какую-то неясную, но поразительную, потрясшую его с ног до головы надежду. И доктор, и ведьма исчезли; он снова был один, беспредельно один – откинувшийся на тахту, с вываливающимися кишками, с ногами в луже крови! Он не слышал уже, как беспокоился в своем темном углу осел, напуганный вошедшей в хлев человеческой смертью. «Отец! – еле слышно прошептал Георга. – Домой хочу… где-е ты?» – простонал он, закатывая глаза. Почти тотчас же на его вспоротый живот слетел разбуженный петух; больно вонзив в него сильные, острые шпоры, он искоса поглядел на Георгу своим одеревеневшим глазом, сжался, взъерошился и изо всех сил кукарекнул прямо ему в лицо. Георга был уже мертв.

«Спасся… еще раз спасся!» – думал на следующий день Кайхосро. И все-таки считать себя спасенным окончательно он не мог – убийство Георги вовсе не означало, что убийца им ограничится. Поэтому оно лишь пробудило старые страхи Кайхосро, еще раз убедило его в том, что жизнь его все это время висела на волоске. Он стоял во дворе и, терзаясь от страха, глядел на дверь хлева. На него жаль было смотреть! Издали он еще мог бы показаться скорбящим – в действительности же это был самый истинный, самый настоящий страх, нагло и смело разросшийся по всему его телу, выпустивший толстые, колючие листья, словно попавший на кучу навоза сорняк! Из хлева вышел отец Зосиме.
– Ну что там, батюшка? – умоляюще спросил его Кайхосро.
– Одевается! – коротко ответил священник.