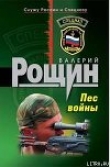Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 30 страниц)
А оставшаяся за оградой жизнь шла дальше, шла своим чередом, и судьба девочки, превратившейся из-за ее грубости и слепоты в мертвую куклу, ничуть ее не печалила. Все так же текла, катилась по своему бескрайнему руслу медленная серая река. Один брат куклы по-прежнему бряцал кандалами в своей ледяной темнице; а другой, отвергший отца и деда, назло им обоим, строил возле преобразованного в больницу монастыря собственный дом – строил, не щадя ни себя, ни обоих людей, с которыми он (опять-таки назло отцу и деду!) связал свою судьбу. Все трое трудились как волы. Александр рыл яму под фундамент, а Маро и ее отец в больших плетеных корзинах таскали из оврага камни.
– Он сумасшедший… чтоб мне с места не сойти! – говорила отцу Маро.
– Еще бы! – отвечал ей грязный от пыли старик, едва ступая под тяжестью корзины.
Таская камни и днем и ночью, отец с дочерью уже ненавидели, как смерть, это вечно прохладное, вечно журчащее ущелье, по дну которого текла разветвленная на четыре рукава речушка. Четыре голеньких сестрицы без конца лопотали на своем непонятном людям языке что-то очень интересное и смешное. Время от времени из кустов взлетала сорока, и ее хохот долго разносился по всему ущелью. Но отец с дочерью не обращали внимания ни на плеск ручьев, ни на хохот сорок, как не обращают внимания на насмешку и вызов слабые, трусливые дети; угрюмые от злости и усталости, с лицами, набухшими, как воспаленные нарывы, они молча шли по дну ущелья, сгибаясь под тяжестью корзин с камнями. Они знали, что, достигнув цели, должны будут возвращаться назад, и черт знает сколько раз еще – пока, видимо, не свалятся совсем у ног этого помешанного, единственная рука которого орудовала лопатой так ловко, что это рождало в людях уже не удивление и восторг, а просто страх! Еще трудней было ходить по ущелью в темноте – они без конца спотыкались на невидимых буграх или, оступившись, шлепали по воде. К тому же ночью им было страшно. В приглушенных, непонятных, вместе с ними похороненных в темноте звуках им чудилось бог весть что…
– Тебе, дочка, не страшно, а? – нарочито громко спрашивал гробовщик, сам напуганный, пожалуй, еще сильней, чем Маро. – Кому мы с тобой нужны? Нас тут не видно – не то мы с тобой и самого черта напугали бы, – притворно смеялся он, чтоб некто несуществующий, живущий лишь в его воображении, не подстерегал их, понял, что о них и рук марать не стоит… понял заранее, еще и не приблизившись к ним.
– Чтоб мне с места не сойти… чем я хуже других? – сказала в один прекрасный день Маро, едва освободившись от корзины и стряхивая свою косынку. Ее отец, от пыли белый, как мельник, тяжело дышал, сидя у груды натасканных им камней и даже не сняв еще со спины собственную полную до краев корзину. – Чтоб мне с места не сойти! – раздраженно повторила Маро. Стоявший в яме Александр копал, и к поднявшемуся рядом с ним холмику без конца прибавлялась свежая, еще прохладная и черная земля. – Я тебе говорю! Чем я хуже других… почему ты меня в ослицу превратил? – крикнула Маро в яму.
– Не заставляй меня вылезать! – сказал Александр, не поднимая головы.
– Да чем я хуже твоей сестры? – не отставала Маро. – Мы-то тоже кое-что знаем… – Она взглянула на отца, как бы призывая его в свидетели.
Старик сидел все так же неподвижно, словно привязанный к груде камней. Его глаза, глядевшие на дочь снизу, казались совсем пустыми, но едва заметная тень страха в них все-таки кружилась, словно летучая мышь в пустой церкви. На его белых от пыли губах виднелся влажный след языка; с грязных, лохматых волос стекали ручейки пота.
– Что? Что ты знаешь? – крикнул Александр. Он перестал копать, но на Маро и не взглянул. Слегка согнувшись, он уставился на дно ямы, словно обнаружил там горшок, полный золота, и, глядя на него, все еще не верил своим глазам.
– Что знаю, то и знаю… то, что все говорят! – сказала Маро, вытирая шею и затылок своей старенькой косынкой.
– Что все говорят, дура? – повернулся к ней вышедший из терпения Александр.
– Да не слушай ты ее… сам ведь знаешь: дура! – сказал ему гробовщик. – Сколько раз тебе говорил – держи язык за зубами! – крикнул он дочери. От усталости он даже поленился или не сообразил снять со спины корзину.
– Не я, так другой скажет! – воскликнула Маро. – Потом еще сам придерется – почему-де от меня скрыли! Чтоб мне с места не сойти…
Александр вылез из ямы – дурное предчувствие подкинуло, выбросило его из нее, как лопата камень. Он с недоброй усмешкой глядел то на Маро, то на старика, но, помалкивая сам, не заставлял говорить и их, словно чувствуя, что не готов выслушать то, что ему придется слушать, что уже вертится на языке у его верной подруги. Вот-вот она откроет свою уродливую пасть, и тогда будет поздно – никакая в мире сила не остановит уже желчи и яда, готовых вылиться из темных глубин души Маро! Александр даже не мог зажать себе обоих ушей – одной руки для этого было мало. «Может, и вправду заткнуть ей глотку… вырвать ей язык до того, как она заговорит?» – быстро, лихорадочно думал он, подобно человеку, попавшему в беду и имеющему считанные секунды на размышление. «Это потому, что я боюсь! Я трус… добряк и трус!» – нарочно взвинтил он себя.
– Что ты, кроме гадости, сказать можешь? Говори уж, кончай – кого еще вы с отцом на тот свет отправить решили… кого еще грязью забросать хотите? – сказал Александр, все так же усмехаясь и напряженно прислушиваясь к собственному голосу, стремясь, чтоб голос не выдал его страха и волнения.
– Слышишь, отец? – повернула голову Маро. – Мы, выходит, еще и людей грязью забрасываем! Да как ты нас ругать можешь, ежели у тебя сестра такая? – вновь обратилась она к Александру. – Выйди на дорогу: про нее тебе каждый скажет! Всю Цнори, говорят, ублаготворила… чтоб мне с ме… – Она не закончила фразы: кулак Александра ударил ее по зубам, как тупой конец оглобли.
Маро упала как подкошенная. «Врешь! Врешь! Врешь!» – кричал над ней Александр. Теперь он бил ее ногами, ногами заталкивал ее в зияющую яму, из которой только что вылез сам.
– Мы-то чем виноваты? За что ты нас бьешь? Чем мы провинились? – кричал гробовщик, колотя по груди своими маленькими кулачками. Ничего другого он сделать не мог – до краев полная корзина с камнями по-прежнему висела у него на спине. Он с трудом встал на ноги, но подойти к разъяренному Александру все-таки побаивался.
Маро упала в яму. «Ложь, ложь, ложь!» – кричал Александр, в бешенстве засыпая ее землей – ногами, потому что лопата находилась на дне ямы. Он ногами сыпал землю на свою верную подругу, словно хотел скрыть ее от мира, как лисица собственное дерьмо! Маро молча лежала на дне ямы, как маленький зверек, спасшийся в своей норе от крупного хищника. Возможно, она и радовалась сыпавшейся на нее земле, понимала, что лишь толстый слой земли может хорошо, надежно укрыть ее от этого человека!
Потом Александр шагал по дороге к отцовскому дому, и в нем как бы сливались воедино оба жаждущих мести библейских брата – и Симеон и Левий, с обнаженными мечами в руках стремящиеся к городу, который обесчестил их сестру…
Аннета сидела под липами и слушала голос инженера-путейца. Ее ноги были укутаны пледом. Дуса вынесла во двор стул и для инженера; заодно она прихватила полную тарелку конфет собственного изготовления. (После замужества она сластями, конечно, уж не торговала, но все-таки продолжала делать их для семьи, как другие домохозяйки – варенья и соленья.) Тарелка стояла на стуле, предназначенном для инженера, а сам он стоял, облокотившись о спинку стула. Дуса наблюдала за уединившейся в тени лип парой из окна своей комнаты, укрывшись за занавеской и затаив дыхание от любопытства. Голоса инженера не было слышно, – казалось, какая-то злая волшебница, превратив влюбленных в каменные изваяния, выставила их во дворе Макабели в назидание молодежи.
– Мы с тобой в Тбилиси поедем… к моей тете. Полечим тебя. Все будет хорошо, вот увидишь. Только… только прости меня! Я же не знал… – говорил инженер-путеец.
«Мито, Мито, Мито…» – твердила про себя Аннета, улыбаясь, как улыбается своей мечте человек, заранее уверенный, что она так и останется мечтой, никогда не осуществится, настолько она недосягаема и сумасбродна. И все же ему – возможно, именно поэтому – особенно приятно находиться в ее власти, как бы стремясь понять, где же пределы этой чарующей, бестелесной, легкомысленной хвастуньи мечты…
– Я тебя люблю, слышишь? Не жалею, а именно люблю! – говорил путевой инженер.
«Вот, оказывается, в чем мой крест…»– думал он. Он с детства знал, что каждый человек несет свой крест, чтобы в конце концов подняться на свою собственную, предназначенную ему одному Голгофу и там или навсегда исчезнуть, или начать вторую жизнь, заслуживаемую лишь делами первой и принадлежащую уже другим людям. Об этом он знал от своего отца, это ему всю жизнь внушал его отец, но до самой его смерти Мито не знал, какой же крест нес сам отец и обрел ли он право на вторую, полезную людям жизнь. Отец Мито был мелким канцелярским служащим, всю жизнь переписывавшим набело прошения и жалобы, и его голова была забита параграфами приказов и протоколов. Родственники и знакомые считали его неудачником, человеком никчемным. Это Мито тоже знал с самого детства, знал и мучился, ибо отца он обожал, но хвастаться им, как другие гимназисты своими отцами, не мог! На первый взгляд семья их была вполне обычной: некогда богатая и знатная, она если не превосходила, то и не уступала никакой другой в родовитости; но, в то время как в других семьях не смолкал гомон веселящихся гостей, человеком, впервые попавшим в дом родителей Мито, сразу овладевало острое ощущение беды, предстоящей, а может, и уж перенесенной. Так, во всяком случае, казалось самому Мито – ощущением этим сам он был охвачен больше всех. Ясно ему было и то, что избавить его от этого ощущения родители бессильны, что они плывут по течению жизни с ужасающей покорностью людей напуганных, целиком покорившихся судьбе. Вместо того чтобы что-то предпринять – скажем, просить помощи у многочисленных и влиятельных родственников, они без раздумий и сожалений продавали все, что могли, чтоб не отказывать сыну ни в чем, чтоб дать и ему возможность учиться в гимназии для благородных, ни на шаг не отставать от своих сверстников и товарищей. Мито знал, во что обходится родителям его учеба, какую цену они платят за то, чтоб и он считался человеком; поэтому учился он всегда напористо, самоотверженно, день и ночь глотая книжную пыль, – не только чтоб знать больше всех, больше всех преуспеть в жизни, но чтоб и понять причину несчастья семьи и вовремя постигнуть, какой крест сужден ему самому и на какую Голгофу ему придется этот крест нести. «Не ненавидь никого, сынок: ненависть тебя погубит», – говорила ему мать, словно догадываясь, что ребенок, выросший в этой семье, будет расположен скорей к ненависти, чем к любви. «Каждое дело полезно людям, если ты служишь ему с любовью и добросовестно», – говорил отец, пальцы которого были в волдырях от бессмысленного, бесполезного труда! Другие чиновники, моложе его, писали прошения и извещения куда быстрей, но у него был красивый почерк– за это, видимо, его и держали на службе. Вернувшись из своей канцелярии домой, он опять садился за стол и писал. На улице он почти не бывал, изредка только выходил на рынок или в лавку, чтобы пополнить свой запас бумаги. Что именно он без конца пишет, не было известно никому. Жене он с улыбкой говорил, что это его дело, что он просто развлекается, и она его никогда не упрекала, хотя в то время, пока он «просто развлекался», все их родственники неуклонно поднимались по жизненной лестнице, получали награды, добивались все большего влияния и уважения к себе! А он писал: не подымая головы, усердно и упрямо заполняя страницу за страницей, до тех пор, пока за окном не начинало белеть; тогда он запирал написанное в ящик стола, мельком взглянув на икону, поспешно крестился, гасил свет и ложился, чтоб несколько часов спустя уж опять сидеть за столом в канцелярии и своим изящным почерком без конца добросовестно переписывать всевозможные приказы и протоколы…
– То, что ты делаешь, тоже полезное дело? – не выдержал как-то Мито.
Сказав это, он тут же раскаялся: этим он лишь умножил свои мучения. Его вопрос застиг отца врасплох – рука, державшая перо, едва заметно вздрогнула. Но он ничего не ответил и, робко, виновато улыбнувшись сыну, продолжал писать.
Потом Мито уехал в Одессу и снова погрузился в книги; в серых университетских стенах потекли его однообразные и полуголодные студенческие годы. «Ничего не присылайте! У меня тут всего вдоволь; позаботьтесь о себе…» – писал он родителям. Иногда перед сном он с ужасом думал о том, каким бременем стал он для своей небогатой семьи, и его сердце сжималось от ярости и досады. И лишь после смерти родителей он узнал, какой крест нес его отец, этот тихий, незаметный человек, пальцы которого всю жизнь были выпачканы чернилами, как у школьника, и которого избегали все, даже близкие родственники. Вернувшись из Одессы, дрожащей от волнения рукой отперев стол и вынув оттуда отцовскую рукопись, он сначала раскрыл рот от изумления; потом изящество, чистота, соразмерность письма глубоко его взволновали, и он долго стоял у отцовского стола, держа в одной руке печатное издание «Калилы и Димны», а в другой – тот же текст, переписанный рукой отца.
Сейчас, стоя под липами Макабели, он почему-то вновь увидал отцовскую рукопись: эта растоптанная грубой страстью, униженная, парализованная маленькая девочка была чем-то схожа с грузинскими буквами, выведенными изящным почерком отца. Да, ясное дело чем: простотой, легкостью, светом! И он уже твердо знал, что эта девочка, с ногами, закутанными в плед, со смущенной, примирительной улыбкой, и есть его крест. Если он не мог помочь ей ничем другим, то нужно было хоть посадить ее в кресло на колесиках и вместе с ней идти к предназначенной ему одному Голгофе. Это-то он был обязан; если уж он не смог уберечь ее, то теперь ее нельзя было оставлять одну! О ней нужно было заботиться, печься, как пекся его отец о грузинской каллиграфии, никого на свете, кроме него, не интересовавшей!
– Не сумел я спасти ни деревьев, ни… – начал было Мито. Он хотел сказать «ни тебя», но именно в этот момент увидал направлявшегося к ним Александра.
Дуса заметила его последней, невольно взглянув на ворота, к которым вдруг повернулся инженер-путеец, и, хотя видеть Александра ей раньше не доводилось, своего старшего пасынка она узнала сразу.
– А это, вероятно, Александр… – сказал Мито.
– Я-то Александр, а вот ты кто таков? Что ты тут делаешь? – крикнул Александр на ходу и своей единственной рукой отодвинул его с дороги, словно, умирая от жажды, стремился к озеру и раздвигал рукой камыши, чтоб увидеть воду. В тот же миг он увидел свое отражение в глазах сестры – долговязый, злой, хмурый…
– Кто это? Правда то, что о тебе болтают? – крикнул он в эти глаза, засветившиеся радостью при виде брата.
Глаза Аннеты подернулись туманом, как замутненное дыханием стекло. Потом все смешалось – он и сам не заметил, как схватил ее за воротник. Нагое плечо сестры брызнуло ему в лицо, как студеная вода, – на мгновение отрезвев, он еще больше ужаснулся собственному поступку. Плечо Аннеты было таким слабым, таким нежным и чистым, что к горлу Александра подступил колючий комок. Ее разорванный воротник висел на груди безжизненно, как крыло убитой птицы…
Глаза Аннеты и вправду помутились, затуманились, и она долго ничего не видела. Когда же к ней вернулось зрение, стул, на котором стояла тарелка с конфетами, валялся на земле точь-в-точь как утром после смерти Агатии, весь двор был усыпан конфетами, а из носа Александра текла кровь. Единственным человеком, увидевшим разразившуюся под липами бурю до конца, со всеми подробностями, была Дуса. Она была так поглощена зрелищем, что лишь потом заметила, как все ее тело дрожит от перенесенного напряжения, как она, словно напуганная кошка, цепляется в готовую уж вот-вот оборваться штору.
14
Шесть месяцев спустя Александр находился на таком расстоянии от родных мест, которого до этого и в мыслях себе представить не мог бы! Забраться сюда он не решился бы, наверно, и в мыслях, если б не инженер-путеец (правда, и о том, что он инженер-путеец, Александр узнал поздней, успокоившись, когда хлынувшая из носу кровь очистила ему разум, вернула ему способность соображать). Инженер-путеец, заступник его сестры, этой забытой братьями девочки, одним ударом кулака вдребезги разбил скорлупу зависти и желчи, тщеславия и эгоизма Александра – и Александр сразу многое понял. Настолько ли он, в самом деле, интересовался сестрой прежде, чтоб так волноваться, так петушиться теперь? Да и теперь ведь собственное оскорбленное тщеславие волновало его больше, чем само несчастье сестры! Инженер-путеец намекнул ему и на это… не намекнул даже, а прямо кулаком в нос вбил; а кулак у него был дай бог какой крепкий и беспощадный, и орудовал он им весьма умело. «Это мы у нее прощения просить должны… если только она сможет простить нас!» – сказал ему инженер-путеец. «Скажи мне хоть: кто он такой?» – умолял его Александр; но инженер-путеец засмеялся, как смеются детской глупости, и указал рукой на него самого. «Заброшенной церковью непременно завладеет черт, но ни она, ни он в этом не виноваты. Виноваты те, кто покинул церковь: ты сам, твой отец, твой брат… и я вместе с вами, если угодно!» – сказал инженер-путеец. Это было шесть месяцев назад, во дворе родного дома, под липами. Кровь, вытекшая из носа Александра, медленно присыхала к губам и подбородку. Какая-то незнакомая женщина («Жена отца!» – догадался Александр) принесла из дому воды и полотенце. В одной руке у нее был медный кувшин, в другой полотенце; и она растерянно, испуганно глядела на него. Александр мысленно улыбнулся, что-то смутно вспомнив… не он даже, а его вытекшая из носу кровь сама помнила какое-то отдаленное подобие этой сцены: вынужденную доброту, вынужденную заботу, ничего, кроме жалости и презрения не вызывавшие. Это было тоже шесть месяцев назад. Теперь же время и пространство Александра измерялись другим аршином: не человеческим, а бесовским. Он шел и чувствовал, что идет, уставал и чувствовал, что устает, – но расстояние не убывало, и он не был уверен даже в том, когда спал, а когда бодрствовал. В небе нельзя было различить ни рассвета, ни сумерек: оно всегда было одинаково серым, низким, непроницаемым; и деревни, и города тоже походили друг на друга как две капли воды, словно за одним и тем же городом все время следовала одна и та же деревня, или наоборот. И встречавшиеся ему люди были, казалось, одними и теми же – одинаково недоверчивыми, одинаково простодушными; пустой рукав тулупа они везде, куда б он ни вошел, ощупывали так, будто никогда в жизни не видели одноруких. И Александр повторял всем одно и то же: «Тюмень… каторга… брат» – но он понял уже, что из этого заколдованного круга ему не вырваться никогда. «Почему ты убил моего мужа? Взгляни-ка на меня… можно такой женщине, как я, вдоветь?» – слышался Александру женский голос: не упрекающий, а теплый, ласковый! На женщине была белая безрукавка и длинная юбка с оборками; на красных до локтя руках, шипя, высыхала мыльная пена. «Да не слушай ты ее… и сама ведь не знает, что лопочет. Глупая баба…» – говорил ему мужчина за пустым столом, скучающий от безделья, раздраженный, запертый в доме из-за бесконечного, непроходимого снега, и все-таки скорей напуганный, чем обрадованный, испытывающий скорей недоверие, чем интерес к незнакомому человеку. Он был в пестрой ситцевой рубахе навыпуск, и кисти его натруженных рук лежали на столе, словно разрезанная точно пополам буханка хлеба. Откуда и куда идет, кого ищет случайно забредший в его избу путник, ему было совершенно безразлично. У него была своя беда – прочная, неподвижная, нерушимая; и он таился в ней, как таились под нахмуренными бровями его водянистые глаза. Пришельцу предстояло уйти, а ему остаться. У пришельца не было крова, поэтому он и беспокоил добрых людей; а ему было некуда идти, поэтому он и сидел в собственной избе. Болтовня и излишняя откровенность были бессмысленны – от них ни беда путника, ни его собственная ничуть не убавились бы. Путник не мог ни оставить свою беду в этой избе вместе с серебряным целковым, ни унести с собой, как печное тепло, как вкус воды и хлеба, беду хозяев; ему предстояло уйти так же, как он пришел, а хозяину – остаться на месте и по-прежнему ждать, пока земля не скинет своего снежного покрова, не подпустит его к себе, не позволит ему еще раз зачать в ее теплых, дымящихся бороздах собственное существование: хлеб, воду и огонь еще на одну зиму. «Кто тебе руку отрубил? Швед? Немец? Француз? Турок?» – кричали Александру примостившиеся на огромной печи ребятишки; но сидевший за пустым столом мужчина снова его выручал. «Ты их не слушай… они дети, глупые! – говорил он Александру. – Молчите, бесенята, не то сейчас же всех на мороз выгоню…» – кричал он детям. И Александр не помнил уж, где, когда, в какой избе видел он эту женщину с красными до локтей от стирки руками, этого хмурого мужчину в пестрой рубахе, глядевшего во время разговора или в сторону, или на собственные руки, этих нахохлившихся, как воробьи, детей на огромной печи. В каждой избе были точно такая же женщина, точно такой же мужчина, точно такая же печь – или же Александр, навек заблудившись, попав в руки беса, каждый раз входил в одну и ту же избу, все вновь и вновь возникавшую перед ним из снега. Инженер-путеец его, правда, предупреждал, что дорога у него будет длинная и трудная; но эта дорога была не длинной, не трудной – она не существовала вообще, она нигде не начиналась и нигде не кончалась, а лишь насмехалась и дурачила! Впереди было одно и то же пространство без горизонта, без надежды; но Александр верил, что где-то в его глубине он найдет брата, и именно это гнало его вперед. как голодного волка, именно это заставляло его еще и еще раз выкарабкиваться из снежной ямы для того, чтоб тут же по пояс провалиться в следующую. Пустой, задубевший от мороза рукав тулупа торчал, как ветка, как указатель пути, словно обрубок руки знал, где найти свое продолжение, и страстно, нетерпеливо, как бы надеясь вновь превратиться в руку, тянул Александра именно туда, вперед. И это – тоже благодаря инженеру-путейцу! Инженер-путеец сказал ему, что правая рука должна знать, что делает левая, а когда Александр невольно отодвинул от него свой обрубок, продолжал: «Я брата твоего имею в виду… твой брат – это и есть твоя вторая рука!» И Александр двигался волчьей трусцой, как если б действительно набрел на след брата, действительно почуял запах брата. В этой невообразимо чужой стране было что-то и в самом деле волнующе знакомое, близкое – ощущение это долго терзало и мучило Александра, прежде чем, дойдя до сознания, обретя четкость, не залило наконец всего его окоченевшего существа потоком облегчающей мысли: здесь прошел мой брат. «Здесь прошел мой брат!» – думал Александр. У него звенело в ушах, в глазах стоял туман – но он шел вперед. Все вокруг упрямо, стойко молчало: и одинаковой высоты деревья, и шершавый, синеватый снег, и затвердевший, как стекло, воздух. Когда-то тут шел и Нико – по этому снегу, сквозь этот воздух, вдоль этого леса; но ни снег, ни воздух, ни лес этого, конечно, не знали. Для них все люди в кандалах были одинаковы… все люди, которые не сумели пользоваться благами лучшего мира и, сжавшись, понурив головы, входили сюда, в их обиталище, словно в царство вечного покоя; ибо идущих вперед эти снег, воздух и лес видели много, а возвращающихся назад ни одного! А может, увидав Александра, природа смолкла от изумления? Он шел без кандалов, его никто не гнал; по этой дороге в одну сторону он шел один, сам по себе, не шел даже, а мчался, добровольно расставшись с лучшим миром, как самоубийца с жизнью, «Здесь прошел мой брат!»– крикнул Александр застывшему лесу. Сорвавшийся с влажной ветки ком снега глухо упал в большой снег, погрузился в него, как бы испугавшись высоты и от испуга бросившись в объятия матери. Откуда-то взлетела ворона; она долго, медленно, нехотя летела вдоль лесной опушки, словно воздух не пускал ее вперед, но она-то этого, наверно, не замечала, думала, что улетела черт те как далеко. В таком же положении был и Александр. Он тоже шел без конца, но дорога не кончалась, даже не менялась, и ничто не доказывало, что он действительно идет, а не вертится на месте. И он был так же мал и ничтожен, как ворона; и он не мог, двигайся он как угодно долго, хоть что-то изменить в этом бескрайнем просторе, оставить в нем хоть какой-то след. Ворона летела, а он шел – никакой другой разницы между ними не было. Зато он менялся сам: растерявшись от глухоты и равнодушия природы, он с каждым днем все больше утрачивал веру в себя, в свое превосходство даже над вороной! «Может, он меня одурачил? Может, он от меня избавился, чтоб остаться с ней вдвоем?» – мелькало в его голове болезненное сомнение; и он испуганно оглядывался назад, точно сомнение это шло за ним по пятам – неслышно, коварно, как шакал за больной, околевающей лошадью, которую хозяин, не желая убивать сам, выгнал подыхать в лесные дебри. Он твердо знал, что инженер-путеец никакого недоверия не заслуживает; но его усталый, отчаявшийся мозг слепо, наугад искал виновных помимо себя, звериным инстинктом чувствуя, что признать свое бессилие для него было бы еще губительней, чем допустить существование других, посторонних виновников его нынешнего положения. Он нуждался в недруге – для того, чтоб назло ему выбраться, не сдаться этому бесконечному оцепенению и дремоте! «Куда ж ты идешь? Ты все еще не понял, что тебя надули? Ляг, и все кончится! Разбудит тебя кто-нибудь, что ли?» – кричало ему его сомнение. А ворона медленно, вяло летела вдоль леса – и так же медленно, вяло ползла по снегу ее бледная тень. Он шагал между вороной и ее тенью; впереди него торчал пустой, похожий на трубу жестяной печки рукав тулупа. «Не такой уж я холодный, как ты воображаешь! Иди ко мне, отдохни…» – говорил ему снег голосом женщины в избе. Снег был чист и порист, как мыльная пена; мыльной пеной была полна до краев и лохань, стоявшая на табуретке перед женщиной. Ее руки были по локоть погружены в пену, а упавшие волосы прикрывали лицо; видны были лишь лукаво улыбавшиеся губы – узнает, мол, он меня или не узнает. У Александра сильно билось сердце. Потом женщину вместе с тазиком что-то подхватило, как кусок картона ветром, и в лицо Александру ударил твердый, горячий воздух. «Почему ты рвешь мне платье при посторонних?» – спросила женщина, упершись локтями в плечи Александра и целуя его в губы: горячо, долго, не по-сестрински! Поцелуй этот он чувствовал, а тело женщины – нет; но чувствовал он и то, что его воспаленный мозг ввергает его в смертный грех, подсовывая сейчас вовсе не привидевшуюся ему только что женщину над лоханью – беззлобно-печальную, наивно-веселую, беспричинно бодрую обитательницу всех изб, вдову всех войн, как бы начинающую и заканчивающую собой весь мир и поэтому простую и заметную, как пограничный столб между бытием и небытием! Мотнув головой, как лошадь, Александр с трудом отогнал от глаз воображаемый поцелуй, воображаемый, но непростительный грех. Потом он сидел в снегу и растирал лицо снегом, чтоб окончательно изгнать из воспаленного мозга это опасное видение – выглянувшую из-под разорванного платья наготу сестры. «Не встану… ни за что не встану!» – заупрямился он перед кем-то. Ворона несколько раз каркнула; она по-прежнему летела вдоль леса, а ее тень барахталась в снегу возле Александра. «Ты прав! – сказало ему притаившееся рядом с ним, глядевшее на него ожидающими, нетерпеливыми глазами сомнение. – Тянуться уж не стоит. Хочешь сделать доброе дело – похорони себя тут же, вместе со всеми своими грехами! Если, конечно, им тут хватит места… – ухмыльнулось оно. – Обманывай кого хочешь, меня ты не проведешь, я-то знаю, как ты грязен! Да как ты брату в глаза посмотришь?» – «И сам не знаю… и сам не знаю!»– сказал Александр. «Поэтому-то от тебя и избавились… – еще ближе придвинулось к нему сомнение. – От тебя избавились, слышишь? Тебя просто убрали от греха подальше. Тебя испугались… на миротворца ты что-то не похож! Чтобы творить добро, одного твоего желания мало! Добро должно быть таким же врожденным, как зло и уродство, заложенные в тебе с самого начала…» – «Почему? Почему? Почему именно я такой?» – крикнул Александр снегу. «Почему, говоришь? – снова ухмыльнулось сомнение. – Сказать тебе правду? – Александр опять растер лицо снегом; маленькие, блестящие сосульки примерзли к бровям. – Таким ты сделал себя сам! У тебя не хватило духу и родного брата простить, ты его из сердца вырвал, ты от него отрекся за то только, что ваша общая глупость тебе руки стоила, а ему и бровей не опалила. А ты, вместо того чтоб этому обрадоваться, озлобился… желчь залила тебе душу, одурила тебя, сожгла все, что у тебя было самого святого, дорогого: и могилу матери, и имя сестры, и, прежде всего, любовь к брату! Что, не так? Сознайся… покайся хоть сейчас! Так близко к богу, так наедине с ним ты, должно быть, не будешь уж никогда… Ну-ка, взгляни вокруг себя. Так. Еще раз. Еще раз! Убедился? Вы с богом наедине. Ты – и ничего больше! Или бог – и ничего больше…» «Мы с вороной одни на свете, – подумал Александр. – Но и мы не существуем друг для друга. Я – и ничего больше. Или ворона – и ничего больше… Интересно, она летит все-таки или просто так в воздухе висит?»
Ворона медленно, нехотя летела вдоль застывшей лесной опушки, а несколькими километрами дальше Тедо Схирели и Евгений Микадзе распиливали толстое мерзлое бревно, лишь кое-где покрытое остатками гнилой, затвердевшей от мороза коры. Пила выла, хрипела, прогибалась; под бревном постепенно рос холмик сырых и все-таки золотистых опилок.
– Пойдем погреемся… а то и сами не заметим, как у нас носы отвалятся, – сказал Евгений.
– Да мы ведь только вышли! – возразил ему Тедо.
Скрытая за холмом снега изба была в двух шагах от них – над ней застыл серый, как туча, дымок. Человек наблюдательный заметил бы вокруг, подальше, еще несколько таких же дымков, единственное доказательство существования потонувших в снегу изб, иначе местность казалась бы вообще необитаемой. В избе было тепло. На печи лежал Ладо Тугуши. Он плохо себя чувствовал, – впрочем, заболеть он больше боялся, чем был болен на самом деле. Маленькая девочка стояла на коленях на стуле и, прижавшись животом к столу, рисовала на пожелтевшей бумаге цветы и птиц. Ей было шесть лет. Звали ее Мартой.