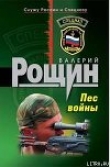Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
11
Листва потемнела; просохшая и затвердевшая дорога опять покрылась слоем теплой, мягкой пыли; дома вновь скрылись в затененных дворах. Воздух стал душистым и загустел; в нем лениво летали жужжащие пчелы. Доносившиеся со двора, смягченные густой зеленью голоса звучали в полутемных комнатах как-то особенно загадочно и волнующе. Все щели между ветвями были залиты солнцем, и целиком разглядеть сквозь листву прошедшую по дороге корову или лошадь было невозможно. «А может, это и не корова? И не лошадь?» – вертелось в ее измученной голове. Сомнение это было, правда, не вполне искренним, придуманным скорей, чтоб как-нибудь убить время; и все-таки у него были свои причины: мечта и страх, бессилие и желание! Такой растерянности и тревоги она не испытывала еще никогда в жизни. Теперь она ежедневно с нетерпением ждала ночи и крика филина: как это свойственно девушкам ее возраста (этой весной ей исполнилось пятнадцать), она страстно, взволнованно мечтала о смерти; но ей не верилось, что смерть действительно пляшет под дудку Агатии и филина. Филин появился этой же весной; усевшись на липу во дворе Макабели, он вопил всегда так неожиданно, что у Агатии от страха отнимались руки.
– Своих хорони, окаянный, – ворчала Агатия, поспешно крестясь…
А ей хотелось умереть! Лишь смерть могла сразу освободить ее от печали, которую она ощущала всем телом, точно чужую, сношенную другими, пропитанную чужим потом и запахом рубашку. Ей казалось, что такой же встревоженной, как сейчас, она была всегда, с самого рождения, что такой же она останется и навсегда, бесконечно. Она тщетно боролась с собой – она не могла ни уйти из дому, ни остаться. Уйти ей не позволяла жалость, а остаться – ненависть; она жалела и ненавидела тех, кого она, сложись ее жизнь иначе, любила бы. Жалость и ненависть путались у нее в ногах, как две вымокшие под дождем, забредшие в комнату и неприятно прижимающиеся к оголенным икрам собаки; и она стояла у окна, вся как-то жалко съежившись, едва сдерживая слезы, насупленная, гневная, беззащитная! Сейчас она еще острей ощущала и смерть матери, и потерю братьев, и свою отчужденность от отца и деда – все это сбивало ее с толку, тревожило, заставляло болеть, мучиться, терзаться… А стоило ей лечь и закрыть глаза, как перед ней одновременно вставали два образа, не имевших друг к другу, казалось бы, никакого отношения: растертое снегом тело чужого мужчины и залитые слезами глаза мертвого оленя. Оба эти видения, при всем их внешнем несходстве, будоражили ее с одинаковой силой, навек слились в ее воображении, пустили в нем общий корень – и ее беспокоило именно ощущение этого корня, его таинственная двусмысленность. Обнаженное тело незнакомца рождало в ней надежду и подтверждало существование дорог; а заплаканные глаза мертвого зверя убеждали ее в несостоятельности надежды и коварстве дорог. Детство свое она уже забыла, – унеся с собой спокойствие, веру в вечные, несокрушимые мир и радость, оно взамен оставило в ее душе что-то столь же холодное и грубое, как железная спица, к которой был приделан глаз Асклепиодоты. Теперь ей было уже трудно поверить, что когда-то у нее действительно была мать; что ее, сидевшую на осле, действительно провожали в школу забияки братья… Ничего общего не было и между этим вечно раздраженным, навек затворившимся у себя стариком и тем ласковым, добрым дедушкой, который когда-то принес ей Асклепиодоту и запинаясь сказал: «К вам, сударыня, гостья… зовут ее, говорит, Асклу… Аскло… Асклепиодота!» Те времена ей или приснились, или навек ушли в землю вместе с другими сказками матери; действительностью было лишь то, что она переживала сейчас, а не пережитое когда-то – то в счет не шло, у того не было права преградить путь грядущему. То есть право-то, может, и было, но вот возможность вряд ли! Разве могла могила Бабуцы побудить Петре отказаться от женитьбы? Конечно, нет, и существование Аннеты тоже. Петре женился бы все равно! У жизни свои законы, свои порядки, и она умеет настоять на своем, навязать эти законы и порядки всем – это Аннета знала еще до того, как Петре подослал к ней отца Зосиме, чтобы «подготовить» ее. Она была тайно и глубоко влюблена, и именно это ужаснуло ее больше всего, когда она узнала о намерениях отца: как бы нарочно, чтоб унизить, высмеять, растоптать ее наивную, неосознанную, родившуюся сама собой, словно дикий цветок, любовь, и был затеян, казалось, весь его роман с какой-то телавской торговкой, похоронившей троих мужей и прижившей бог весть от кого ребенка-дурачка! И Аннета смеялась – от всей души заливалась смехом, сама этому удивляясь и без конца прося прощения у отца Зосиме.
– Успокойся, деточка… – говорил ей священник, и сам этим столь же смущенный. – Успокойся!
– Успокоиться? Да я вовсе и не волнуюсь, – продолжала смеяться Аннета.
– Милостью божьей природа создала тебя женщиной, – говорил отец Зосиме. – У тебя своя дорога…
– Ой, батюшка, простите! – прикрыла рот рукой Аннета.
– Все-таки это к лучшему… – чуть-чуть повысил голос отец Зосиме. – У тебя своя дорога…
– У меня будут новая мамочка и новый братец! – перебила его Аннета.
– У тебя…
– Сама не знаю, что меня рассмешило… памятью мамы клянусь! Ради бога, не обижайтесь, батюшка! – уклонилась от темы Аннета.
Откровенность отца Зосиме ее раздражала, ибо была неожиданной: Аннета была уверена, что священник выполнит поручение ее отца по-другому, не сразу, а постепенно, да и постарается подсластить его, в привлекательном свете обрисовать ожидающие семью перемены. Еще в детстве у нее сложилось впечатление, что врач и священник отличаются от других людей тем, что они болезней и опасностей не боятся и над тем, что на других нагоняет страх, лишь подшучивают. Чем бы Аннета ни болела, она выздоравливала, как только в комнату входил доктор Джандиери! Мать, плача, умоляла его помочь, а он улыбался и не лекарствами Аннету пичкал, а сажал к себе на колени Акслепиодоту и расспрашивал прежде всего о ней, словно больна была не Аннета, а кукла. Чего-то подобного Аннета неосознанно ждала сейчас и от отца Зосиме, хоть и чувствовала, что прикидываться и лгать в данном случае с его стороны было бы бессердечно – он ведь не от какой-то обычной скоропреходящей болезни ее лечил, он трудился для спасения и укрепления души!
– Скажите отцу: я рада за него, – неожиданно сказала она.
– Жизнь – не мать, а мачеха. Запомни и это! – сказал отец Зосиме.
Одним словом, за последнее время с Аннетой произошло так много всякой всячины, что растерялся б и мудрец, а не то что пятнадцатилетняя девочка! Ее голова, казалось, вот-вот треснет. Не будь Агатии, она, пожалуй, и вправду сошла б с ума. По вечерам они сидели вдвоем в большой комнате, полуосвещенной круглой фарфоровой лампой, и им не оставалось ничего иного, как вымещать друг на друге свое недовольство, обвинять друг друга в собственной беспомощности. Аннета любила Агатию, но щадить ее уже не могла – ей надо было кем-то пожертвовать, чтоб ощутить хоть какое-то облегчение, чтоб не сдаться своей непонятной, безжалостной тревоге совсем уж беспрекословно, без борьбы. Поэтому ночные беседы эти кончались чаще всего взаимными обидами и раздражением. Аннета была бессильна открыть глаза пусть хоть одной Агатии на несчастье, закружившееся вокруг нее сразу по окончании детства, словно ветер, пропитанный запахом мертвецкой. Агатия тоже была частью этого несчастья, его служанкой, и оправдывала, защищала его с упорством верной, преданной служанки, ничего ни лучшего, ни худшего, чем это несчастье, никогда в жизни не видавшей. Служанка до мозга костей, она инстинктивно чувствовала, что оправдание любых поступков хозяев больше, чем их осуждение, способствует прочности и долговечности семьи, прочность же семьи была для нее самым главным; ибо тем же инстинктом она угадывала, что в пошатнувшейся, сбившейся с панталыку семье чужой и лишней станет прежде всего она сама, как всякая бездомная старуха. А остаться без дома, без хозяина Агатия страшилась больше всего! Хозяйкой своей она, правда, считала не семью Макабели целиком, а только Аннегу – так же, как раньше Бабуцу, а еще раньше мать Бабуцы; ощущая себя собственностью каждого из своих питомцев, она переходила из рук в руки спокойно и безболезненно, как вещь. Быть служанкой ей было необходимо, но вовсе не безразлично чьей, как ее несправедливо упрекнула Аннета в один из этих вечеров. Поскольку существовала Аннета, Агатия была такой же ее собственностью, как оставленные Бабуцей библиотека, пара икон, сабля Луарсаба Микеладзе и крест на вылинявшей подушечке. Так что и будущее Агатии было непосредственно связано с Аннетой, и она представляла его себе вполне ясно: после замужества Аннеты она стала бы приданым Аннеты и, с божьей помощью, вырастила б и ее детей. Поэтому неразумные и бессвязные разговоры Аннеты тревожили ее гораздо больше, чем предполагаемая женитьба Петре. В намерении Петре не было ничего удивительного – по тем двум-трем мужчинам, которые были мужьями или отцами ее воспитанниц, она составила себе определенное представление о мужчинах вообще. Почему Петре должен быть исключением, когда Луарсаб Микеладзе, не стесняясь больной жены, заставлял Агатию стелить в соседней комнате постель для свой шлюхи, а к Кайхосро Макабели ходила беспутная духоборка, которой было б лучше не полы мыть, а самой вымыться! Когда Петре впервые сказал Агатии, что ему нужно жениться, пока и его не съели вши, как Кайхосро, она, привыкшая к его вечной воркотне, придиркам и угрозам, приняла это за обычный попрек, и огорчили ее не столько возможные последствия женитьбы Петре, сколько то, что ее посчитали негодной хозяйкой. По-настоящему встревожилась она лишь потом, случайно услыхав обрывки разговора Аннеты с отцом Зосиме. Странный смех Аннеты и беспощадная прямота священника поразили ее как громом, и она впервые поняла, как незначительны ее тревоги в сравнении с несчастьем этой маленькой девочки и как легко могло действительно произойти то, о чем Аннета толковала по вечерам и что Агатия до сих пор считала лишь детскими причудами. Кто, в самом деле, упрекнул бы Аннету, если б в один прекрасный день и она встала и ушла, исчезла вслед за Нико и Александром? Новая хозяйка, какова б она ни была, постарается, конечно, прежде всего изгнать из дома не старую, выжившую из ума служанку – до служанки она, наверно, и не снизойдет, – а дух матери Аннеты… вот тогда Аннета и осиротеет по-настоящему! Но чем еще могла помочь ей Агатия, кроме как своей верной службой? Она должна была сидеть и ждать – она была приданым Аннеты, и быть рядом с ней ей полагалось всегда, в счастье и несчастье. От природы покорная, она не собиралась бунтовать и сейчас, но сейчас она понимала куда больше, чем до разговора Аннеты с отцом Зосиме. Оказалось вдруг, что в семье шла напряженная, беспощадная война, в которой участвовала и она сама, ибо одна из враждующих сторон была выращена ею. Конечно, она всегда была б на стороне своей питомицы, но главным, существенным было не это. Главным было, чтобы все окончилось благополучно, без жертв; а это могло случиться лишь в том случае, если б Аннета опередила отца, выйдя замуж до его женитьбы. Но до ее замужества было еще далеко, а Петре мог жениться в любой момент, хоть сегодня, поэтому-то Агатия и не знала уж, как ей быть. По ночам над ней вопил филин, и это пугало ее еще больше; сидя на своем стуле, она вся съеживалась, хоть и делала вид, что увлечена штопкой носков, что лишь носки с разодранными пятками ее сейчас и заботят. А что она могла сделать еще? Ни Аннету, ни тем более ангела смерти ей было не переспорить…
– Самого себя хорони! Накажи тебя господь! – встревоженно бормотала она.
– Почему ты его проклинаешь? – сейчас же обрывала ее Аннета. – А может, я именно умереть хочу?
– Не гневи бога, детонька! Нашла время умирать… – застывало лицо Агатии.
– Я невеста смерти! Разве ты не знаешь? Давеча, когда ты мне просвирку судьбы испекла, знаешь что мне приснилось? Смерть! Я напилась из ладоней смерти. И отцу это на руку! Поминки – мелочь, поминки – не свадьба… – спокойно, беспечно болтала Аннета, встав на своем стуле на коленки и прижавшись животом к столу.
– Отодвинься, детка… я и так ничего не вижу! – переводила разговор Агатия, еле сдерживая слезы.
– Нет, ты мне скажи: правда ведь свадьба дороже поминок обходится? – не отставала от нее Аннета, сама втайне чуть-чуть растрогавшись, но и упрямясь от сознания своего бессилия.
Пузатая фарфоровая лампа едва освещала комнату, но айвовое пламя по-прежнему следило за людьми из своей стеклянной башни, словно разумное существо, обитатель какой-нибудь далекой звезды, давным-давно присланный в эту неведомую среду для изучения здешних порядков и обычаев и решивший лучше остаться здесь, сказаться для своих соотечественников навек погибшим, чем принести им сведения о том, чего он тут насмотрелся. Рука Агатии лежала на ворохе старых носков, которые она каждый вечер вываливала себе на колени; но это была не штопка, а мучение одно! Она без конца колола себе пальцы: голова разлегшейся на столе Аннеты наполовину закрывала свет лампы.
– Почему это тебе вдруг смерть приснилась? Откуда ты знаешь, как выглядит смерть? – спросила Агатия таким испуганным и в то же время обиженным голосом, что Аннета невольно рассмеялась.
– Зна-а-аю… – протянула она.
– Господь тебя упаси… – перекрестилась Агатия, держа в руке штопку. – Чушь все это! – сказала она, чуть помолчав и уставившись на лампу. Ее веки сморщились, словно она что-то вспомнила. – Чушь! – повторила она, подняв голову; и на этот раз ее голос звучал смелей и тверже.
– Что? Что чушь? – сердито, вызывающе повернулась к ней Аннета. Стул, на котором она стояла на коленках, опирался сейчас лишь на две передние ножки.
– Просвирка судьбы! – сказала Агатия. – Матери твоей в свое время вышло за царевича замуж идти, а она…
– Что «а она»? – не дала ей договорить Аннета. – Говори… почему ты вдруг замолчала? А вышла за моего отца, да? Это ты хотела сказать? – спросила она. Неожиданно стул под ее коленями покачнулся – и Аннета, и запертое в стекле пламя лампы вздрогнули одновременно.
– Осторожней, детка! – воскликнула Агатия. – Я просто говорю, что просвирка чушь! А отец твой ничем не хуже других…
– Отец… – сказала Аннета, дохнув на лампу. Пламя заколебалось, прогнулось, уклонилось в сторону, и след выдоха на горячем стекле медленно испарился.
Потом обе долго молчали. Приблизив лицо к лампе, Аннета с удовольствием чувствовала, как в ее глазах переливается теплый желтый свет; Агатия же растерялась окончательно. Что просвирка судьбы чушь – это она сказала, конечно, только чтоб успокоить Ан-нету; на самом деле она и сейчас верила в судьбу так же свято, как вчера, как десять, двадцать, тридцать лет назад, – верила слепо, упрямо, непоколебимо, как всякий темный и суеверный человек. «Почему я не померла… почему у меня руки не отсохли?» – мысленно проклинала она себя, задыхаясь от жалости при виде еще по-детски неразвитого, беззаботного тела Аннеты. Замужество женщины, ее вступление в брак всегда было для Агатии непроницаемой тайной, а просвирка судьбы – единственным, что она в связи с этой тайной знала; и знание это, само по себе пустое и глупое, нужно было ей, как всем старым девам и женщинам-неудачницам, прежде всего, чтоб успокоить, унять свою нетронутую и этим навек оскорбленную девственность. Сама она этого, впрочем, не сознавала – к счастью, ибо сознание это ей было б еще мучительней, чем вечное безбрачие. Сама с ним уже примирившись, Агатия считала его, однако, несчастьем для других и, как умела, с ним боролась, но для борьбы у нее одно лишь это пустое, глупое знание и было. Ни Бабуце, ни Аннете соленая просвирка, однако, не помогла – первую она обманула, заменив принца виноторговцем, а второй пожалела и этого, прислала в качестве суженого смерть. Вестником смерти был, вероятно, и филин, присланный ею, чтобы предупредить: иду, мол, готовьтесь… Аннета-то этого языка не понимала, она была еще ребенок, а Агатия, вместо того чтобы переполошить всех, хоть как-нибудь попытаться спасти девочку, молча штопала старые носки, только чтоб не напугать ее еще больше. За это одно ее следовало б, конечно, побить камнями, сжечь заживо, разодрать на куски раскаленными щипцами! Но не меньшим для нее мучением было ведь и сидеть сейчас в этой тихой, уединенной комнате с ворохом носков, всем своим видом и занятием как бы подтверждая вечность и незыблемость семейного очага. Так было каждый вечер– всю весну эти две женщины, подросток и старуха, терзались в безжалостных когтях неизвестности. Одна до самых сумерек не отходила от окна, нетерпеливо – или, верней, очень терпеливо, с надеждой, с гордостью даже дожидаясь звука далеких взрывов и красноватого облака пыли, которое ветер гнал через Уруки. А в ушах другой и днем звучал крик филина, и она с дрожью в коленях ждала наступления ночи. Лишь эти два звука и связывали их теперь с внешним миром, в этих звуках воплотились все их представления о внешнем мире. Первый звук означал инженера-путейца; второй – смерть.
– А что они против свиньи-то имели? – спросила как-то вечером Аннета.
Дверь на веранду была открыта, и по всему дому раздавался шелест зазеленевших, набравших силу лип. Все внимание Агатии было приковано к этим липам: со страхом дожидаясь крика филина, она не сразу расслышала слова Аннеты.
– А что они, говорю, против свиньи имели? – прикрикнула на нее Аннета.
– Что ты, доченька, кричишь… я-то откуда знаю? Маленькие были, глупые… – невольно повысила голос и Агатия. – Все мальчишки одинаково непослушны… ни родителей, ни себя не жалеют, – продолжала она через секунду уже обычным голосом.
– Это правда, что, укусив себя в локоть, я мальчишкой стану? – спросила Аннета.
– Ничего тебе больше рассказывать не буду! Голова у тебя глупостями забита… – рассердилась Агатия.
– Хочешь, укушу? Я смогу! – сказала Аннета. Она потянулась к локтю, которым опиралась на стол; локоть скользнул по столу. От напряжения у нее заболела шея, и она положила голову на руку, как бы вдруг заснув. Ее губы были сжаты и чуть-чуть выпячены вперед, как у обиженного ребенка.
– Не лежи так! – сердито сказала Агатия. – Горб вырастет!
– Ну и пускай себе вырастет… – ответила Аннета, не открывая глаз.
– Себя хорони, себя хорони! – воскликнула Агатия: именно в этот миг раздался крик филина.
Аннета засмеялась, не открывая глаз и не шевелясь, застыв в прежней позе, с головой, опущенной на руку, как бы в дурмане от самой себя, от прохлады и запаха собственного тела.
– Ты девушка, родная… с братьями твоими тебе равняться нечего! – сказала Агатия, отгрызая нитку с заштопанного носка. – Посажу тебя, бывало, среди подушек, и сидишь… с ними, разбойниками, ничего общего! И мать твоя, царство небесное, такой же была…
– Еще чего! – приподняла голову Аннета. – Да откуда ты знаешь, какая я? Может, и ты меня, как отец, глупой считаешь? Вот проснешься в один прекрасный день, а меня и нет…
– Чтоб мне провалиться… – забормотала Агатия. – Когда ж ты наконец образумишься? Какое тебе дело до смерти? Сперва она еще меня забрать должна, а я, как видишь, еще тут, с тобой…
– Я-то именно образумилась, вот мне и есть дело до смерти… – сказала Аннета. Она снова опустила голову на руки и зевнула. – Я тоже не люблю отца, – добавила она, зевая. Пальцы руки, на которой лежала ее голова, едва заметно шевелились, словно она ласкала невидимую кошку или, скорей, пожалуй, желтое пламя лампы. – Теперь у него будет и жена, и ребенок. У этой женщины ведь, кажется, ребенок есть… Это правда, а, Агатия? – Разговаривая, в сущности, не с Агатией, а сама с собой, она не ждала ответа. «Интересно, какая она. Целовать ее нужно ли?» – продолжала она про себя.
– Чтоб мне провалиться, провалиться… – опять заохала Агатия. – Да можно ли так говорить об отце? И его ведь жалко! Человек еще молодой, а живет, как старик! Ну чем он виноват, что так вышло? А о женщине этой ты, радость моя, не беспокойся! Кто тебя тут притеснять посмеет? Это твой дом, а их уж потом…
– Я бы весь дом взорвала, – сказала Аннета, открыв глаза и внимательно глядя на Агатию. – Слышишь! Не свинарник, а дом! И все сразу б кончилось…
– Ложиться, наверно, пора уж… – Агатия сделала вид, что не расслышала последних слов Аннеты. – Керосин только зря жжем. В глазах все расплывается…
– Я бы дом взорвала! – зло, упрямо повторила Анкета.
– Ну и взрывай… кто ж тебе мешает? Вместо того чтоб… – Агатия вдруг не справилась с собой, спокойно начатая фраза оборвалась у нее во рту, как гнилая нитка. Чтобы скрыть волнение, она стала рыться в носках.
– Агатия, Агатия, послушай! – позвала Аннета. – Ты Еедь тоже боишься? Ну, скажи, боишься ведь?
– Чего, доченька? – в самом деле испугалась Агатия. Ее руки в куче носков застыли, и она вся обратилась в слух.
– Агатия… бедная моя Агатия! – сказала Аннета. – Асклепиодоту я оставлю тебе! Ты о ней позаботишься…
– Ну что ты, деточка… с ума меня свести решила, что ли? Иди-ка лучше сюда, вдень мне нитку в иглу! Вместо того чтоб… – и она снова запнулась.
– Вместо чего? Вместо чего? – крикнула Аннета, приподнявшись на коленях.
– Тише… поздно ведь уж! – взмолилась Агатия и шепотом, как будто они скрывались среди врагов, продолжала: – Вместо того чтоб добиваться счастья… ты ведь уж не маленькая…
– Сча-а-астья? – сморщилась Аннета. – Откуда ему тут взяться? Ты мне лучше вот что скажи: как мне держаться на свадьбе отца? Их целовать?
– Тьфу ты черт! – вскочила Агатия и обеими руками осторожно, как мертвого щенка, перенесла всю кучу носков на тахту; нагнувшись, она беспомощно шарила в ней руками. – Тьфу ты черт! – повторила она с раздражением, относившимся не к кому-нибудь другому, а к себе самой. – Ну как ее теперь найдешь… я ведь иголку в носки сунула из-за твоих разговоров! – сказала она, стараясь скрыть свое раздражение или хоть сделать его более понятным, более простительным.
– Я б дом взорвала! Понятно? Со всеми, кто тут есть! – крикнула Аннета, свирепо стукнув по столу своим маленьким кулачком.
Пламя в стекле вздрогнуло, затрепетало. На улице была ночь, густая, как лес, таинственная, равнодушная, ничуть не интересовавшаяся тем, о чем думали, что переживали в этот миг обе женщины, как мотыльки льнувшие к мерцающему свету лампы. Ночи было наплевать на то, что через неделю в этом доме появится новая хозяйка, трижды бывшая замужем женщина из Телави, которую соседи называли сладкой Дусой, – называли так не потому только, что после смерти своего последнего мужа она, продолжая его дело, торговала сластями, но и потому, что она была женщина с интересным прошлым и еще вполне обольстительная…
Петре познакомился с ней в Телави прошлой осенью. Был холодный солнечный день. Петре чувствовал себя неважно, его знобило; а в винном подвале он простудился еще больше – виноторговец заставил его прождать часа два. За это время можно было обойти весь город пешком и вернуться! Должно быть, он долго прощался с каждой засаленной рублевкой в отдельности– целовал их, наверно… А может, он просто надеялся, что Петре надоест ждать и он уйдет. Но это с его стороны было бы глупо, – придя к должнику, Петре без денег не ушел бы, даже если б ему пришлось не просто в холодном подвале, а голой задницей на льду сидеть!
– Я думал, ты в трауре… а ты, оказывается, по Телави разгуливаешь? – сказал ему виноторговец.
– Мне не до прогулок. У меня мать с ума сошла! – выпалил Петре.
– Ну да? – разинул рот торговец.
– Смерти брата не вынесла… – сказал Петре, сразу предохраняя себя от лишних расспросов.
«Придется платить… все равно ведь сдерет!» – подумал виноторговец и ушел. Ушел он весьма основательно: пока Петре нетерпеливо, как необъезженный жеребенок, притоптывал замерзшими ногами по земляному полу, прошло часа два, не меньше.
– Придет… он ведь тут рядом живет! – успокаивал его мальчик-прислужник.
– То-то и оно, что рядом! Именно сейчас ему жену тискать вздумалось, что ли? – задыхался от ярости Петре.
– И-и-хи-хи! – от всей души расхохотался мальчик.
Торговец этот брал вино у Петре уже лет десять и платил по частям. Это было обусловлено с самого начала; но, несмотря на это – или именно поэтому, отношения их были весьма напряженными, и каждая встреча неизменно кончалась неприятностями, которые они, однако, забывали, как только расставались. Происходило это не преднамеренно, а само собой. Одному из них надо было получать деньги, и он стремился получить их как можно скорей. Другой же должен был платить, но, хоть он это и знал и был к этому подготовлен, расставаться с деньгами, коснувшимися уже его рук, попавшими уже к нему в кошелек, было все равно очень трудно… поэтому он и пытался как-нибудь отсрочить платеж или уменьшить выдаваемую сумму, сделать ее не такой заметной для кармана. В глубине души, однако, оба чувствовали, что отношения эти им нужней даже, чем сами деньги, что это тренирует их для более серьезных битв жизни. Они походили на братьев-подростков, разбивающих друг другу носы позади дома втайне от взрослых, вроде не всерьез, а по-братски, только чтобы сделать друг друга сильней, не дать себя в обиду ребятам из соседнего квартала, суметь вынести удар кулаком и дать сдачи во время настоящей драки!
Выйдя из подвала, Петре был зол как собака – ни полученные деньги, ни прогулка по городу его уж не радовали. Стало еще холодней; солнце уже не грело совсем, а лишь зря висело в небе, и это тоже злило Петре. В его нагрудном кармане лежал сразу распухший бумажник, тратить можно было сколько вздумается– мест для этого он знал достаточно много. Но ему было не до развлечений. Уезжая в Телави, он рассчитывал немного погулять и развлечься, но и здесь он не мог забыть яростного, ненавидящего взгляда матери. Да нет, он не развлекаться уехал, он попросту удрал от этого пугающего, леденящего взгляда! Холод, пронизывающий его сейчас до мозга костей, исходил из глаз матери. И не сейчас только – с самого детства, с той ночи, когда она его, сонного, избила без всякой причины, несправедливо, избила лишь ради своего любимца, ради того, чтоб доставить удовольствие своему любимцу! Из-за него она возненавидела Петре с самого начала – потому что он был у нее до Петре, да еще от кого-то чужого; не от отца Петре, не от ее первого мужа даже, а от любовника, от проходимца, которого отец выгнал за дверь! А выгнал его отец потому, что дураком был и вздумал добиваться того, что и господу богу невозможно: облагородить мужичку, превратить шлюху в невинную девушку, ворону в голубку. Такое не удается никогда, в такое никто, кроме этого пьянчуги Зосиме, и не поверит… Вот наоборот случается, и очень часто! Бессмысленная, излишняя доброта лишь разжигает зло – у них в семье это подтвердилось еще раз. Мать Петре возненавидела не только мужа, но и его семя, весь его род, потому что была недостойна этого семени, привыкла к сорнякам, которые сеются, всходят и растут сами по себе. Благородное же семя сожгло ее утробу, не осчастливило, а унизило ее, как бриллиантовое кольцо грязную руку нищего. Мать Петре всю жизнь старалась избавиться от этой милости, для нее совершенно неподходящей, а поэтому и пагубной, – и ясней всех это видел Петре. Говоря точней, один он это и видел: отец-то свою ошибку – ошибку вполне земную – все пытался исправить не на земле, а на небе, то есть в заляпанных книжках отца Зосиме, в которых, как мертвецы в гробах, заключены лишь допотопные, давным-давно приключившиеся истории или и вовсе откровенно вымышленные сказочки! А вот Петре смотрит жизни прямо в глаза – ив глаза матери тоже. Он видит больше, чем написано в любой книге. Он знает, как опасна мать, родившая тебя – не в грехе, нет, а для того только, чтобы прикрыть грех, совершенный до тебя, чтоб выманить права для другого, для первого, для сына греха! Зачиная тебя, она в действительности лишь вторично зачинала его, даже в этот момент думала лишь о нем, лишь о его сохранении и спасении, а ты был всего-навсего бумагой, подтверждавшей его права и неприкосновенность, бумагой, в которую она его завернула. Но вышло так, что одна эта бумага ей и осталась, а ее истинного, единственного сына зарезали, как корову; и сделал это тот же человек, который ей его и подарил, или кто-то в этом роде… точно Петре не знает, да и знать не хочет! Но он хорошо знает другое: на что способен человек, если его корову забьют, а бумагу о владении этой коровой прилепят ему на лоб. Уж Петре-то знает, о чем думает его мать по ночам в хлеву, пропахшем ослиной мочой и кровью Георги! Она его мать, она его родила, но ему лучше попасть в руки самых свирепых разбойников, чем остаться с ней в хлеву с глазу на глаз. Пусть кто хочет называет его плохим сыном, трусливой собакой – как угодно! Для других она мать Петре, для чужих, для тех, кто краем уха слышал, что она его родила; но в действительности-то (это, однако, понимает он один) она его ведь вовсе не родила – она просто избавилась от него, выбросила его из себя, как камень из почки или желчного пузыря! Петре боялся матери, но защитить его от нее в семье было некому. Отец заботился только о себе, все время хватался за бок, хныкал и ныл, как беременная женщина; ему было наплевать на все, лишь бы у него самого ничего не болело. Поэтому-то он и был здоров как бык, жрал за троих, а вина выдувал столько, что его хватило б на целый кабак! Сыновья же облили Петре грязью с головы до ног, опозорили его, сделали его всеобщим посмешищем… Хотя это-то ему поделом: слишком уж он доверился жене, слишком плясал под ее дудку. Покойница, царство небесное, от книг своих чуточку одурела! В хозяйстве, во всяком случае, она ничего не смыслила, оставшись одна, и яичницы, вероятно, зажарить не сумела б, зато она без конца листала свою «Книгу для семьи» и по книжке учила Агатию, сколько в кастрюлю класть соли, а сколько масла. Да что там, она и в постель ведь с книжкой ложилась! Сколько раз, бывало, Петре засыпал, так и не дождавшись, пока она закроет книжку и погасит свечу. Да и он был дурак– считал, что раз она книжку держит, то было б мужланством напомнить ей, что ночью у замужней женщины есть обязанность и посущественней, чем вздыхать и плакать над чужими глупостями! Сыновей учеными сделать решила – и вот, пожалуйста, научились… На весь мир его ученые сыновья прославили. Уж теперь-то всякий, кто об их делах прослышит, от царя до последнего стражника, непременно и мать их скверным словом помянет. И поминают ведь – еще как поминают! Что посеешь, то и пожнешь. Весь мир неучен – и ничего, держится. Неграмотного можно обдурить на копейку-две, но бомбы швырять его не заставишь! Ну ладно, к черту сыновей, но и дочь у него ведь негодница, и дочь Петре ведь не удалась! Ей никогда и в голову не придет спросить отца, чем он так озабочен, чем она могла бы его порадовать. Не такая уж она маленькая, чтоб не найти ложку на полке, – а он, потративший на нее столько сил, должен сидеть в собственном доме как гость… Многие девушки в ее возрасте уже замужем, имеют уже свои семьи, а эта смотрит в рот Агатии и играет с куклой, вместо того чтобы поддержать отца, помочь ему забыть свое вдовство, не выпускать его из дому в нестираном, неглаженом! Зря говорят: дочь, мол, для отца рождается. Отца ни дочери, ни сыновья знать не хотят… то есть хотеть-то хотят, конечно, но только пока они в нем нуждаются! В своем доме Петре был одинок – и, что больше всего его огорчало, был лишним. «Ну вот: теперь ты и первый, и единственный…» – сказала ему на днях мать. Но кому нужны эти первенство и единственность, если нет человека, которому ты необходим? Таким человеком была только Бабуца, потому что существование Петре обеспечивало ее положение супруги, хозяйки дома; и, чувствуя это, она волей-неволей считала своей обязанностью укреплять и защищать достоинство мужа. «Отец велел», «Ваши проделки не нравятся отцу», «Молитесь за отца!» – говорила она детям; и, хотя такой уж горячей, страстной любви к Петре у нее никогда не было, он все-таки был благодарен ей, как помещик хорошему, честному управляющему, вовсе не обязанному клясться в любви к хозяину и в нерабочее время. При жизни Бабуцы, кстати, место Петре в семье было вообще куда более почетным – тогда не только дети, но и родители уважали его гораздо больше. То ли они берегли его авторитет, то ли опасались задевать самолюбие Бабуцы, но тогда Петре был Петре, хозяин, глава семьи, и сам этим гордился; когда же его жена умерла, а дети разбрелись кто куда, он опять стал Петрикелой. После смерти Бабуцы Нико не написал домой ни строчки, словно в семье у него никого, кроме нее, не было, словно его отец был пустым местом, ничего не значил, ничем не отличался от бычка, нужного лишь для осеменения коровы. А Александру он нужней, что ли? Едва тот спутался со своей хромой индюшкой – все! Он не то что выделился из семьи – это-то он сделать, конечно, мог, – он попросту убежал от отца, как разбойник от закона. И дочь была ничуть не лучше своих сумасбродов братьев! Петре-то воображал, что она ангел, что она и ухаживать за ним будет на старости лет, и оплачет его, а она ему давеча такое загнула, что Петре захотелось уши ей оборвать, голову ей открутить, как цыпленку… если б не страх перед сыновьями, он, конечно, научил бы ее разговаривать с отцом! Но лучше было воздержаться, чем давать сыновьям повод для придирок – как это, мол, ты посмел избить сестру, когда нас дома не было? Может, ее и вообще подбил Александр – натравил ее на отца, подсказал ей, что говорить. «Я себя убью, если ты бабушку не вылечишь…» – вот что сказала ему Аннета!