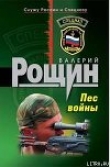Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц)
Отар Чиладзе



И ВСЯКИЙ,
КТО ВСТРЕТИТСЯ
СО МНОЙ…
роман
1

В ту ночь проснулась вся Уруки – да и мудрено было не проснуться, когда рев борчалинца сотрясал небеса, а Георга, вместо того чтобы уняться, отчаянно вопил: «Пулю тебе в лоб… прямо между глаз пулю влеплю…»
Борчалинец был частым гостем Уруки, собственно даже больше чем гостем, – вот уж десять лет вся деревня только о его тайной любви с Анной и говорила. Правда, за все эти годы никто его ни разу не видел, не то что громкого слова – голоса его вообще не слыхал; но забыть об этом десятилетнем молчании он всех заставил сразу, в одну ночь. И все-таки приблизиться к дому вдовы никто не решился, и не только из страха перед басурманом, но и потому, что люди просто не знали, как им быть, что лучше – вмешиваться или по-прежнему оставаться в стороне. Ибо все эти годы и Анна, и борчалинец вели себя так, словно Уруки не существовала вообще или уж по крайней мере не имела ни глаз, ни ушей, – а ведь в деревне ничего скрыть нельзя, тут далее словечко, сказанное мужем жене в постели, сразу становится известным, так что и разобраться в делах одинокой вдовы людям никакого труда не составляло. Но если уж сама Анна деревню в эти дела не посвящала, то и деревня щадила ее, закрывала на них глаза. Да и по правде сказать, какое кому было дело до того, кто ходит к вдове по ночам? Никого, кроме нее самой, это, в конце концов, не порочило, и керосин она жгла не чужой, а свой – и не гаси лампы хоть до утра, ежели тебе охота! И в Уруки жили люди, и вдове с сиротой никто из них ни в хлебе, ни в заступничестве никогда не отказал бы; но никто никогда не позволил бы себе и приставать к ним с расспросами или упрекать их в чрезмерной скрытности – не вмешиваться было все-таки лучше, чем без приглашения совать нос в чужие дела. Если порой деревня просто так, чтобы почесать языком, подтрунивала над ночными делами Анны, то и в этом ничего дурного не было: ведь вдову, к тому же красивую и молодую, необычность ее судьбы и некий неписаный закон делают предметом всеобщего внимания и пересудов так же, как сумасшедшего или калеку. Женщин вдова интересовала не меньше, чем мужчин, но они, в отличие от мужчин, ей сочувствовали, ибо знали, что покорил ее борчалинец силой и угрозами. «Сына убил бы…»– проговорилась как-то Анна у родника; и этого было достаточно, чтоб женщины прониклись к ней состраданием. Так все и шло до тех пор, пока деревня не заметила дружбы Георги с майором и не догадалась о ее причинах, – но и тогда ни у кого не повернулся язык осудить майора, хоть приглянувшаяся ему женщина и принадлежала другому. Было, правда, немного странно, что мужчина его возраста (тогда майору было уже за сорок) все еще холост – приехал он, во всяком случае, без жены, и был ли женат когда-либо раньше, до того как поселился в Уруки, сельчанам выяснить не удалось. Но это отнюдь не означало, что он вообще не вправе глядеть на женщин, что от этого он отказался еще там, откуда прибыл в Уруки в своем офицерском мундире и с одним-единственным большим сундуком.
Вид мальчика и майора, восседавших на одной лошади, с одним ружьем на двоих, с самого начала вызвал в деревне предчувствие беды – и все-таки долго еще никто не понимал, что общего может быть у этого уже седеющего мужчины с неоперившимся птенцом. Поняв же, в чем дело, все облегченно вздохнули и почему-то сразу приняли в душе сторону майора, прибывшего в Уруки как бы специально для прекращения тайной любви вдовы и борчалинца, любви, вот уже столько лет не дававшей деревне ни сна, ни покоя. Если люди не ошибались, если их не обманывало чутье, то они были на пороге немаловажных происшествий! О дружбе майора с сыном вдовы говорили все; а те же самые женщины, которые прежде ей сочувствовали, теперь помирали от зависти: если прежде они считали борчалинца несчастьем Анны, то майор в золотых эполетах казался им чересчур уж большим для нее счастьем. Одна только Анна продолжала жить по-старому, сама по себе, лишь изредка выходя из дому за солью или керосином – вся в черном, как и полагается вдове…
– В черное-то она для нас наряжается, – замечала ей вслед какая-нибудь злоязычная соседка, – а внутри небось все пестрое… басурмана своего ублажать…
– А хотела б я знать: чем ей не угодил майор? – тут же подхватывала другая с таким видом, словно никаких забот, помимо сердечных дел майора, у нее не было.
Но майор не нуждался ни в чьей помощи: что ему делать, он знал сам. На вдову он и не глядел, как бы не замечал ее вовсе; но один конец веревки был уже у него в руках, и вдова, какой бы свободной она себя ни воображала, в действительности не могла уж пастись где ей вздумается, как брошенная без присмотра корова. В руках майора был Георга, сын вдовы, приручив его, сделав своим союзником против родной матери, он нашел бы путь в ее сердце и спокойно, без хлопот в него проник. Итак, Уруки пребывала в напряженном ожидании – дружба Георги с майором влекла за собой важные последствия, которые вскоре должны были дойти и до борчалинца и вряд ли его обрадовать. Теперь все с еще большим интересом следили за окном вдовы, освещавшимся среди ночи всегда неожиданно, как бы таращившим глаза наподобие напуганного страшным сном ребенка… и, пока это было так, деревня успокоиться не могла.
Борчалинец явно зарвался – зарвался, потому, что вздумал ревновать, не сумел сдержать себя; меж тем, переполошив деревню, он в ту ночь поставил под угрозу все свое краденое счастье. Сейчас, впрочем, ему следовало заботиться, вероятно, не о счастье уж, а о собственной шкуре, о том, как выбраться из Уруки живым, – сейчас ведь ему предстояло иметь дело с майором. Избиения женщины с ребенком деревня тоже никому не простила б, но она не стала опережать майора; теперь между вдовой и деревней собирался встать он, и первое слово было за ним. Наверно, и это сдержало деревню, помешало ей сразу же проучить обидчика вдовы и сироты – деревня ждала действий майора. Избитый ребенок был другом майора, избитая женщина матерью его друга, и если они нуждались в заступничестве, то первым должен был откликнуться майор – вот тогда и деревня знала б, как ей поступить! Начать же должен был все-таки майор. Если он хотел отнять эту женщину у борчалинца, лучшего случая ему представиться не могло – тут ему и следовало показать себя! Конечно, катать ребенка верхом дело тоже хорошее, но какой прок от этого матери ребенка, которую ее бугай лупит по голове на глазах у всей деревни? Хочешь заставить женщину от чего-нибудь отказаться – пообещай ей замену, к тому же лучшую, идет ли речь о мужчине или о головном платке! Вот и майору следовало именно сейчас доказать, что он может заменить борчалинца, что он лучше борчалинца, и не в палатке отсиживаться, а броситься прямо в битву, одной из причин которой он сам, кстати, и был… Да не одной из причин – главной, единственной причиной! Не будь его – с какой стати борчалинец так взбесился б? Тот, наверно, понял, что его насиженное гнездо развалится, если не вмешаться вовремя, не проучить вовремя мать с сыном, которые, спокойно принимая его подарки, не отрывали в то же время глаз и от блестящих пуговиц майорского мундира! Да и майору он давал понять, чтобы тот ничего не надеялся получить даром, без борьбы, – поэтому-то, наверно, он так и орал; а если майора все это не устраивало, то тому следовало выйти из палатки и на месте выяснить, чего он хочет, чего требует и по какому праву.
Так рассуждали урукийцы, стоя перед своими домами и поеживаясь от ночной прохлады, – и раз уж им пришлось встать с постелей, раз уж сон все равно пропал, расходиться сейчас им было лень. Да и как им было разойтись, не узнав, чем все-таки кончится скандал в доме вдовы? Больше всего их удивляло поведение майора. Ну ладно, не заступайся – но выйди хоть из палатки, узнай, в чем дело, что вокруг тебя происходит! Майор же и ухом не повел, хоть шум в доме вдовы был такой, что собаки не только в Уруки, но и в окрестных селах захлебывались от лая. «Может, спит… разбудить, что ли?» – нерешительно заметил кто-то. Но могло ведь статься, что майор попросту обругает соседей, выгонит их вон! Если, дескать, у вас так болит душа за вдову с сиротой, заступайтесь за них сами! Меня-то, мол, в вашей деревне могло б не оказаться и вообще… А может, и майор дожидался деревни так же, как она его. Как бы то ни было, осрамились в ту ночь и майор, и деревня, а борчалинец свое дело сделал – выместил злобу, проучил мать с сыном и преспокойно ушел… Майор же в действительности, конечно, не спал, и ничто из происходившего в ту ночь от него не ускользнуло. Он слышал даже, как в доме вдовы разбилось стекло лампы, – но и тут не привстал со своего сундука; и его огромная, резко очерченная тень на вылинявшем пологе палатки не шевелилась до самого рассвета. Он сидел, слегка наклонившись вперед и упершись локтями в колени, – сидел, прислушивался и думал. А подумать ему было о чем, и это были вещи куда более серьезные, чем представляли себе урукийцы. То, что его мучило, было рождено не порывом сердца одуревшего от любви юнца, а заботой о собственном спасении! Обычно, стоило ему лишь прилечь на окованный железными обручами сундук в своей душной палатке, которая, едва он зажигал лампу, сразу наполнялась мошкарой и пыльцой ночных бабочек (а без лампы было еще хуже – в густой тьме палатки ему все время чудилась змея), и закрыть глаза, как перед ним возникала казарма, и он лишь сейчас понимал, каким счастливым временем были для него эти двадцать пять лет, просочившиеся сквозь пальцы, ушедшие навсегда. Можно смело сказать, что такой и спокойной и здоровой жизни у него никогда потом уж не было. Во-первых, в то время он был надежно укрыт, замаскирован среди людей, похожих на него и друг на друга настолько, что их вряд ли различили бы и собственные матери; во-вторых, за него тогда думали другие, так что он всегда безошибочно знал, как ему когда поступить и кому что говорить. Оказавшись один, став хозяином самому себе, он не мог заставить плясать под свою дудку даже какую-то деревенскую дуреху…

Бесконечно тянулись урукийские ночи. Он гасил лампу лишь тогда, когда дальние холмы синели, кукарекали первые петухи и начинали лаять осмелевшие с приближением рассвета собаки, – тогда он дул в раскаленное стекло лампы, как дуют в ствол пистолета после дуэли, чтобы скрыть за этой показной беспечностью остатки перенесенного страха. Для него умирала лишь еще одна ночь одиночества, до отказа заполненная звуками военных барабанов и труб, призраками мгновенно вскакивающих по свистку голых по пояс парней и сидящих по вечерам перед казармой девчонок с крепкими, загорелыми ногами, по щиколотки утопающими в шелухе от семечек. Палатка пропитывалась вонью горелого фитиля и керосиновым угаром, ее спертый воздух томился и потел, как женщина, переспавшая с солдатом – даже не с одним, а с целой казармой… испарина этой несуществующей женщины окутывала его, он задыхался в этой испарине! Все тело ныло, любое движение причиняло невыносимую, унизительную боль, и он в одном белье, как привидение, пускался бродить по синеющему двору, обнимал покрытые росой деревья, целовал их, пересохшими губами исступленно сосал шероховатую кору, чтобы ее влажной прохладой хоть немного притушить полыхавший в теле пожар неудовлетворенного желания. Единственной, кто могла спасти его, была Анна: он не зря выбрал ее, едва лишь осмотрелся и хоть немного разобрался в здешней обстановке. Покорный, безобидный облик Анны, особенно же сплетни и пересуды вокруг нее, сразу навели его на мысль, что она – именно то, чего он искал. Как сообразительный арестант, он собирался устроить себе более или менее сносную жизнь и за решеткой, чтобы не мучиться напрасными мыслями о том, что он оставил (и, вероятно, навсегда) за стенами тюрьмы. Здесь же, по эту сторону стен, Анна была единственной женщиной, не только способной, но и обязанной понять его. Он нуждался в ней, как монастырь в монахине – но не для молитв, а чтоб выметать мусор. Во внешности Анны и в самом деле было что-то монашеское – но не это же, в конце концов, притягивало к ней борчалинца, которого неутоленная страсть гнала, словно голодного волка, за десятки километров, в деревню, для него далеко не безопасную! И все-таки желание майора покорить эту женщину было вызвано не столько ее привлекательностью, сколько его собственной глупостью и слепотой, ибо, как оказалось впоследствии, Анна была вовсе не так уж легко доступна, как он сперва вообразил, да и избавиться от соперника оказалось тоже делом вовсе не простым, хоть он и не сомневался в том, что рано или поздно это ему удастся (больше всего в этом смысле он надеялся на свой мундир!). Однако время шло, и ничего хорошего не происходило. Недоступность женщины раздражала его и сама по себе – но еще больше его бесил борчалинец, которого всегда ждало готовеньким то, в чем он, майор, нуждался гораздо больше, то, что ему доставляло столько мук и волнений. Впрочем, если б не борчалинец, майор, вероятно, и вовсе не стал бы думать об Анне как о женщине: от нее слишком пахло ладаном и церковным сумраком. Но со временем она превратилась для него в тайну, не очень глубокую, не очень большую, а все же, как любая тайна, заманчивую, требующую разгадки; и не думать о ней он уж не мог. Он хотел от нее немногого, ни мужем, ни постоянным любовником ее становиться не собирался; ему нужна была просто женщина, хорошо знающая свое дело, – и все же он так увлекся своим замыслом, так облегчил сам себе в мыслях его исполнение, что и сам не заметил, как замысел этот перерос в невыносимое желание, от которого он уже не мог избавиться, не завладев этой тайной, не схватив ее, как расхрабрившаяся от голода мышь кусочек сала в мышеловке. Он чувствовал, что впутывается в рискованное дело, но желание овладело им уже целиком, и никакого другого выхода не было. Однако он не унывал, считал даже, что все идет хорошо, что он умело действует во исполнение своего плана; в действительности же он просто хватался за сына вдовы, как утопающий за соломинку! Он был подобен верующему фанатику, который благодаря самовнушению, самоубеждению на краткий миг как бы достигает внутреннего слияния с божеством – и хотя, ослепленный счастьем, он и в этот миг неспособен узреть незримое, достичь недостижимого, одного этого чувства, надолго остающегося у него и после протрезвления, возвращения на землю, достаточно, чтобы все его будничное существование стало для него более сносным, чтоб и начинать новую жизнь на могиле чьего-то чужого ребенка, и лежать на чьем-то сундуке в провонявшей холостяцким духом палатке показалось ему делом самым естественным. Открыв для себя Георгу, он еще больше оживился и разохотился – как старый солдат, он хорошо знал, что значит во время боя неожиданное подкрепление, пусть даже самое малое. «Ему тоже покажем, где раки зимуют…» – говорил он Георге, потирая руки, как человек, уверенный в себе, всю жизнь игравший в прятки со смертью, испытавший всевозможные превратности судьбы. Такая привычка была у их длинноусого ефрейтора, обо всем и обо всех на свете высказывавшегося одинаково: «Им тоже покажем, где раки зимуют», – этому длинноусому ефрейтору он невольно и подражал, когда, оставшись вдвоем с Георгой, учил его ездить верхом, держать ружье, взводить курок… подражал потому, вероятно, что относился к Георге как к настоящему солдату и готовил его к войне, к предстоящему бою не менее тщательно и строго, чем тот же длинноусый ефрейтор, который, проходя с прищуренными глазами перед строем новобранцев, уже заранее знал, какой из кого выйдет толк. Тут у него был всего один новобранец, к тому же малолетний, но и это было лучше, чем ничего, а если послушание и усердие хоть что-нибудь значат, то и Георга обещал стать солдатом совсем неплохим. Во всяком случае, никто не мог лучше его проникнуть во вражеский лагерь (то есть в собственный дом) и внести раздор в ряды противника (то есть между матерью и борчалинцем)… В конце концов, все ведь именно так и произошло, и надежды майора Георга оправдал полностью. Однако шум, поднятый борчалинцем в доме вдовы, майора, мягко говоря, несколько напугал – он не думал, что тот на такое осмелится. Заступиться за пострадавших ему, конечно же, и в голову не пришло, – во-первых, он просто струсил, во-вторых, чем сильней досталось бы матери с сыном сейчас, тем легче стало бы ему сблизиться с ними потом! Но и совсем бездействовать не годилось тоже, что-то предпринять следовало и ему. Поэтому-то он и не сомкнул глаз всю ночь и не вставал с сундука – сидел, прислушивался и думал…
– Одолел нас басурман! – сказал ему на следующий вечер хозяин лавки.
Лавочника звали Гарегином, он был армянином-беженцем из Турции и сейчас имел лишь одну заботу: как перевезти и похоронить в У руки прах своих родителей. «Дом человека – там, где его родители, пусть даже мертвые…» – часто говорил Гарегин заходившим в лавку крестьянам; и те охотно соглашались, ибо это была сущая правда.
– Басурман? – с деланным удивлением переспросил майор.
– Ну да, басурман! И вдову отдубасил вчера ночью, и Георгу заодно. Слыханное ли дело, и в собственном доме нам покою не дают… – огорченно развел руками Гарегин.
Пол лавки был усеян мелким битым стеклом, скрипевшим под ногами, как сухой снег.
– А почему? Причина-то какая? – заинтересовался майор с таким видом, словно впервые об этом слышал и не просидел всю ночь на своем сундуке, с ужасом прислушиваясь к реву борчалинца и воплям вдовы.
Всю подоплеку вчерашнего побоища он знал едва ли не лучше, чем Гарегин, но только у Гарегина он мог выяснить то, ради чего вышел из палатки вообще. В лавке Гарегина скоплялись все новости округи; никто не уходил оттуда, не пожаловавшись на свои или чужие несчастья, словно он находился не в лавке, а в церкви и беседовал не с опершимся грудью о прилавок, вечно ухмыляющимся торговцем, а с принимающим исповедь священником. Майору хотелось знать мнение деревни: его интересовало, что она думает об этом деле и насколько он может рассчитывать на ее поддержку, если дело примет серьезный оборот.
В лавке было прохладно и полутемно. В одном углу стоял раскрытый мешок соли; рядом с ним были раскиданы кой-какие скобяные изделия. Вечерняя тишина заглушала, казалось, даже запах лежалого товара – чувствовался он лишь изредка, да и то слабо…
– Зачем разбойнику и мерзавцу причины? Просто так… взял и отколотил, – ответил Гарегин на вопрос майора.
– Ну, и что дальше? – подтолкнул его майор.
– То есть как что? – не понял Гарегин.
– Люди-то где были? Что они говорят?
Ухмыльнувшись, Гарегин опустил глаза и почесал
себе затылок, словно собираясь сказать что-то непристойное, причем такое, о чем и говорить и молчать одинаково трудно.
– Люди на вас надеются… – промямлил наконец он.
Он по-прежнему с ухмылкой глядел себе под ноги; внезапно его лицо красноречиво выразило, насколько он сокрушен и изумлен такой несправедливостью.
– Не во всякой ведь деревне майор живет… а этот мерзавец бесчинствует как ни в чем не бывало! – проговорил он, недоуменно разведя руками и как бы не обращаясь к майору, а беседуя сам с собой вслух.
– Стекло для лампы у тебя не найдется? – спросил майор. – По-моему, мошенничает что-то фабрикант Эристави! Без конца лопаются, черт бы их взял…
– Чему тут удивляться, почтеннейший? – по обыкновению ухмыльнулся Гарегин. – Сейчас лампы у всех стоят. Никакой фабрике не управиться…
Вошедший в лавку крестьянин еще в двери снял шапку и молча поклонился.
– Я ж тебя предупреждал: не тяни. Пришлось ведь сызнова прийти! – крикнул ему Гарегин.
– Что поделаешь, сударь мой? – обратился к майору крестьянин. – Купишь, хлопот не оберешься; не купишь – еще хуже! Семья… оно, конечно, надо бы…
Говоря, он мял в руках свою маленькую войлочную шапку, и его крупные, заскорузлые пальцы едва заметно вздрагивали, выдавая все же, против его воли, волнение, подымавшееся с самого дна его крестьянской души и порожденное неотступной заботой о семье, о завтрашнем дне…
– Нету уж. Продал! – оборвал его Гарегин.
– Гарегин, кормилец… – растерялся покупатель, словно лишь сейчас, в это мгновение поняв, сколь необходима была ему эта вещь, потерянная, выпущенная из рук из-за ставшей второй натурой нерешительности, крестьянской осторожности и скупости. Он рассердился на себя, но еще больше – на другого, на соперника, не давшего ему времени как следует поколебаться, а прямо из-под носа утащившего облюбованный им товар.
– Кто кого обскачет… так, что ли? Как же это
можно? – проговорил он, уже не скрывая раздражения. А
– Как дела, дядюшка? Что на свете нового? – спросил его майор.
Остыв от своего внезапного гнева, крестьянин точно сызнова заметил майора – так, будто за это время, тот успел выйти из лавки и уже вернуться обратно. Смутившись, он опять стал мять в руках свою шапку.
– Живем мы ничего, – ответил он, чуть помедлив. – Нынче всего вдоволь. Сахар, что я у тебя купил на днях, еле накололся… булыжник прямо! – громко сказал он опершемуся о прилавок Гарегину. – Он славный парень… благодетель наш, – добавил он, вновь обращаясь к майору.
– Так чего ж вы на государя жалуетесь? – полюбопытствовал майор.
– Это мы-то жалуемся? Да кто вам сказал? Чего ради мы бы стали жаловаться? – всерьез забеспокоился крестьянин.
Взяв выложенное Гарегином на прилавок стекло для лампы, майор сухо сказал:
– Одну вдову и ту защитить не сумели… Позор нам всем!
Через несколько минут он уже сидел в доме вдовы и, заложив ногу за ногу, с удовольствием потягивая домашнюю виноградную водку, рассказывал растерявшимся от его неожиданного появления матери и сыну охотничьи небылицы.
Борчалинца там, разумеется, не было. Сейчас он, по-видимому, сидел в своей глинобитной лачуге в окружении всех своих жен и детей и, довольный своей вчерашней удалью, горстью ел плов!
– Идешь по мокрой траве, ружье наготове… когда оно понадобится, и сам не знаешь. Глаз не сводишь с травы, и все же так неожиданно из-под ног взлетает– поневоле вздрогнешь. Бах! Загремит, сверкнет – как огонь, ежели керосином плеснуть… – увлеченно рассказывал майор…
Георга был обижен на майора: он не ожидал, что тот бросит его в беде и не примчится сломя голову, вооруженный до зубов, по первому же зову друга.
А ведь свою угрозу влепить врагу пулю в лоб Георга и выкрикивал-то специально, чтоб его услыхал майор, в надежде на помощь майора, не раз обещавшего показать борчалинцу где раки зимуют. Это-то и подзадоривало Георгу, это и придало ему смелости; в результате же избит был он сам, да еще вместе с матерью, а его друг майор преспокойно спал – спал потому, что и врага не боялся, и о Георге не беспокоился нисколько! Такая измена была для мальчика болезненней любых побоев. Ведь он все время ждал, что майор вот-вот появится, вот-вот распахнет дверь и засверкает эполетами, но майор не появлялся, а борчалинец, все больше свирепея, ревел, что они, вшивые, никому не нужны, что они ему не смертью грозить, а руки-ноги целовать обязаны, что без него они и вовсе с голоду сдохнут! И у Георги разрывалось сердце, с такой страстью ждал он майора, так нужен был ему майор, чтоб заткнуть эту орущую глотку, чтоб доказать, что и у них есть друг и защитник!.. Всю ту ночь Георга не сомкнул глаз – как мог он заснуть, когда обманутая напрасным ожиданием душа болела сильнее, чем избитое тело? Он не думал ни о матери в изорванном платье, с окровавленными губами, всю ночь промолившейся на коленях перед иконой, ни о борчалинце, хлопнувшем дверью и с угрозами и проклятиями исчезнувшем во тьме. На столе валялись осколки стекла, и пламя лампы с немой, животной печалью и беспокойством тянулось к потолку, скручиваясь так, словно не могло целиком освободиться из своей жестяной ловушки; а на потолке над лампой чернело огромное пятно копоти. Но Георга думал о майоре – только о майоре, который обязательно должен был прийти и не пришел! Вот это-то он и пытался понять: что могло остановить друга, помешать ему прийти, если он и вправду не спал как убитый или не попал в беду сам? «Может, с ним что случилось… может, он тоже нуждается в помощи?» – думал Георга, чтоб хоть как-нибудь оправдать майора; и если он сейчас же, средь ночи, не бежал узнать, что с ним, то только из стыда. Он не представлял себе, как показаться на глаза майору в таком виде – не побежденным в бою, а просто избитым, да еще вместе с матерью!
Когда майор вошел, мать с сыном сидели впотьмах – ни она, ни он не осмелились бы в тот день выйти в лавку за новым стеклом для лампы; они с нетерпением ждали ночи, чтобы спрятаться во тьме и друг от друга, и от деревни, которая, вероятно, не сводила уж глаз с их окон, желая поскорей узнать, что у них происходит и в каком они настроении. Майор собственноручно вставил в лампу новое стекло, прикрутил чадящее пламя и, когда по комнате разлился мягкий айвовый свет, сказал:
– Тут, говорят, вчера такое творилось, что и в окрестных селах слышно было…
– А ты откуда знаешь? – спросил Георга.
«Откуда знаешь?» Нет, Георга интересовался вовсе
не тем, каким путем дошла до майора весть об их вчерашнем злоключении. Его тревожило совсем другое, но он постеснялся, не осмелился встретить упреком друга, впервые пришедшего к ним в дом. «Если даже в окрестных селах слышно было, почему же не слышал ты, почему не явился со своим стеклом вчера?» – вот что хотелось спросить Георге. И майор, как бы читая его мысли, тут же ответил на этот незаданный вопрос.
– Спячка на меня вдруг напала – не приведи господь! – сказал он. – Снотворного подсыпали, что ли?
Георга был готов без колебаний верить майору, верить каждому слову, способному оправдать вчерашнее бездействие друга, – слову, пусть даже и заранее обдуманному в палатке, но рассчитанному на то, чтобы успокоить мальчика, восстановить его веру. Ибо в вере и в человеке, способном укрепить эту веру, он сейчас нуждался больше, чем когда бы то ни было.
Анна спокойно, печально молчала, и, если б не ее вывихнутая и перевязанная шалью рука, можно было бы подумать, что ко вчерашней перепалке она не имеет никакого отношения. Казалось, она вообще попала сюда случайно и лишь из вежливости слушает мужской разговор, который ей и неинтересен, и не очень-то понятен.
– Будь тут мои ребята, – обратился к ней майор, – они б с этого вашего борчалинца шомполами шкуру спустили! Знал бы, как драться…
– Нет! – почти крикнула вдруг Анна.
– То есть как это «нет»? – удивился майор.
– Нет… – уже спокойно, обычным голосом повторила Анна. – Нам следует терпеть. И вы тоже ссориться с ним не должны, если вправду Георгия любите…
«Нет так нет!» – подумал майор, но ничего не сказал и стал молча рассматривать висящую на стене черную черкеску. Спокойствие и достоинство Анны раздражали его с самого начала. Она сидела с таким видом, словно не то что бить ее, но и просто сказать ей что-нибудь непочтительное никто никогда не посмел бы, словно перед сном она ничем уж другим, кроме молитв, и не занималась. Можно было подумать, что майору она гораздо нужнее, чем он ей. А ведь, направляясь сюда, он был убежден, что пострадавшие мать с сыном сочтут его визит великим для себя счастьем, готовы будут руки ему целовать, прыгать вокруг него от радости! Ибо человеку, попавшему в беду, нужнее всего сочувствие, пусть даже мнимое, неискреннее, высказываемое просто из вежливости, – и это для него благо, и размышлять, вправду ли ты так уж переживаешь его несчастье, ему отнюдь не пристало: он обязан довольствоваться тем, что ты стоишь рядом с ним, быть благодарным и за это – ведь остаться в одиночестве человек страшится больше самой беды. Майор считал, что творит добро, оказывает милость, – она ж как будто и не обращала внимания на такого короля, лично пожаловавшего к ней для выражения сочувствия и дружбы. Майор знал, что благодаря блестящим эполетам урукийцы его уважают и даже побаиваются, – поэтому-то он и во время работы не оставлял своего мундира в палатке, а развешивал его на дереве для всеобщего обозрения, словно документ, не только подтверждающий исключительные полномочия своего владельца, не только гарантирующий неприкосновенность его усадьбы, но и облекающий неким ослепительным ореолом его самого – даже когда голый по пояс, с ладонями, стертыми в кровь, как у самого обыкновенного крестьянина, он расчищал двор от сорняков, битой черепицы, гнилых досок Не лучше матери встретил его и щенок – тот вообще надулся, словно капризная любовница; и это тоже раздражало майора! Он не мог понять, чем они, в конце концов, так недовольны – тем ли, что он пьет их паршивую водку, или тем, что ему вообще открыли Дверь, впустили его в свое логово, пропитанное потом борчалинца и из-за висевшей на стене черной черкески казавшееся еще более темным и угрюмым. А может, его обвиняли в том, что он не дал борчалинцу убить себя из-за них вчера ночью? Да нет – не такие ж они, должно быть, все-таки наглые…
Вид черной, чуть-чуть обтрепанной по краям черкески напомнил майору пугало в винограднике, сверху донизу загаженное наевшимися винограду воробьями и превратившееся для них в насест, в место отдыха, хотя балда и скупердяй виноградарь установил его именно для их устрашения. То же самое случилось и с черкеской. Она была такой огромной, что занимала всю стену; но в брошенный ее владельцем виноградник повадились воробьи – или, верней, лисы; и они не обращали никакого внимания на черкеску, вывешенную, чтоб отпугивать их, черкеску, некогда облекавшую плечи и грудь рослого мужчины, а ныне растекшуюся, размазавшуюся по стене, как брызги дегтя, бессильную и пустую, как угроза мертвеца! Главным в этом доме был борчалинец, а не черкеска, прибитая к стене, как чучело какого-то огромного, но безобидного допотопного существа, с самого начала обреченного природой на вымирание. Черкеска майора не пугала – в этом доме он боялся только живого соперника, человека, бывшего тут хозяином теперь; ему-то майор и хотел заглянуть в душу, его-то истинные намерения он и стремился разгадать с помощью избитых матери и сына. Поэтому-то он и не помедлил, не дал чужой боли и озлоблению остыть – он знал, что боль и озлобление делают людей откровеннее, искренней, чем они станут потом, когда боль утихнет, а озлобление уляжется. Он надеялся, что тяжелая рука борчалинца развяжет пострадавшим языки, заставит их забыть осторожность; это и позволило б ему запросто, без нажима и особенных расспросов выяснить, что же все-таки тот собирается делать; решил ли он бросить мать с сыном и поэтому вздул их, или сделал он это, напротив, лишь из желания удержать их навсегда? Вот что мучило майора, вот что ему надо было разузнать – они же молчали и глядели на него так, словно именно он натравил, науськал на них их мучителя…