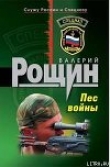Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 30 страниц)
– Чтоб тебя волки съели, чертова тварь… как ты меня напугала! – ласково сказал он лошади.
Вокруг не было ни огонька; Уруки спала своим деревенским, завидно глубоким сном. Кайхосро невольно оглянулся в ту сторону, где должно было находиться окно вдовы. Но и там царил мрак.
– Погодите! – сказал он лошади. – У меня вы, может, еще и о басурмане затоскуете…
Хотя после той кошмарной ночи урукийцы и считали Кайхосро героем, в действительности на героя он не походил нисколько, и в палатке приемного отца ему все время являлись видения, для героя совсем неподходящие. Чего только не повидала на своем веку эта палатка, какие только огни и бури не обрушивались на ее тонкие стенки, но что такое страх, она до сих пор не знала. Это была простая походная палатка, которую думы хозяина пропитывали так же легко, как дождевая вода, – и с такой же легкостью она начинала походить на своего владельца, который, подложив руки под голову, глядел в ее низкий свод и, нахмурившись, без конца думал… походить, конечно, не на него самого, а на его мысли и настроения. «Толково стреляют…» – думал, бывало, ее первый владелец, когда разорвавшийся в двух шагах снаряд с грохотом обсыпал ее полог землей и камнями и она дрожала словно от восторга. А теперь в ее стенах жили другие мысли, теперь она превратилась в гнездо страха и ненависти! Теперь она, как ее новый хозяин, тоже мучилась по ночам, задыхаясь от керосиновой копоти и пыли бабочек; и ей тоже непрестанно чудилось сверкающее лезвие кинжала, она чувствовала даже, как кинжал прорезает, вспарывает ее бок, чтобы добраться до лежащего на сундуке человека, вонзиться ему в горло. И тогда оба они одинаково дрожали – и она, и вскочивший с сундука человек…
– Сожгу! Собственными руками сожгу! – кричал он.
Не умея говорить, она поневоле молчала – так, словно и вправду была виновата в том, что ее теперешнему обитателю без конца чудился убийца с занесенным кинжалом!
– Задыхаюсь я в палатке, батюшка! – пожаловался как-то Кайхосро отцу Зосиме.
Они встретились в проулке; почти в ту же минуту на них надвинулось стадо коров, и им пришлось отойти в сторону, прижаться к забору, чтобы пропустить этот грубый, беззастенчивый поток столь мирных существ, которые, покачивая головами, жуя и мыча, тяжело передвигались в собственном запахе, в собственном, липком и густом, как молоко, тепле.
– Хоть сию же минуту, сын мой! Хочешь – ко мне, хочешь – к кому угодно другому. Кто тебе откажет? – сказал отец Зосиме. Его глаза лучились, на его влажных алых губах сияла простодушная, почти детская улыбка. – Наши люди не красноречивы. Приглашают они один раз, но искренне…
Кайхосро заговорил со священником не для того, чтоб вынудить его повторить некогда сделанное приглашение (в первый же день по приезде Кайхосро в У руки отец Зосиме предложил ему жить у себя, пока он не построит собственного дома; с охотой приютили б его тогда, наверно, и другие, но тогда-то он прекрасно чувствовал себя и в палатке, тогда бездомность его не смущала ничуть). Об этом он и не думал; но встреча со священником невольно вызвала у него желание пожаловаться, передать и другому неотступный страх и тревогу, не дававшие ему покоя, ни на мгновение не покидавшие его после той кошмарной ночи. Почему, в самом деле, он должен был страдать, а служитель божий как ни в чем не бывало ходить по своим крестинам и поминкам, когда именно ему полагалось заботиться о человеке, попавшем в беду, защищать, спасать – или, по крайней мере, хоть утешать его…
– Я не о том, отец мой. В палатке я задыхаюсь от безбожия! – прохрипел Кайхосро.
– Не гневи господа, сын мой. Палатка такой же дом божий, как и церковь! – ответил отец Зосиме.
Его глаза по-прежнему лучились, на влажных алых губах по-прежнему сияла улыбка. Улыбнулся и Кайхосро, но улыбнулся злобно, как человек, понявший, что его дурачат.
– Интересно, что вы скажете потом, когда меня зарежут в этой проклятой палатке? – спросил он, удивленно глядя на пастуха, который, сняв шапку и ухмыляясь, кивал ему в знак приветствия. У пастуха были неровные, торчащие в разные стороны зубы, словно он, не имея настоящих зубов, воткнул в рот все, что ему попалось под руку, – кабаний клык, медную монету, пестрый камушек или осколок стекла. Он усердно хлестал бичом по бокам коров, как бы упрекая их в том, что по их милости двум почтенным людям приходится так долго стоять, прижавшись к забору. – Или я должен радоваться смерти за ближнего своего? – продолжал Кайхосро, показывая рукой на пастуха. Но отец Зосиме прекрасно понял, кого он подразумевает в действительности.
– Бог справедлив! Бог воздаст тебе за помощь вдове и сироте, – ответил он.
– Бог? Воздаст? Чем? – воскликнул Кайхосро. – Мученической смертью?
– Мученической смертью… – задумчиво повторил отец Зосиме, причмокнув губами так, словно пробовал вино. – По правде сказать, и это не так уж мало!
– Спасибо… не хочется. – Лицо Кайхосро изуродовала вымученная улыбка. – Любая смерть, батюшка, одинаково воняет!
– Не смерть воняет, а грех! – повысил голос и отец Зосиме, но его глаза продолжали чистосердечно лучиться.
– По-вашему, значит, и двухмесячный ребенок, и столетний старик грешны одинаково? – съязвил Кайхосро.
– Именно! Все мы дети греха… – сокрушенно вздохнул отец Зосиме.
– Чьего греха? Каких времен? – рассердился вдруг Кайхосро. Его разозлила собака, сидевшая по ту сторону забора, словно неприятельский лазутчик, и глядевшая на него своими влажными, внимательными глазами. – Пошла, пошла отсюда, тварь паршивая! – прикрикнул он на собаку. – Так до каких пор нам чужие грехи искупать? – вновь повернулся он к священнику.
– Без конца, сын мой, без конца… Покуда сами от греха не откажемся! – ответил отец Зосиме.
Кайхосро опять взглянул на собаку; та отвернулась и, нехотя поднявшись, отбежала от забора.
– Твой бог, батюшка, несправедлив… для него и мои слова, и собачий лай одно и то же! – Внезапно он смолк, и в углу его рта появилась кривая усмешка… – Ах, вот что… вот оно, значит, в чем дело!
Представляю себе, что вы обо мне думаете…
– Ничего особенно плохого! – улыбнулся и священник, снимая с плеча Кайхосро липовый цветок. – Впрочем, на месте борчалинца я возблагодарил бы бога за спасение и навек забыл бы дорогу в Уруки!
Кайхосро опешил. Он поглядел на священника, не понимая, подбадривает или высмеивает его этот вечно улыбающийся служитель божий. Отец Зосиме молча вертел в руках цветок липы. «Пошли тебе господь мира, сынок…» – проговорил он наконец таким тоном, словно в самом деле был отцом Кайхосро, хотя и по возрасту, и по виду их можно было принять скорей за братьев…
После изгнания борчалинца Кайхосро стал часто ходить к вдове, и это сближение, которого сам он и не думал скрывать, урукийцев ничуть не удивило (сказать по правде, их удивило б куда больше, если б этого не произошло). В глазах деревни майор был заступником вдовы с сиротой и, взяв однажды на себя эту богоугодную обязанность, должен был выполнять ее до конца. Действительной же причиной его визитов к Анне были страх и ненависть! Все остальные чувства и желания исчезли, но, если б он хоть день не увидел вдовы и ее ублюдка, ни на ком не вымещенная злоба сразу б его прикончила. Вспоминая, какого врага он себе нажил из-за этих чертовых чучел, он задыхался от злости и опять бежал к ним, чтобы вновь и и вновь вымещать свою злобу. «Теперь-то вы успокоились… теперь ваши душеньки довольны!» – орал он на мать с сыном, онемевших от его гнева, но и не сомневавшихся в том, что гнев этот вполне ими заслужен. Майора же, хоть сам он этого и не сознавал, ненависть к матери с сыном мучила так же, как тоска по радостям казармы: оба эти чувства с одинаковой силой рождали в нем потребность постоянной связи, беспредельной близости, осуществление которых сделало б его в одном случае счастливым рабом, а в другом несчастным рабовладельцем. Впрочем, близость с матерью и сыном не только помогала майору изливать желчь, но и приносила ему определенное удовольствие – болезненное, отвратительное, правда, но все же удовольствие, как, скажем, от вскрытия гнойника! После же беседы с отцом Зосиме близость эта обрела вдруг еще один и вовсе неожиданный смысл. Надо сказать, что беседа эта его все же несколько успокоила, а главное, вернула ему способность рассуждать. Будь его дела вправду столь уж неутешительны, зачем священнику было б это от него скрывать? В таком случае он, конечно, посоветовал бы Кайхосро уехать из У руки куда-нибудь подальше или хоть запер бы его в церкви. Но отец Зосиме о борчалинце уж и не думал – он лишь рылся в постели вдовы, в которой этому гнусно чмокавшему губами паскуднику теперь непременно надо было найти майора! Тревоги же ближнего ему были попросту смешны – он ухмылялся, как врач при осмотре объевшегося черешней ребенка. Может, все это и вправду было смешно; может, борчалинец сейчас и в самом деле благодарил аллаха за то, что в чужом огороде ему продырявили лишь руки, а не голову! Хотя нет – благодарить аллаха ему было все-таки не за что; но и желание продолжать борьбу с майором у него, вполне возможно, уже прошло. Для него-то ведь майор, помимо всего прочего, – настоящий майор, то есть армия, государство, а виданное ли дело, чтоб вор и разбойник мстил государству за то, что оно препятствует ему воровать и разбойничать? Вор и разбойник – молодец только с себе подобными; пулю же, полученную от государства, он всегда сочтет заслуженной и справедливой. А если пуля эта попала не туда, куда надо, он отступит, примирится со своей участью и, чтоб люди его забыли, хоть на некоторое время откажется от своего опасного ремесла. Получалось, что борчалинец должен был бы позабыть вдову если не навсегда, то уж во всяком случае надолго! Но если он все-таки не сможет переварить свою потерю, если терзающая его невымещенная злоба вновь приведет его в У руки, тогда зачем ему набрасываться на самого майора, если для удовлетворения его самолюбия, в сущности, безразлично, кто из троих выплатит ему кровавый долг? Будь майор один, тогда этот головорез стал бы искать и с легкостью нашел бы его одного; но если до его появления троица успеет превратиться в семью, в единое существо, то выделять майора особо будет уже бессмысленно – тогда сами со– бой возрастут ценность и значение его подзащитных. Чтоб отомстить семье, вовсе не обязательно уничтожать ее целиком или убивать именно главу семьи: потеря жены, сына или обоих вместе поразит его верней и лучше, чем кинжал. Уж это-то понимать и борчалинец обязан! Месть такого рода была б не только справедливее, но и по-своему заманчивей – ни мне, ни тебе, как настоящим мужчинам и положено. Человек предполагает, а бог располагает – это бесспорно, но может же случиться, что бог хоть раз одобрит предположения человека! Что тогда? Тогда – глупость, и ничто иное, что он зря потерял столько времени, не требуя у вдовы своей честно заслуженной награды! Конечно, удовлетворить свое желание он мог бы и не женясь на Анне – он был уверен, что это-то уж заслужил во всяком случае. Да и она это, вероятно, предпочла б тоже: прожив с мужем два месяца, а с любовником десять лет, она ведь больше привыкла быть наложницей, чем законной женой, а какой же дурак станет пересаживать к себе под крышу дерево, если к нему и без того можно подойти когда захочется и лакомиться его плодами сколько вздумается? Да и не такую женщину надо было бы майору в жены… Возможно, конечно, что все эти десять лет она жульничала, устраивала выкидыши и тому подобное – но, так или иначе, ее способность рожать детей, появись у нее законный муж, была сомнительной. С другой стороны, женившись на Анне, он приобретал не просто жену, а жену с сыном – Георга ведь был налицо, готовенький, и какая, в конце концов, разница, кто смастерил ребенка, если воспитать его по-своему, если твоя воля будет для него законом? Да и в общем-то выбора не было – надо было срочно жениться, и именно на Анне. Что она думает об этом сама, его не интересовало; спрашивать, согласна ли она стать его женой, он счел бы для себя унизительным. Поэтому он просто набросился на нее, едва застав ее одну, не говоря ни слова, не дав ей даже опомниться. Насилие майора Анна восприняла так же равнодушно и покорно, как его ругань, – так, словно ее ничуть не интересовало, что с ней делают, словно ничего неожиданного не происходило и она выполняла лишь свои ежедневные, вошедшие в плоть и кровь, бесконечно осточертевшие обязанности! Бесчувствие женщины оскорбило майора больше, чем отказ или пощечина, но сейчас ему было не до обид – давно сдерживаемая страсть, как жернов, тащила его вниз, в бесконечную, бездонную, мягкую темноту. Когда же в комнату вдруг вошел Георга, майору на мгновение показалось, что они, паскудники, подстроили и это… поэтому-то, наверно, она и не постеснялась средь бела дня ноги задрать! Присев на краю тахты, Анна тихо плакала, словно змея, наевшаяся дикого укропу. От радости, наверно! Радоваться-то ей было чему – шутка ли сказать, какого короля вместо вшивого басурмана заполучила… Выродок же ее так кривил губы, так хмурился, будто действительно вошел случайно и видел «это» впервые в жизни. Майор едва сдержался, едва не огрел обоих своим еще не затянутым ремнем. Но потом он предпочел обойтись без скандала; заманчивая слава заступника вдовы и сироты опять взяла верх, и он, примирительно улыбнувшись, сказал Георге: «Чего ты хмуришься? Чего мы с тобой не поделили? Тебе она мать, а мне жена».
4
Из своего детства он вынес и воспоминание о разборке и переносе на новое место отцовского дома, о мертвой, беспорядочно сваленной куче камней, досок и черепицы. (Из этих камней он впоследствии сумел опознать один-единственный – и то лишь благодаря человечку с тонкими, как тростинка, смешно растопыренными ручками и ножками, которого сам он выцарапал на нем когда-то. Камень этот попал в стенку хлева, причем вверх ногами, и опрокинутый человечек каждый раз, когда Георга смотрел на него, почему-то напоминал ему их с майором «охоту»; и каждый раз у него при этом так сжималось сердце, словно он видел, как падает вниз головой сраженный шальной пулей бог.) Запомнил он и анатолийских греков, их руки с присохшей известкой и раствором, их перепачканные глиной брюки и рубахи на куче камней. «Мать у тебя хорошая, а отец хорошая скотина…» – говорили они ему. А еще – большой, в черных потеках котел, в котором они варили смолу, и свое с трудом сдерживаемое желание заглянуть в него; пьяного священника у строительных лесов; покупателя лошади – а точней, сальную усмешку и наглый, бесцеремонный взгляд, украдкой брошенный им в сторону матери; двор, невероятно опустевший после того, как лошадь увели, и острый запах и притоптанный навоз, которые от нее остались… («Военные действия кончились; сейчас мне нужней осел!» – сказал майор.) Ему запомнилась и первая бессонная ночь… нет, не одна, а множество ночей в сыром, не просохшем еще хлеву, выстроенном по заказу майора для Георги и осла – или, верней, для осла и Георги. (Слава богу, в эти бесконечные ночи рядом с ним был хоть притаившийся в углу хлева осел, жаркий, как шерстяной палас, удивительно живой, с удивительно добрыми, умными глазами!) Запомнил он и беременную мать – изменившуюся до неузнаваемости, вызывавшую в нем и жалость, и озлобление одновременно, – а главное, ту преобразившую и осчастливившую его, все в его глазах оправдавшую, но и заставившую его всему покориться ночь, когда в темноте хлева, одушевленной запахом и сопением уткнувшегося мордой в стенку осла, нерешительно, с какой-то неземной дрожью и волнением, с облегчающей, освобождающей от незримых кошмаров болью впервые возникло это совершенно для него новое слово: брат. Мой брат…
Запомнился ему и тот день, когда Гарегин на фургоне подвез к железным воротам дома Макабели часы величиной с целый шкаф. Десять человек с трудом стащили их с фургона; десять человек с трудом приподняли их, чтобы втащить в дом. Пока их втаскивали, собралась вся деревня, и все, сложив руки на груди, с грустью, молча наблюдали, как надрываются эти десять человек – так, словно в дом Макабели привезли из города не этот дорогой, деревне совершенно недоступный предмет, а гроб. Георга запомнил и аккуратно одетого молодого человека, который короткими, но быстрыми шажками пятился спиной к дому, широко раздвинутыми руками указывая дорогу грузчикам и одновременно как бы заманивая огромный, ярко блестевший на солнце ящик в его новое жилище. Сказав «пользуйтесь на здоровье!», этот аккуратный молодой человек вручил майору большой золотистый ключ; майор вставил ключ в похожую на человеческий пупок дырочку на циферблате и, как его научил молодой человек, несколько раз спокойно, не торопясь повернул – и тогда мертвый, бесчувственный до этого ящик ожил, затикал, зашуршал, зашептал, словно замок, населенный невидимыми карликами. А когда стрелки, застывшие на циферблате величиной с тележное колесо, вздрогнули и задвигались, как живые, майор усмехнулся и, высоко подняв полную рюмку водки, сказал: «Поздравляю вас с началом новой жизни!» Вообще-то детство Георги кончилось еще до этого, а в тот момент уже агукал и начинал выползать из пеленок его младший брат.
Начиная с этого дня время в доме Макабели обрело новый смысл, значение и качество. Заведенное и пущенное рукой майора, оно овладело всем. Теперь все в доме делалось по воле этого времени – по его указке они садились обедать, по его указке принимались и за прочие свои дела. Бом-ммм, бом-ммм, бом-ммм! – били огромные, как шкаф, часы, и эти однообразные и повелительные звуки постепенно устанавливали в усадьбе новые порядки и привычки. Бой часов был слышен и в хлеву, и в полусне Георге казалось, что по двору ходит кто-то чужой, пришедший с неким непонятным, но опасным и недобрым умыслом, – ходит осторожно, без конца проверяя, разведывая каждый закоулок, постепенно приручая все вокруг и сам ко всему привыкая, чтобы потом, в момент исполнения своего загадочного умысла, ничто вокруг не оказалось для него непонятным или неожиданным. В темноте хлева перед глазами Георги вставал огромный фарфоровый циферблат; ощущая непрерывное движение стрелок, он понимал, что они движутся не зря, что они все время учитывают и вычисляют нечто великое и таинственное, ежеминутно происходящее в мире, нечто такое, что следовало бы знать и ему. Он же ничего не знал – таково было первое сильное ощущение Георги после того, как кончилось его детство.
– Люблю, очень люблю… я ведь должен любить его? – умоляюще спрашивал он мать о своем маленьком брате в те минуты, когда майора не было дома или когда Анна выносила колыбель во двор.
Но мать отвечала туманно, неопределенно, ее ответ ничего не прояснял, а только вгонял его в еще большую растерянность. «Он-то чем виноват?» – говорила она; и y него сжималось сердце, когда на улыбающееся личико свернувшегося в колыбельке Петре, Петрикелы, со шлепающим звуком падала горячая материнская слеза.
– Я не плачу… с чего ты взял? Тебе-то ночью не страшно! Умереть бы мне… – бормотала Анна; и после этих бессвязных, мучительных, непонятных слов ему не оставалось уже ничего другого, как самому успокоиться, приласкать ее, самому притвориться бодрым и счастливым!
– Всем-то он хорош… и все-таки не прощу, что он черкеской отца сапоги себе чистит! – говорил Георга матери: просто, как бы шутя; в действительности же – только чтоб заглянуть ей в душу, вновь расположить ее к себе…
А потом мать и сын, разделенные колыбелью, долго, в упор глядели друг на друга, ничего не говоря: он – как ни в чем не бывало, с чуть пренебрежительной улыбкой; она – испуганно, растерянно, в чем-то вдруг усомнившись. Их одновременно тревожило нечто настолько превосходившее их самих своим объемом, смелостью и силой, что говорить об этом вслух они не решались, стремясь молчанием и лицемерием задавить эти мысли, тоже казавшиеся им губительными, – ведь признаться в них друг другу означало волей-неволей вступить в заговор против человека, который, хорош он был или плох, не гнушался все же быть ее мужем и его отцом. В глазах деревни они были счастливы – возможно, даже чересчур; и сорвись с их уст хоть словечко упрека судьбе, все сочли бы это вопиющей неблагодарностью, даже непорядочностью, а их самих, обитателей сказочного замка, благодаря заботам «такого короля» разве что лишь птичьим молоком не обеспеченных, – людьми, достойными не жалости и сочувствия, а презрения и гнева! Впрочем, уйти им было уж некуда; их собственный, подлинный дом был встроен в стены сказочного замка, растворился в нем, безвозвратно исчез…
Бом-ммм, бом-ммм, бом-ммм! – били огромные, как шкаф, часы; и время шло. Стайки воробьев с писком копошились в выметенном из хлева мусоре, выхватывая друг у друга изо рта хлебные крошки и семена трав; смело и бесшабашно прыгая вокруг Георги, они тут же с шумом вспархивали, едва кто-нибудь проходил за оградой, позевывала лежащая под лестницей собака, падал листок с дерева или перемещалась тень от ветки. Воробьи не боялись только Георги, ибо вкусный мусор из хлева выметал именно он, а главное, они чувствовали, что ему приятно глядеть на них. Едва начинало светать, они так громко стучали в дверь хлева своими крохотными, твердыми, как камушки, клювами, что осел начинал реветь, куры слетали с насестов; ероша шерсть, потягивались собаки, принимались мычать коровы, – и воробьи не отлетали от двери до тех пор, пока не вынуждали Георгу выглянуть во двор, вымести из хлева мусор и кинуть им хлебной трухи. «Пить-пить-пить», – просили они, наклоняя головки и окончательно обнаглев от доброты Георги; и он наливал им воды в обломок черепицы. Потом они, чтоб развлечь Георгу, весело щебетали и копошились, дрались и топтали друг друга. За весной следовало лето, за летом осень, за осенью зима… и только воробьи не менялись, никуда не улетали надолго, словно предпочитая всему на свете копошиться в мусоре перед хлевом Георги, словно внимание, щедрость и доброта существа в тысячу раз крупнее и сильнее их самих вынуждали их без конца кружиться под одним и тем же небом, заставляли их забывать другие страны, убеждали их в том, что их место тут, и только тут – на солнце и под дождем, на ветру и в снегу, – что если они хоть кому-то на свете вообще нужны, то прежде всего этому огромному и безобидному существу! Ничто в природе не рождалось без причины и без будущего – ни маленькая серая птичка, ни травинка, прилипшая к копыту осла; все было замкнуто в волшебный круг закономерности, навек связано друг с другом, словно звенья единой цепи, каждое из которых, пусть и самое малое, имело свое собственное, особое значение, заключало в себе некий смысл, подавало некий знак – подавало своеобразно, скрыто; но в конце концов ни этот смысл, ни этот знак не оставались неразгаданными. И один лишь Георга никак не мог понять, какой смысл вложил в его собственное существование тот, кто его создал, какое значение он этому существованию придавал. Узнать это он мог бы только у отца, умершего до его рождения – умершего вместе со смыслом и значением, задуманным им для Георги! Неужто ж он произвел на свет сына для того только, чтоб кто-то в этом мире его помнил, чтобы память о нем исчезла не совсем бесследно, чтоб хоть у сына в сердце остался маленький уголок, пропитанный его запахом, примятый его тяжестью – подобно стойлу проданной лошади? А может, умер он, чтобы подвергнуть Георгу суровому испытанию, чтобы проверить, начнет он искать в своей душе отца или, как бездомная собачонка, покатится под ноги первому же, кто ему свистнет? А ведь он действительно вполне мог принять борчалинца за отца, даже полюбить его, если б мать его вовремя не предостерегла! Или, скажем, признать отцовство майора (который, в сущности-то, ничего другого от него и не требовал) и жить, подчиняясь обстоятельствам. Что от этого так уж изменилось бы? Нет, если б отец действительно создал его только для этого, это было бы злом, чистейшим злом, ничем не оправданной жестокостью к сыну! Майор как будто объяснил смысл жизни Георги, сказав «или убей, или дай убить себя», но говорить такое он не имел права, ибо не он дал Георге жизнь, и сказать это его побудила не любовь, а ненависть; поэтому пожертвовать собой ради майора целью жизни быть не могло, а являлось лишь наказанием, хладнокровно и бессердечно избранным майором за все неприятности, страхи и волнения, перенесенные им из-за Георги. В конечном же счете майор был то же самое, что борчалинец, оба они страдали одним недугом, только лечились от него по-разному: один норовил устроиться в доме вдовы при посредстве щекотки, изюма и меда, другой же начал с того, что просто разрушил этот дом, так что ей самой пришлось как-то приспосабливаться. Было ли и это закономерностью, как смена дня и ночи, погоды, времен года, или случайностью, досадной случайностью? Это Георге предстояло выяснить тоже – собственно, даже прежде всего, ибо, лишь выяснив это, он мог понять и тайну своего предназначения. Действительно ли ему в этом мире надлежало лишь подметать хлев, рубить дрова, таскать воду, вскапывать и обрезать, расчищать и опрыскивать виноградник, кормить воробьев и лежать в пропитанной запахом ослиного пота темноте; или же, сверх всего этого, на него было возложено и что-то другое, безнадежно забытое, навсегда утерянное, погребенное вместе с отцом? Чтоб выяснить это, ему нужно было время, время и терпение. Нужно было выдержать во что бы то ни стало, любой ценой, несмотря даже на то, что для этого у него было лишь одно оружие – ставшее сказкой, окутанное загадочным туманом величие мертвого отца! Хотя нет, не только это: величие мертвого отца и бессилие живой матери. Живая мать была оправданием его жизни, а мертвый отец – оправданием его будущей смерти, ее образцом и целью. Надо было выдержать любой ценой – выдержать, чтобы жить, и жить, чтобы умереть. Не умирает лишь то, что не живет. Человек – это не только жизнь и не только смерть, но и то и другое вместе: и смерть и жизнь, смерте-жизнь в ее неразделимости; и каждая из них создает другую, а обе вместе – человека, для создания которого эта божественная пара так же необходима, как для рождения ребенка родители: мать и отец; как мать, так и отец. Понять это Георге было нетрудно, ибо именно в его родителях все это воплощалось с наибольшей наглядностью. Его мать олицетворяла жизнь, подобно спокойному, прекрасному дереву, цветущему и плодоносящему вопреки всем ветрам и морозам; отец же олицетворял смерть, но смерть сказочных Амирана, Камар-Ханджалы и Цискары, смерть, мудрость и доброта которой внушали людям не страх и суету, а надежду и веру. Напоминал он Георге и их урукийскую реку – реку, которой одного половодья, одного весеннего разлива хватало на то, чтобы потом весь год, до следующей весны, сохранять свое место под солнцем, чтоб ее высохшее русло, усеянное побелевшими на солнце камнями, мутными, агонизирующими лужами и облепленными сухой грязью буйволами, по-прежнему именовалось рекой. Зато каждую весну эти застывшие груды неровных камней превращались вдруг в настоящую реку, и ее мутные, недобро сверкающие воды, быстро заполнив русло и выйдя из берегов, с грохотом тащили за собой запряженные волами арбы и огромные, вырванные с корнем деревья – все, что оказывалось на их пути, как бы оно ни сопротивлялось. Прекрасная и страшная в эти часы, стосковавшаяся по шуму и быстроте река за день-два нерасчетливо тратила весь запас воды, отпущенный ей далекими горными ледниками на целый год. Да, река прекрасно жила и прекрасно умирала… а потом в ее неровном, выбеленном солнцем, похожем на смятую постель русле оставались лишь маленькие лужицы – дети, рожденные от недолгого самозабвенного, жертвенного супружества горного потока с жизнью и теперь на год осиротевшие. Рядом с ними лежали буйволы, подобные овдовевшим матерям, – еще ошеломленные гулом исчезнувших вод, неподвижные и величественные, словно изваяния языческих божеств, они своими тенями как бы защищали сирот реки от палящего, безжалостного солнца. И Георга походил на оставшуюся от потока лужицу, и у него была своя спасительница, своя богиня; и хотя он не мог воспринять ее целиком, как маленькая лужица не может отразить всего буйвола с головы до ног, ее существования, ее близости, ее многозначительного молчания было достаточно, чтоб он стойко переносил и зной, и оседавшую на дне души муть, чтоб и он дожидался весны, очередного возвращения отца – дожидался, не испаряясь в небе, не исчезая под землей…
– Как я верил… как же я, дурак, верил! – сказал Георга.
– Верил? Во что? – спросил его майор.
– Да вот… что ты мне ружье подаришь! – улыбнулся Георга.
– У тебя, я вижу, пасть одна только и растет… и жрать, и пустяки болтать ты мастер! – сухо заметил майор.
– Почему? Что я тебе сделал не так? Уксусу тебе налил вместо вина? Или постель твою зажег вместо камина? А? – еще шире улыбнулся Георга.
– И такое может случиться! – улыбнулся и майор. – Ты, Георга, ненадежен… нет! Врага в доме держу.
– Врага? – Георга поглядел на дом, в котором находились его мать и брат. – Врага? – задумчиво, с сомнением и надеждой повторил он это короткое слово, как больной название лекарства, только что ему порекомендованного, но лишь еще раз напомнившего ему старую, неизлечимую болезнь и множество других лекарств, уже безуспешно испробованных…
Георга знал, что майор его ненавидит, но не ставил ему этого в вину, понимая, что у этой ненависти есть свои причины. Ведь он знал майора лучше всех; он один знал, что майор – трус, предатель и насильник. Георга был первым, кого поразила трусость майора, – вот на чем, оказалось, были построены все его мечты и надежды, рухнувшие в ту ночь при звуке выстрела, как карточный домик. Георга вообще предпочел бы честное поражение майора его трусливой победе; поэтому он и крикнул тогда с балкона сбежавшимся на выстрел соседям: «Это дядя Кайхосро стрелял» – он все еще пытался сохранить мечту и веру, привести майора в чувство, вернуть его на путь справедливости и добра. Но майор не только не стал оправдываться, но и больно ткнул его в подбородок, приказал ему молчать! «Чего ты орешь, щенок…» – злобно прошипел он, тоже сразу поняв, что в глазах Георги он разоблачен полностью, что его истинное лицо, заново родившееся в сознании Георги, надо если не уничтожить, то хоть навсегда запереть в этом сознании, сделать невидимым для других. С этой минуты Георга стал зеркалом, в котором отражались не только благородная седина висков и ослепительный блеск мундира, но и каждый темный уголок души майора. Что ж удивительного было в том, что тот возненавидел это зеркало, хотел бы залепить его грязью? Поэтому ненависть майора Георга считал вполне естественной; в глубине души мальчик даже жалел отчима, ибо был уверен, что этой лишь ненавистью вызваны и его дурной характер, и сварливость, и жадность, и желчь, и постоянный, неугомонный страх, прыгавший в его беспокойных глазах, как крапивник в колючих терновых ветках. Все это Георгу, конечно, не восхищало – и все-таки втайне он сочувствовал майору, понимая, что птичка страха, прыгавшая в глазах отчима, вылупилась на свет не без его собственного участия, что в схватке майора с борчалинцем виноват прежде всего он сам. Поэтому единственным, что он испытывал к майору, было разочарование, с чувством вражды не имевшее, однако, ничего общего, хотя испытывать его было еще трудней. Стать же врагом мужа своей матери и отца брата ему и в голову не пришло б! Как бы ни был майор жесток и несправедлив к Георге, разоблачать его тот все равно не стал бы, хотя бы ради матери и брата…