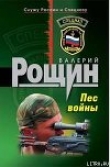Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
– Ты, братец мой, всю неделю пьянствовал, двадцати копеек и то не наработал… Дать тебе сейчас рубль-два просто так, задарма – ты ж еще хуже сопьешься! Тогда-то тебя не то что семья голодная, а сам господь бог работать не заставит! Что, не так? – спрашивал Ягор, сидя в двери будки и держа на коленях расчетную книгу.
– Истинную правду говорить изволите! – поддакивали сокрушенные его прозорливостью и справедливостью рабочие.
Мало ли они получали, много ли – деньги эти шли через Ягора, выдавались им, и рабочие воображали, что без него они остались бы вовсе без хлеба. Поэтому его не только боялись, но и почитали. Постепенно Ягор стал необходимым и для их семейной жизни: ему они рассказывали все, что с ними случалось, все, из-за чего они ссорились, ненавидели или любили друг друга. Лишь один человек глядел на него с сомнением: втихомолку, за спиной он предупреждал других, что Ягор их всех погубит. Но ему не верили, верней, его просто не слушали. Слушать его у них не было ни времени, ни охоты: мысль о ссоре с Ягором страшила их больше всего на свете.
Ягор знал, что в бараках у него есть враг, но пока что он закрывал глаза, не снисходил до него. Возможно, впрочем, что этого врага он и побаивался… жену его он, во всяком случае, никогда не возил «на дело» в гостиницу в Телави, как других женщин, и получку ему всегда выдавал точно до копейки. Но помимо этого, без ведома Ягора в бараках и мышь пискнуть не смела! Женщины спрашивали у него раньше, чем у собственных мужей, сохранять им беременность или нет.
– Чем больше щениться будете, тем лучше! – отвечал он женщинам. Грязная, жидкая бороденка липла к его темным скулам, как запекшаяся кровь, и было нелегко понять, презрением или сочувствием блестят его зеленые глаза, жалеет он этих женщин или высмеивает. – Наша сила в многолюдстве! Чем больше нас будет, тем больше денег мы выудим у богатых, тем скорей разбогатеем сами… – проповедовал он откровенничавшим с ним женщинам.
Он вовсе не издевался над этими невежественными, несчастными существами – он нуждался в них, только чтоб издеваться над жизнью! Должность надсмотрщика пробудила в нем прежде всего волю к борьбе. Он и сам не заметил, как в нем родился другой – верней, даже не другой, но новый, обновленный Ягор, объявивший войну не на жизнь, а на смерть той жизни, к которой с таким трепетом и дрожью тянулся Ягор прежний… жизни надушенной, нежившейся в пене шелка, атласа и парчи, но ни старым, ни новым Ягором нисколько не интересовавшейся, не желавшей признать его достойным себя, бросить из окна своей хрустальной башни веревочную лесенку и ему. Поэтому-то и было необходимо, чтоб жизнь эта, как говорил новый Ягор, сама до него опустилась, сама стала достойной его! Приняв такое решение, новый Ягор окончательно победил старого и вновь стал человеком единым, но более, чем прежде, упрямым, сильным, коварным и беспощадным, человеком, для которого все средства были чисты и хороши, если они сулили успех.
Выбраться из дерьма Ягор рассчитывал на костях своих новых подданных: как прежде покойники, так теперь и эти люди нужны были ему лишь для продления собственного существования до лучших времен. Ибо он был твердо уверен, что одно место в той, хорошей жизни после смерти отца осталось незанятым и по праву принадлежит ему, только ему, законному и достойному наследнику своего отца!
Итак, не считая одного-единственного исключения, во владениях Ягора был полный порядок, основанный на его божественной справедливости. Впрочем, в убогих рабочих бараках Цнори не случалось ничего такого, чего не происходило бив куда более известных городах и странах. И все-таки один смутьян нашелся! Не сумев привлечь на свою сторону никого другого, он однажды, напившись до бесчувствия, ударил увлеченного своей проповедью Ягора топором по голове и этим лишь еще больше возвысил его в глазах людей, ибо то, что они в тот вечер увидели, действительно превосходило любое чудо. Расскажи им это кто-нибудь со стороны, они в это, хоть умри, не поверили б, но еще невозможней было им отрицать то, что они видели собственными глазами. Восседая на холмике гравия, Ягор рассказывал рабочим о соблазнах богатой жизни. По его рассказам получалось так, что погреба, набитые французскими винами, дома в позолоте, хрустальная и фарфоровая посуда, полные цветов коляски, красавицы в тонких, как паутинки, платьях – все это было ничьим и нетерпеливо дожидалось появления ста – двухсот измученных, оборванных, вымазанных в грязи и мазуте людей, которых сам-то Ягор и людьми не считал!
Они слушали его так внимательно, что никто не заметил, как пьяный мятежник подкрался к нему сзади. Они не услыхали даже шороха гравия – и все-таки все (кроме самого Ягора) одновременно увидали, как подкравшийся выхватил спрятанный под рубахой топор, чтобы изо всех сил ударить Ягора по голове. А тот все еще говорил, не разглядев по лицам людей подстерегшей его опасности. Возможно, впрочем, он ее и разглядел, возможно, он даже заранее знал, что произойдет, но ни пугаться, ни бежать и не подумал. Бояться ему было нечего – наоборот, он явил людям чудо и тем самым доказал им свою неуязвимость. Голова Ягора отразила ударивший по ней со всего размаха топор – от нее лишь искры посыпались, как от булыжника при ударе лошадиного копыта. Глаза пьяного вылезли на лоб, и он сразу так протрезвел, словно в жизни в рот ничего не брал, кроме материнского молока! Будь он пьян по-прежнему, он испугался б не так сильно, но он не выбросил топор, а выронил его, не сам встал на колени, а они у него подкосились. Он не удержался и на коленях и, уткнувшись лицом в гравий, покатился с холмика; но Ягор и не шевельнулся, даже не провел рукой по голове – он по-прежнему восседал на холмике гравия, словно разгневанный бог перед провинившимся народом. Внезапно люди сорвались с мест и набросились на засыпанного гравием мятежника… не мятежника уже, а протрезвевшую и понявшую неизбежность своей гибели жертву. Ягор не шевельнулся и тут. «Убейте и его… и его тоже!» – грозил, умолял мятежник, выплевывая изо рта мелкий гравий; а люди втаптывали его в этот гравий все глубже и глубже. Потом у кого-то в руках блеснул лом; кто-то рассек ходивший под ногами гравий острием заступа. Но Ягор не пошевелился и теперь, он все так же сидел с другой стороны холмика, как бы не зная, да и знать не желая, что происходит за его спиной. Жертва не кричала, уже даже не двигалась, но люди по-прежнему молчаливо и упрямо топтали то место под гравием, где должно было находиться тело. Казалось, что они не человека убивают, а возятся с какой-то работой! Потом все стихло, но не кончилось. Все молча ждали, не зная, как им быть, какой карой грозит им это совместное убийство…
– Теперь убирайтесь и хорошенько запомните, что вы тут натворили! – сказал им Ягор.
До администрации случившееся не дошло – убитый по-прежнему числился на работе, и на него выписывались деньги, которые Ягор и вдова честно делили пополам.
Время шло, природа обрастала новой кожей и новыми волосами; постепенно она привыкала и к железной дороге, осваивалась с ней, как мать с украшениями, подаренными ею взрослыми детьми, но к ее возрасту и одежде совершенно неподходящими. Проповедь же Ягора так и оставалась проповедью: как и множество других учений, она имела то странное свойство, что лишь обещала, но ничего не давала, призывала к борьбе, но одновременно обрекала на еще большие терпение и покорность. Люди по-прежнему слушали то, что слышали от него уже десятки раз; но от прежнего внимания и любопытства не осталось почти ничего – теперь между пастырем и приходом возникло если не недоверие, то уж во всяком случае равнодушие. «Это не люди, а скот! – думал Ягор. – С ними мне не по пути. Им только б кого-нибудь в землю втоптать – меня или кого другого, безразлично!» После убийства он совсем охладел к своим подданным. Его ужаснула их рабская, бескорыстная суровость и беспощадность – но он, конечно, понимал, что малейшее проявление этого страха тут же б его погубило. Чего только с ним не приключалось, через какую только грязь он не пролезал, в какие щелочки не пробирался, но ничего похожего на эту историю он не видел еще никогда. Главным, поразившим его больше всего, даже сбившим его с толку было то, что эти люди ничего не хотели, – как трава, которой все равно, кто на ней будет пастись, кто ее вытопчет или скосит! Свобода и богатство интересовали их столько же, сколько его самого надзор за их работой, или еще даже меньше. Его слова они слушали не потому, что понимали или одобряли их смысл, но потому, что считали себя обязанными слушать, а точней – стоять и молчать, когда он этими словами сгонял их в кучу, словно скотину плетью. Они инстинктивно ощущали, что им необходимо держаться всем вместе, потому что у них нет ничего своего – ни лица, ни голоса, ни желания, ни мечты… Каждый из них в одиночку и мухи не убил бы, а все вместе они могли не задумываясь совершить любое преступление, ибо тем же инстинктом чувствовали, что смысл всего их существования – в способности к общему греху и в бурной, болезненной, почти сумасшедшей жажде искупления. Поэтому тем, кому потаскуха судьба поручала надзор за этими людьми, необходимо было прежде всего, прежде жалованья, доставлять им возможность греха и искупления! За это они будут терпеть все: и воровство из их скудных заработков, и торговлю их женами и дочерьми – ибо по их вере и это входило в искупление. «А что с них взять? – думал Ягор. – Конечно, это не то, чего я хочу, и все-таки лучше того, что у меня было…» Может, он и вправду был достоин лучшего, но считать себя совсем уж обделенным судьбой с его стороны было бы просто свинством – у него были и доход, и власть. Правда, большую часть этого дохода ему приходилось возвращать в административные дебри, но взамен-то из этих дебрей и выходила его власть! Тут, на месте, у него начальников не было. Лишь изредка в его владения вторгался какой-нибудь инспектор или представитель Красного Креста, чтоб тоже урвать у него целковый-другой. Один для виду перелистывал книги; другой наскоро обрызгивал мусорные свалки водой с известью – этим вся их деятельность и кончалась.
– В стране холера, голубчик… холера! – говорил представитель Красного Креста, уже убегая вместе с инспектором в другую сторону, чтоб и там погреть руки на грязи мира…
А он оставался в своем маленьком мирке, в собственном крошечном царстве, слишком еще слабом для того, чтобы покорять соседей, и все-таки заставлявшем их уже учитывать и признавать его, даже торговать с ним. Танцовщицы-гречанки в батумской гостинице, как у отца, у него, конечно, не было, но гостиница в Телави с ликованием встречала его каждый раз, когда он со своими девками появлялся у задней, открытой лишь для своих двери. И все-таки он ни на миг не допускал, что это предел его возможностей, ни на миг не переставал ругать судьбу – чтоб она не сочла его удовлетворенным, не скинула его со своих счетов окончательно! Он был отчасти уже связан с миром, в который его так тянуло, но связан еще только как мышь с человеком: места и прав в этом мире у него было столько же, сколько у мыши в человеческом жилище. В сущности, и это было не так уж мало! Сейчас он уже четче, ясней слышал и ощущал шум, гомон, аромат той жизни, но близость эта была ему так же тяжка, как мыши близость темной, затихшей, пропитанной запахами божественных блюд кухни. По ночам он тоже проникал в тот мир; днем же он, как мышь, ютился в своей норе, и над его головой шумела жизнь – смелая, веселая, беззаботная, не испытывавшая от его ночных похождений никакого ущерба. Похищенных им крошек она и не замечала, а если обнаруживала на чем-либо следы его зубов, то попросту выбрасывала весь кусок на свалку – выбрасывала без малейшей жалости, испытывая лишь брезгливое, холодное презрение. Это бесило, терзало, мучило его; но своим безошибочным мышиным чутьем он чувствовал, что оставаться в норе скоро станет для него опасней, чем выглянуть наверх, порезвиться на палубе, до тех пор служившей жизни полом, а ему крышей. Покинуть свою нору Ягору пришлось даже раньше, чем он рассчитывал, но не для прогулок по палубе, а для того, чтоб найти нору еще поглубже и понадежней…
В тот вечер он, как всегда, лежал навзничь на нарах из неструганых досок и, погрузившись в мечты, проклинал свою судьбу, впившись глазами в потолок, от дождей покрывшийся пятнами.
– Выгляните на минутку, будьте добры! – послышался ему вдруг женский голос.

Голос этот показался Ягору знакомым; нежный, ласковый и вместе с тем требовательный, он был из «той страны», из «той» жизни. Ягор вскочил с нар, как новобранец при звуке боевой трубы. Перед дверью будки стояла какая-то женщина в черном. Лишь сейчас он заметил, что на дворе уже ночь; в ноздри ему бросился запах дыма. Застывшие тени бараков, казалось, жались друг к другу, как бы сливались в одну тень.
– Кто такая? Чего нужно? – крикнул он женщине, словно желая спугнуть призрак.
– Я из семьи Макабели, из Уруки. Мне нужно видеть инженера-путейца, – ответила женщина и оглянулась по сторонам, словно ожидая увидеть кого-то и удивившись тому, что его тут нет. – Мне на вас указали… говорят, вы знаете, – продолжала она, как бы извиняясь перед Ягором и устремив на него ищущий, умоляющий взгляд.
Но Ягор не видел лица женщины: его стер мрак. «Нарочно ко мне отправили, а теперь ждут, как я поступлю. Сквозь все щелки за мной наблюдают! В темноте сидят…» – подумал он.
– Макабели? Какие такие Макабели? – спросил он вслух.
По-прежнему не видя ее лица, он почувствовал, как ее смутил этот простой вопрос. Стоя в темноте, она колебалась, словно с трудом вспоминая своих родных.
– Отец торгует вином… Инженер-путеец у нас был, он нас знает, – с трудом выговорила женщина. – Он у нас зимой был… да и сегодня, на похоронах деда, тоже, – поспешно добавила она.
«Или врет, или чокнутая!» – подумал Ягор.
– Так вы, значит, торговцы? – спросил он вслух.
– Нет! – почти выкрикнула женщина, словно вдруг погнушавшись этим словом, почти даже обидевшись. – Наша семья княжеская, – сказала она дрожащим голосом. – Торгует только отец. Дедушка был майор. Один мой брат в России учится, другой гуляет… веселится! – Но ее смех был деланным, это Ягор заметил сразу, без труда.
«Смеется! Надо мной смеется…» – подумал он.
– Погоди-ка, я лампу зажгу. Посмотрим, что нам за княгиню бог послал! – громко сказал он.
– Мне нужен инженер-путеец. Может, вы скажете, как мне его найти! – сказала женщина. Теперь в ее голосе уже ясно слышалось волнение.
«Скажу… все тебе скажу, раз уж ты сама пришла!» – подумал Ягор, входя в будку, слившись с темнотой будки.
– Тебе какого инженера? Тут инженеров много! – крикнул он из темноты.
Женщина почувствовала, как учащенно забилось ее сердце, – лишь сейчас она впервые поняла, что не знает даже имени человека, в надежде на которого покинула отцовский дом. Страх вырос откуда-то из-под земли, заполз к ней под платье, обвил ее своими сильными, слизистыми щупальцами. Прорезь в двери медленно осветилась, заполнилась желтым светом, и она отчетливо увидела обращенное к ней лицо – лицо не мужчины, а дьявола; именно таким она представляла себе дьявола по рассказам матери и няни! Он обеими руками опирался о стол; перед ним стояла зажженная лампа, и казалось, что его подбородок опущен прямо на нее, чтоб ей были видней его зеленоватые глаза под веками без ресниц, удлиненные веснушчатые скулы, взъерошенная жиденькая бороденка и огненно-рыжие волосы.
– Заходите, сударыня… – услыхала она голос мужчины.
«Заходить не надо… нельзя!» – подумала она, входя в будку, внося туда с собой те же вцепившиеся в ее ноги слизистые щупальца страха. Она чувствовала, что сейчас с ней произойдет что-то необычное, но неизбежное, обязательное, заслуженное. Она не пыталась спастись – она просто стыдилась своего дурацкого поведения. Что ж это, в самом деле, такое? Она заявилась к незнакомому человеку, обеспокоила его, может, даже разбудила – и все лишь для того, чтоб задать ему глупую загадку: ищу, мол, сама не знаю кого, отгадай-ка ты…
– Его зовут Нико, – сказала она вдруг. – Да, кажется, Нико… как моего брата… – Одна ее нога стояла уже внутри будки.
– Нико, говоришь? – нахмурил лоб мужчина. – Я знаю Мито… он иногда на наш участок приезжает. Он в Телави живет… в казарме.
– Это он, он… я, кажется, ошиблась… – Она обрадовалась и тому, что оказалась не совсем обманщицей, что какой-то инженер-путеец по имени Мито все-таки действительно существует. «Мито…» – повторила она про себя. Она уже стояла внутри будки, у раскрытой двери. Во всю длину одной из стен протянулись узкие нары; у одного конца нар стоял стол из неструганых досок, у другого – железная печка. Остального пространства едва хватало на то, чтобы в нем мог повернуться один человек; второй, кем бы он ни был, был тут лишним, мешающим. Вероятно, и воздух в будке был рассчитан на одного. По-прежнему опираясь руками о стол, мужчина не сводил с нее глаз. «Хе-хе…» – коротко усмехнулся он, как бы прочищая горло. Позади нее была темная, пустая, зловеще притаившаяся ночь. Отойдя хоть на шаг назад, она оказалась бы среди ночи, затерялась бы, скрылась бы от отливающих зеленью глаз мужчины.
– А дома у вас дверей нет? – спросил он с улыбкой в голосе.
– Ой, простите… – смутилась женщина, закрывая за собой дверь.
От жары и тесноты у нее сразу закружилась голова. Единственный возможный путь отступления она отрезала себе сама, собственноручно. Повернувшись, она чуть было не наткнулась на мужчину. От смущения она не знала, как ей быть, что сказать, – этот чужой мужчина был настолько рядом, что и дышать было неудобно. А его лихорадочное, пахучее, липкое, тяжелое дыхание заливало ей лицо, словно горячий пот…
– Заходите, присаживайтесь… гостя бог посылает! – сказал мужчина внезапно изменившимся, жутко охрипшим голосом.
Он схватил ее за руку выше локтя и почти насильно усадил на нары.
– Это мамино… я его люблю, – жалобно улыбнулась женщина, поправляя смявшееся на плече платье.
Мужчина присел рядом с ней; его большие, багрово-красные руки лежали теперь у него на ляжках.
– Я что, хуже твоего инженера? – спросил он и снова коротко, неприятно усмехнулся. – Тут, правда, тесновато… но отдохнуть можно и тут…
– Ну что вы… я вас и так обеспокоила… – Она попыталась встать, но мужчина положил ей на плечо свою руку, горячую, тяжелую, опасную. – Мне надо повидать его сегодня же… дело неотложное! – беспомощно дернулась она.
– Дело твое все равно хотя бы до утра отложить придется, – сказал мужчина. Его рука все еще лежала у нее на плече. – Ну-с… а теперь говори правду: кто ты такая и кого ищешь в такую темень? Прогнал тебя муж или ты сама от него сбежала? Не бойся, мне можно сказать все… – Женщина удивленно взглянула на него. – Значит, ты предпочла его мужу, даже имени не спросив? Хе-хе… вот это, я понимаю, женщина!
Она сидела, вся съежившись, словно и не слыша его слов. Плечо, на котором лежала его тяжелая, горячая рука, взмокло от пота – сейчас она стыдилась и этого, боялась увлажнить его руку. Словно почувствовав это беспокойство, мужчина убрал руку с ее плеча, но убрал недалеко: теперь он просто обнял ее, силой привлек к себе. «Не бойся… не бойся!» – срывающимся голосом шепнул он ей на ухо. Его нога так сильно дрожала, так прыгала по полу, словно собралась бежать куда-то одна, без него. «Помоги мне сейчас… только сейчас, сейчас…» – мысленно попросила кого-то женщина.
– Ты что, ничего не чувствуешь? Меня ты, значит, ни в грош не ставишь? – взревел вдруг мужчина, опрокидывая ее на нары.
Он, конечно, замышлял покорить ее, но не так скоропалительно. Он рассчитывал, что все произойдет само собой; но равнодушие и спокойствие женщины его взбесили. Она вела себя так, словно он и догадываться не мог, для каких темных дел она вышла из дому, какие темные дела заставляли ее шляться в такую темень наподобие мартовской кошки! Его она просто не считала мужчиной, одним из тех мужчин, оставаться с которыми наедине женщины если не боятся, то хоть остерегаются… его она принимала за своего покорного раба, обязанного и без слов догадаться, кого ей нужно разыскать и привести! «Знаю я вас всех… ты-то и имя мое забудешь! Никому признаться не сможешь – постыдишься… Такого тебе ни муж, ни любовник никогда не простят!» – злобно думал он. На мгновение он все-таки ощутил какую-то помеху, задержку, но отступить уже не смог. Под материнским платьем скрывалось ошеломляюще слабенькое, беззащитное, еще не созревшее детское тело. Девочка и не вскрикнула; и все-таки Ягор прикрывал ей рот ладонью – должно быть, инстинктивно, помимо собственной воли.
– Так и знал, что без крови нам не обойтись… – сказал он немного погодя.
Он стоял на коленях и, все еще тяжело дыша, глядел на девочку в задранном до подбородка платье. Девочка лежала неподвижно, с застывшими глазами, холодная и бесчувственная, как кукла.
– Почему ты меня не предупредила? А? – крикнул Ягор.
На лицо девочки падал свет лампы; ее пустые, застывшие глаза блестели, как осколки стекла. Ягор невольно отвел взгляд. «Не померла б еще…» – тревожно подумал он, слезая с нар.
– Сама виновата! – сказал он, повернувшись к ней спиной и застегивая брюки. – Ты-то, конечно, рада все на меня свалить… – притворно усмехнулся он. При этом, однако, его лицо не изменилось, словно у него было второе лицо, скрытое под первым, грубым и безмолвным, как глиняная маска, и лишь это второе лицо и смеялось. – Не знаю, как ты, а я проголодался… – вновь повернулся он к девочке. – Интересно: ты-то чего на меня дуешься? Такая уж, значит, у тебя судьба… – Он опять попытался засмеяться. – Да прикройся ж ты! – крикнул он вдруг. Девочка не пошевелилась. Наклонившись к ней, Ягор прикрыл ее тело задравшимся платьем; но она лежала неподвижно, как покойница, и одна ее нога так и осталась обнаженной до бедра. – Если ты ищешь Мито, то он будет здесь утром. Должен быть… обещал, – сказал он, вновь отвернувшись от девочки. – Он, знаешь, тоже немного чокнутый, Мито твой! – усмехнулся Ягор. – Деревья спасать ушел… ради двух паршивых платанов, говорит, железную дорогу в сторону отведем. Да кто ж ему позволит? – Ягор опять усмехнулся. – Теперь не то что деревья – люди гроша медного не стоят!
Потом он долго молчал. Где-то очень далеко лаяли собаки. Она лежала на нарах, а Ягор возился у стола – так, словно ничего особенного не случилось и эта незнакомая девочка каждый вечер так и лежала, вытянувшись, словно покойница, на нарах в его будке. Нагнувшись к ящику, на котором было крупными, но незнакомыми буквами что-то написано, а над этой надписью изображен череп со скрещенными костями, он не спеша вынул оттуда огурцы и помидоры, стакан с серой, крупного помола солью, завернутую в грязную тряпицу буханку хлеба, бутылку и нож с деревянной ручкой и почерневшим лезвием. Помидоры он помыл в стоявшем на печке тазике, а огурцы очистил, медленно, осторожно, словно боясь порезать себе пальцы.
– Ну вот… это все, что есть, – сказал он, не оборачиваясь к девочке. – Вставай, поедим… Ты ж у нас хозяйка плохая! – усмехнулся он. – И водочки немного есть… мертвого оживит! – Он вытер мокрую руку о собственную грудь и щедро посолил нарезанные огурцы и помидоры в миске. Второй рукой он взялся за бутылку, зубами вытащил пробку и, понюхав, прищурился, потом он выплюнул пробку и, приложившись к бутылке, громко, основательно глотнул. – Ты б хоть сказала, как тебя зовут! Или это тоже секрет? – Он снова приложился к бутылке, еще основательней, чем в первый раз. – Меня вот зовут Ягор… – икнув, он ударил себя кулаком в грудь. – Ягор! – сердито повторил он, проведя рукой с бутылкой по обожженным водкой губам. В помещении сильно запахло водкой. Далеко, где-то очень далеко опять лаяли собаки…
Разума Аннета не теряла ни на минуту – разум оказался единственным местом, куда она могла укрыться. Едва мужчина бросил ее на нары, она тут же отказалась от своего тела и укрылась в разуме, словно население, укрывающееся во время войны в крепости и оттуда с бессильным сожалением и ненавистью наблюдающее, как враг разоряет и опустошает оставленную без защиты страну. Разум Аннеты был не в силах защитить и спасти ее тело, но он с бдительностью и добросовестностью зеркала воспринимал, запечатлевал все, что с ней происходило. «Агатия знала, что это случится… знала!» – думала она, укрывшись в разуме, с жалостью и отвращением глядя на собственное тело. Никогда еще она не видала его таким нагим, беззащитным, жутким и все-таки близким ей, как родная сестра – сестра, только что родившаяся мертвой из черных складок материнского платья. Да, платье мертвой матери родило мертвую сестру Аннеты – ничего удивительного в этом не было! Если б теперь этот мужчина ее и отпустил, даже выгнал вон, она все равно б не ушла; ее место было именно тут, возле мертвой сестры, которую он вытащил из материнского платья, как из могилы, а потом вновь спрятал в это платье, словно обратно в могилу. Она была обязана лежать тут, как надгробный камень, как опознавательный знак на могиле сестры! На мужчину она не сердилась – его присутствие мешало ей не больше, чем мертвецу пасущаяся на кладбище корова. А он хлебной коркой выгребал из миски последние ломтики. «Остатки сладки…» – сказал он, снова приложившись к бутылке; Аннета увидела даже, как двигался при каждом глотке его кадык. Потом он вышел из будки и оставил дверь полуоткрытой. Снаружи ворвались гудение стрекоз и ночная прохлада; Аннета почувствовала, как вытянувшаяся на нарах покойница покрылась мурашками. Внезапно ей вспомнился сон, верней, два смешавшихся друг с другом сна. Во сне они с Агатией шли к роднику, чтобы смыть с лица слюну Сардиона; но у родника она оказалась одна, и водой из горсти ее поил именно этот только что вышедший из будки мужчина. «Агатия знала… Агатия знала!» – упрямо твердила про себя Аннета. Мужчина вернулся и закрыл за собой дверь. У двери он помедлил, словно к чему-то прислушиваясь, потом повернулся к столу и сильно дунул в стекло лампы. Свет сразу погас, хотя по задымившемуся фитилю еще долго бегали маленькие, блестящие искорки. Аннета все-таки увидела, как мужчина вновь разрывал могилу, трусливо, нетерпеливо, как шакал! Через мгновение по ногам ее мертвой сестры еще раз скользнула холодная, как змея, рука…
Потом в будку вошли инженер-путеец и ее дед. Дед был в мундире, с подвязанной черным платком челюстью. «Да… но почему ты не сопротивлялась?» – спросил он. «Сейчас не до этого!» – сказал инженер-путеец. В стену будки лихорадочно билась жужжащая оса. Солнце стояло прямо перед лицом Аннеты – она вспотела, как спеленатый в колыбели младенец. Потом она почувствовала резкий запах конфет и увидела Дусу. «Надо было ударить его ногой в пах, дурочка… я ж тебя учила!» – сказала Дуса и положила ей в рот конфету. Аннете хотелось выплюнуть ее, но это ей не удавалось – не хватало сил; и пальцы Дусы впихивали конфету обратно. «Я думала, что твоего отца паралич разобьет!» – говорила Дуса. «Сейчас не до этого… не до этого… не до этого!» – твердил где-то за ее спиной инженер-путеец. «Надо все-таки возбудить дело…» – отвечал ему дед Аннеты. «Значит, он существует на самом деле. Пришел ведь… пришел все-таки!»– думала Аннета, выталкивая языком конфету, стараясь как-нибудь вытолкнуть ее изо рта – слепо, инстинктивно, как только что вылупившийся кукушонок выкидывает из гнезда птенца своей приемной матери. «Это мне назло, мне… чтобы мне досадить!» – говорила Дуса. Потом она вместе с дедом, инженером-путейцем и Дусой сидела в коляске. У нее кружилась голова, в глазах рябило, дыхание захватывало так, словно она, стоя на качелях, должна была вот-вот оторваться от них, улететь, навсегда исчезнуть в сверкающем пространстве. Она не могла понять, радостно это ей или страшно; и все-таки она ясно ощущала все окружающее, ощущала и то, что сидит в коляске между Дусой и путевым инженером, обессиленная, изможденная, беспомощная! А прямо перед ней сидел ее мертвый, сердитый, насупленный, багровый дед. Коляска легко покачивалась в мягкой пыли; лошади, мерно стуча копытами и пофыркивая, мчались в далекое прошлое, в детство Аннеты – казалось, все еще длится тот день, когда Александра везли домой из больницы, и сердце Аннеты сжималось от страха, жалости и печали, овладевших ею тогда при виде брата. Коляска, спокойно покачиваясь, катилась вперед, словно и она была той же самой – пропахшей больницей и лекарствами, вместившей в себя одновременно и радость, и печаль, и счастье, и несчастье, и красоту, и уродство. И дорога была все та же, сверкающая белизной, затененная лениво покачивающимися ветками, без конца извивающаяся между радостью и печалью, счастьем и несчастьем, красотой и уродством! А вокруг нее чередовались те же окрестности, те же обрывы, рощи, деревни, изгороди и заборы… казалось, даже осел, оцепенело стоявший вдали от дороги и упрямо глядевший в потрескавшуюся от засухи землю, был тот же, что и тогда. Коляска, покачиваясь, катилась вперед, и еще одна жизнь покрывалась горячей, мягкой пылью вечной дороги, вот и все.
А потом она сидела под липами с закутанными в плед ногами, и тут ей было знакомо все: и двухэтажный дом, и хлев, и железные ворота, и бесконечный треск барабана. Двор был полон дорогими для нее видениями, навек оставшимися внутри этой ограды, не сумевшими уйти отсюда и после смерти. Вокруг сидящей под липами, неподвижной, как кукла, Аннеты без конца кружились тени трех женщин: матери, бабушки и няни. Все три явно хотели забрать ее с собой, но подойти к ней поближе все-таки не решались или не могли – они были как бы подвешены на невидимых нитях, и воздух двигал их как хотел. «Иди к нам!» – махали они ей руками. Но уйти к ним она не могла: ноги ей больше не подчинялись; и, бессильная что-либо сделать, она лишь примирительно, успокаивающе улыбалась, как бы говоря: «Куда уж мне к вам – я и так с вами…» А братья ее в этом дворе были вновь маленькими, вновь то карабкались на липы, словно стремясь дотянуться до неба, то тщетно старались угнать двуколку доктора Джандиери. Аннету они не замечали и сейчас, настолько увлекали их эти игры. Зато заменивший их человек навещал ее часто. «Ты только поправляйся, выздоравливай… и прости меня!» – умолял он ее глазами, как богомолец икону. Смотреть на него Аннете было приятно; она улыбалась и ему, примирительно, успокаивающе, как старой и рухнувшей мечте. Так шло время. Каждое утро Дуса и Петре, если не было дождя, выносили ее во двор вместе со стулом – и она, как спокойный, послушный ребенок, сидела под липами до тех пор, пока за ней не приходили. «Посажу тебя, бывало, среди подушек – и сидишь, ножкой не двинешь, даже если б я тебя и вовсе забыла…» – говорила ей тень Агатии. И Аннета уж не сердилась на нее, как сердилась два-три месяца назад, когда то же самое говорила ей Агатия живая, – сердилась, потому что и сама была еще жива и, как любой подросток, зло, раздраженно пыталась утаить в себе все врожденное, характерное, основное! Но чтоб она это поняла, должна была умереть и последняя ее наставница; сама же она, оставшись одна, должна была при первом же выходе из дому броситься под колеса жизни, стать жертвой своей мечты, своих беспокойных, как стригунки, ног…