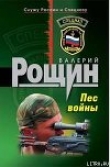Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
– Ну что ж… идти надо, – говорит Александр Марте.
– А вдруг мы там никого не застанем? – спрашивает она, не поворачивая головы и как бы отвечая не на слова, а на мысли дяди.
– Застанем, детонька, не бойся! А если и нет – я ведь тут, с тобой… – пытается успокоить ее Александр, сам встревоженный ее словами.
– Я не боюсь… – говорит Марта. «Ничего я не боюсь!» – добавляет она про себя.
Цнори блестит на солнце, словно ее посыпали толченым стеклом. За спиной у Александра и Марты гудит рынок. Перед зданием вокзала поблескивает черный дилижанс; кучер подает залезшему на его крышу мальчику чемоданы и узлы. Вдоль новых домиков стоят невысокие, еще молодые орехи. От пота на рубахе Александра появились два бесформенных черных пятна, словно ему только что отрезали крылья и из ран еще сочится горячая, дымящаяся кровь. Он идет, шагает по проулку, и за ним следует Марта. Спугнутые ими воробьи садятся на колья изгородей, дожидаясь, пока они пройдут, чтоб вернуться к своей кучке навоза посреди дороги. Девочка, на вид сверстница Марты, ухватив козленка за рога, куда-то его тащит; козленок сопротивляется, тянет девочку в сторону, своими негнущимися ножками скребет землю, и его влажные, удивленные глаза глядят на Марту. В глубине двора женщины, прикрыв рты белоснежными косынками, топят печь для выпечки хлеба. Над гудящей печью колышется теплый воздух, из нее вылетают пепел и искры. В высыпанной у забора золе копошится черная курица с красным гребешком – кажется, что и она одним глазом рассматривает Марту. Все это Марте уже знакомо. Чуть ли не всю дорогу от Дарьяла до Тбилиси они прошли пешком, лишь от Тбилиси до Цнори ехали поездом; но многое она успела разглядеть и из окна поезда. Цнори, впрочем, не похожа на другие деревни: ей не хватает выцветшей от времени черепицы, дремотного уюта старых каменных стен. Этого Марта, конечно, еще не понимает – она лишь чувствует в этом пыльном, открытом на все стороны просторе что-то непривычное, а вместе с тем и очень знакомое! Но Цнори уж позади, сейчас дорога идет через поле, не дорога даже, а узенькая тропка, утоптанная ногами и копытами и четко выделяющаяся среди желтого, выцветшего поля. Впереди – У руки, деревня отца Марты, которую Марта очень любит, хоть и никогда ее не видела. Любить Уруки она обязана, ибо пока Уруки стоит на земле, ее родители не совсем еще мертвы, – так объяснил ей отец, и Марта счастлива, что Уруки существует. Ее дядя напрасно боится: кто бы и как бы ни встретил их дома, любовь эту из ее сердца не вытеснит уж ничто! Марта вовсе не такая маленькая и не такая глупая, как воображает дядя Александр. Она знает гораздо больше, чем ей следует знать. Она знает, что их семья не будет счастлива никогда, что, пока безумный Слмн плачет у себя на печке, быть счастливым не вправе никто, и она сама тоже! Так что дядя зря медлит: она ничему не удивится, ничего не испугается. Она спаслась, чтобы спасти то, что еще можно спасти, – так говорил отец, и Марта, прирожденная каторжанка, скорей помрет, Скорей голодом себя уморит, чем забудет слова своего отца и товарища. Она думает лишь о том дне, когда с могил ее родителей можно будет снять ограды из колючей проволоки, засыпать эти могилы землей и цветами из Уруки, – а ее дядя все боится, что Уруки ей не понравится! Пробыв на каторге чуть подольше, он тоже понял бы, что родину так же не выбирают, как мать! Вот почему Марта так бодро шагает по выгоревшему, пыльному полю. Позади нее Цнори, удушливое, потонувшее в выжженной солнцем котловине обиталище мошкары и комаров, пристань для всех тронувшихся с места, пустившихся в путь людей; но и оно так же дорого и необходимо Марте, как каждая пядь земли родины. В ее ушах все еще стоит бессмысленное, бесконечное жужжание рынка; перед ее глазами и сейчас пестреют прилавки со всевозможной снедью – но ее по-прежнему ничуть не удивляет, что при ее появлении никто не забил тревоги, не прикрыл своего товара, что на нее, каторжанку и дочь каторжан, все глядели с состраданием и любовью. «Народ у нас добрый, этим лишь он до сих пор и держится…» – говорил ее отец; а сейчас Марта как раз о доброте и думает! Ее интересует, на чем держится сама доброта, чем она питается, где спит, почему она порой лишь мелькает, но не видна целиком, так, чтоб ее не надо было искать и угадывать. Неужто и доброту нужно расходовать так же бережно, как хлеб, воду и соль… неужто излишек ее так же вреден, как неумеренное потребление хлеба, воды, огня или соли? «Показать тебе рай?» – почему-то вспоминаются ей слова мальчонки, сына пастуха в Пасанаури. У него был грубый, жесткий, неподатливый, как еловая ветка, чубчик и черные глаза с прыгающими в них бесенятами. Он волновался, явно стыдясь того, что задумал, и все-таки не отставал от Марты – возможно, в пику своей сестренке, уже готовой рассмеяться, прикрывшей рот рукой и егозившей на месте от нетерпения. Платьице с прожженным подолом едва прикрывало ее коленки. «Давай, давай… со мной только ты и храбрец!» – кричала она брату. «Ты только закрой глаза и подумай о чем-нибудь хорошем», – говорил мальчик Марте. Закрыв глаза, Марта увидела Ладо, и ей послышался его печальный, приятный голос. «В клетке я тебя растил, соловей ты мой весенний…» Одновременно Марта видела и свои покрасневшие от солнца веки, чувствовала, что ее глаза пульсируют, как сердца двух притихших в гнезде птенцов. «Глядите, глядите… вот они, влюбленные!» – крикнула сестра мальчика. «Трепло!» Дрожащий голос мальчика раздался почти у самых губ Марты, его дыхание защекотало ей губы. Она открыла глаза. Мальчик растерянно глядел на нее, его щеки пылали, теперь он, казалось, боялся Марты. «Она… она нам мешает!» – кивнул он головой в сторону сестры. «А, испугался… испугался, испугался!» – кричала та, прыгая на одной ноге и хлопая в ладоши. Но Марте и в самом деле на миг привиделось, верней, даже почувствовалось что-то райское, и она была счастлива, очень счастлива. Она подошла к мальчику и сама поцеловала его. Мальчик сконфуженно взглянул на сестру и улыбнулся; потом он схватил валявшийся на земле прутик и стал рубить крапиву под забором. «Вот тебе… вот тебе!» – восклицал он при каждом взмахе прутика, со свистом сбрасывавшем к его ногам, словно головы гадюк, жалящие, ворсистые, почерневшие листья крапивы…
Ветер обрушивается на Марту то со спины, то сбоку, вскидывает ее платье и, на мгновение задержавшись под ним, сразу охлаждает тело, нагретое строптивым сентябрьским солнцем. Потом, отстав от Марты, он своими незримыми пальцами шарит в траве, словно лихорадочно разыскивая в ней что-то известное ему одному. Порой из травы взлетает горлица, и ветер пускается в погоню за ней. Редкие, одинокие кусты колышутся и, словно связанные и живьем ощипанные стервятники, тщетно пытаются взлететь на своих крыльях без перьев; а перья эти кружатся по ветру, красные, желтые, оранжевые, перламутровые! В конце поля видны развалины церкви. Ветер обрушивается и на тулупы под мышкой у Александра, заставляет их вздрагивать, словно Александр несет живую овцу и с трудом удерживает ее в руках, не дает ей соскочить наземь. Марта знает, что им надо пройти мимо развалин церкви, – это Александр объяснил. После развалин церкви они выйдут на большую дорогу, немного пройдут по ней, потом немного еще, и тогда покажется обнесенный каменной оградой двухэтажный дом Макабели. Узнать его ей будет нетрудно, в этом она уверена. Она даже просит дядю не предупреждать ее. Ей интересно, узнает ли она свой дом сама; не узнав его, она была б огорчена. От Евгения Микадзе она не раз слыхала, что настоящему каторжанину и революционеру нужно только объяснить, куда идти, и он найдет дорогу не только у себя на родине, но и в преисподней! Революционерка Марта, может, и не настоящая, но каторжанка она настоящая, этого и ее друзья не отрицают. Возможно, и более настоящая, чем они сами, ибо, в отличие от них, уже с молоком матери всосала первый закон каторги: лучше бороться без надежды, чем жить одними пустыми надеждами! «Как только остановлюсь, он сразу оглянется…» – думает она и все-таки останавливается, ибо не остановиться не может. И в тот же миг Александр, словно его предупредили, поворачивается к ней и глазами спрашивает, в чем дело.
– Мне пи-пи нужно… – разъясняет Марта, сморщив носик точь-в-точь как Аннета.
Улыбнувшись, Александр продолжает свой путь – уже медленней, словно, задержавшись хоть на минутку, Марта может и вовсе потеряться в этом открытом поле, в котором ей виден лишь он, а ему – лишь она.
Александр улыбается… Увидав его лицо сейчас, каждый, вероятно, счел бы его умалишенным, и все-таки отныне он, проходя по этому месту, всегда будет так же улыбаться, представляя себе присевшую в сухой, негнущейся траве Марту. «Пусть только ее кто-нибудь обидеть посмеет… или нос перед ней задрать!» – думает Александр и с детской улыбкой идет вперед, напряженно, всем телом ожидая мига, когда Марта его нагонит. Впереди виднеются развалины церкви и увядшие кроны старых орехов, и, хотя церковь расположена по эту сторону дороги, а орехи по ту, отсюда кажется, что кроны деревьев вырастают прямо из провалившейся крыши церкви. Ветер уже пахнет палым листом и почерневшей ореховой кожурой, запах этот густ и силен. Марта догоняет Александра, и он даже не оглядывается – оглядываться ему ни к чему, он доверяет своему телу, и так почувствовавшему приближение девочки. У стены полуразрушенной церкви сидит женщина в черном. Ее лицо раскраснелось, сейчас она, видимо, отдыхает от быстрой ходьбы. Башмаки стоят сбоку; она сняла и платок и, расстелив его на коленях, положила на него кисти своих натруженных, потрескавшихся рук, как бы показывая их богу – вот, мол, па чем мир держится! Из-под ниспадающих складок платья видны ее ноги в чистых белых чулках. Без платка она кажется моложе, чем на самом деле, не моложе даже, а просто лишенной возраста, такой вот, как сейчас, родившейся и оставшейся навсегда. В ее густых и крепких, как конский хвост, волосах лишь кое-где проглядывает седина. Она сидит, задумчиво сжав губы, спокойная и прекрасная, как библейское древо, – вечная служительница бога и человека, вечная мать, жена, сестра, воспитывающая детей, пекущая хлеб и готовящая простоквашу, благословляющая и оплакивающая, сладким, как мед, пальцем пробующая первый зубок младенца и затвердевшей в горе рукой закрывающая глаза умершего, дующая на ожоги и накладывающая бальзам на раны, вся пропитанная запахами младенческой мочи, хлеба и очага… в час радости застенчиво стоящая в стороне, а в беде сущая ведьма, самоотверженная, как волчица для своих волчат; не укоряющая и не благодарящая бога, а просто уважающая его, знающая и ценящая его, как подобает знать и ценить достойного партнера; не несчастная и не счастливая, как сама жизнь, не веселая и не грустная, как дух жизни, не молодая и не старая, как природа, но сильная и непреклонная, как мать Амирана и Медеи, и гордая и наивная, как их дочь.
– Здравствуй, мать! – говорит Александр и останавливается, словно он заранее ожидал встретить эту женщину именно тут, у заросшей бурьяном, стоящей без крыши церкви, словно так оно и было задумано с самого начала.
– Здоровья тебе, сынок… – спокойно, без удивления отвечает женщина.
Марта стоит в стороне, но ветер толкает ее, гонит ее вперед, как бы говоря: «Чего ты стоишь? Подойди, поцелуй ее – она тебе и мать, и тетя, и бабушка!» Марта сопротивляется ветру, она обеими руками придерживает свой подол, как бы подставив его незримым плодам незримого древа добра, и ей кажется, что под тяжестью этих плодов ее руки вот-вот не выдержат, ее платье вот-вот порвется. Ветер заигрывает с Мартой, а ей чудится это незримое древо. «Древо добра… древо добра, кинь мне милостыньку!» – шепчет она про себя, радуясь этой новой, придуманной ею игре.
– В Цнори направляетесь? – спрашивает Александр женщину.
– Да… на внучек взглянуть хочу, – говорит она, как бы лишь сейчас заметив Марту, которая, обеими руками придерживая подол своего платьица, слегка наклонив голову и сморщив носик, глядит ей в глаза так, будто ждет от нее милостыни. – У меня тоже девочки… такие, как ты, – говорит она Марте. – Одной уж пять, другой три… Расти большая, доченька, всем на радость…

– А у меня и бабушки нет… у меня и бабушка умерла! – говорит Марта, сама себе изумляясь: говорит это впервые в жизни, впервые в жизни высказывает вслух свое тайное подозрение и печаль. Обескураженная, как заключенный, в минуту слабости выдавший важную тайну, она и сама чувствует, как краснеет, как на ее лице появляется мучительный красный жар. Но она сердится лишь на себя, хотя минутная ее слабость и вызвана спокойным, чуть усыпляющим запахом этой чужой женщины, с которым не может справиться и ветер – и ветер бессилен развеять или хоть разбавить, умерить этот запах, и Марта с головы до пят увязла в нем, словно в постланной матерью постели. Она чувствует, что ее слова обеспокоили, заставили вздрогнуть и эту сидящую у стены полуразрушенной церкви женщину, и ее дядю, особенно, конечно, дядю, не подозревавшего, что Марте известно и это. Марта не пощадила его, не дала ему обмануть себя до конца, хотя понимает, что лгать и лицемерить его побуждала лишь доброта, заставлявшая и ее отвечать неправдой на неправду.
– Наверно, умерла… – пытается она исправить свою ошибку. – Будь она жива, неужто не поинтересовалась бы узнать, что с нами? Последнее письмо четыре года назад получили…
– Смерть, доченька, это такой верблюд, который у каждой двери остановится! – говорит женщина. – И меня она тоже пощипала. Один сын в земле, другой в солдатах без вести пропал… Невестка не хочет переходить жить ко мне: все надеется, все ждет! – добавляет она, помолчав. Горе чужого ребенка вынуждает ее признаться и в собственной беде, словно признание это может утешить, ободрить, сделать их товарищами по несчастью…
– Благослови нас, матушка… видишь, сироты мы! – через силу улыбается Александр, чтоб хоть как-то сдержать свой дрожащий подбородок.
– Благослови вас бог, сынок, пошли вам бог долголетия… – со вздохом отвечает женщина. – Что ж поделаешь: вся наша жизнь – вдовство и сиротство! И все-таки жить надо… – добавляет она мгновение спустя…
Гудит невидимое древо добра, и его незримые плоды с шумом летят в подол Марты!
«И все-таки жить надо, – повторяет про себя Александр слова женщины. – Да, жизнь такова… и все-таки люди любят, спрашивают друг о друге, надеются, ждут…» Они с Мартой идут уже по большой дороге; теперь он идет сзади, чтоб хоть немного прикрыть ее от пыли, вздымаемой ветром выше деревьев. Они идут как в тумане, и все-таки Марта бодро топает по пыли. Сейчас она даже довольна своей давешней неосмотрительностью: она избавила дядю хоть от одной заботы, теперь и он знает, что Марта не удивится, не застав дома бабушки. Она идет, топает по ныли, довольная и возбужденная, как ребенок, благополучно слезший с чужого фруктового дерева. «И женщину эту забыть нельзя… – думает Александр. – Чем больше живешь, тем больше приходится помнить, и все-таки надо суметь запомнить все! Надо!.. – словно убеждает кого-то он. – Забыть – это значит потерпеть поражение!» А впереди, топая ножками, как жеребенок, идет Марта; закрыв глаза от пыли, она смело шагает по еще незнакомой, но родной земле. Ветер кружит пыль, и одинаково оголенные деревья наклоняются в одну сторону, как бы не желая расставаться со своим последним, единственным листком, кружащимся в воздухе над головой Марты, не принадлежащим уже ни земле, ни небу, обреченным на вечное круговращение между землей и небом, лишенным света и цвета, как погасшая звезда… «Ты – Христос в Варавве и Варавва во Христе. А так нельзя! Надо быть или тем, или другим!» – вспоминаются вдруг Александру слова отца Зосиме. «Я – не Христос и не Варавва! – лишь сейчас мысленно отвечает он священнику. – Я Александр… Александр Макабели, дядя вот этой маленькой девочки… и пусть только кто-нибудь посмеет встать ей поперек пути!» Никогда еще в жизни он не был так счастлив, так свободен, а главное, так спокоен. Он сам не знает, что с ним, не в силах понять, что с ним стряслось, что внушило ему такое настроение, но самое главное он уже понял, увидел, твердо осознал. Легко, как пыль, рассеялось вековое сомнение; простой и беспочвенной, как этот порхающий по ветру листок, стала для него вековая загадка: «Кто я и зачем я существую?» Он – дядя этой маленькой девочки и существует, чтоб заботиться о ней! Ободренный выяснившейся простотой этой загадки, он идет, жадно вдыхая густой от пыли воздух и с силой выталкивая его раздувающимися ноздрями, суровый, могучий, как боевой конь! Сейчас, когда до родного дома им остались считанные шаги, он окончательно убеждается в том, что все происходящее вокруг происходит наяву, что он действительно Александр Макабели, что впереди него действительно идет Марта, дочь Нико, его плоть и кровь, оправдание и утверждение его собственного существования… маленькая, слабая еще, а все-таки жизнь – упрямая, растущая, смелая, радостная и, благодаря своему дяде, этому однорукому верзиле, навек спасенная, навек вернувшаяся домой. А большего с однорукого и спрашивать нечего!
Дом без любви
Не всегда легко определить, почему литературное произведение завоевывает власть над читательскими умами, почему начинает казаться особенно ярким писательское имя.
Еще труднее найти глубинные причины усиленного звучания той или иной национальной литературы рядом с другими, не менее развитыми, не менее богатыми на талантливые книги.
Грузинская советская литература всегда заявляла о себе темпераментно и сильно. Но, пожалуй, ее участие в общесоюзном литературном процессе никогда не было столь заметным, как в последние годы. Раньше читатель в первую очередь с радостью различал имена своеобразных поэтических дарований Грузии; теперь настал час грузинской прозы. В нынешнем обиходе широкой аудитории и произведения Н. Думбадзе, постоянно заставляющие говорить о себе, и исторические хроники Г. Абашидзе, и роман Ч. Амирэджиби «Дата Туташхиа», завоевавший шумный и прочный успех… И еще одно имя, сразу же вызвавшее напряженный читательский интерес, – романист Отар Чиладзе.
Именно так – романист.
У каждой писательской репутации – индивидуальная логика.
Отар Чиладзе давно известен у себя на родине, да и среди знатоков за грузинскими пределами, как один из интереснейших, один из самых изысканных национальных поэтов. Он – автор многих поэм, в которых очень сильно лирическое, субъективное начало…
И вдруг «крупноформатная» проза, огромные романические конструкции, тяжелые глыбы жизненного материала, перевернутые перед читателем.
Вы прочитали роман «И всякий, кто встретится со мной…».
А перед ним был другой, «Шел по дороге человек», – прозаический дебют известного поэта.
Вернемся же к дебюту – он объяснит многое в этических й* творческих пристрастиях писателя.
…Однажды человека посещает чувство, что он – лишь небольшое звено в цепи сменяющих друг друга поколений; вереница предков– вплоть до самых дальних – проходит перед его мысленным взором; отдаленное прошлое стремительно приближается, обретая плоть и звучание. Время открывает перед человеком свою глубину и наполненность, жизнь его народа предстает ошеломляюще огромной, протяженной поистине бесконечно. Где четкая граница между вчера, сегодня, завтра в этом бесконечном временном потоке? Еще усилие сознания и воображения – и оживает история, наполняется гулом голосов и жаром страстей. Она создается сейчас, в это мгновение, она еще не стала историей, в ней все – движение, бег, порыв, извечное удивление перед будущим…
Такого рода ощущения знакомы, пожалуй, каждому из нас. Стремительное мчание окружающей действительности делает современника философом, стремящимся постигнуть глубинные, устойчивые закономерности людского бытия. История, даже праистория становится естественным полем изучения этих закономерностей.
Роман Габриэля Г. Маркеса «Сто лет одиночества» продемонстрировал, какую магическую силу выразительности таит в себе столкновение, совмещение, «сплющивание» разных времен, какой благодатный материал для исследования – это деформированная, полная неожиданно обнаруживающих свою связь реалий, режущая глаза своей четкостью действительность. У знаменитого колумбийца, само собой, немало подражателей, но, думается, его имя поминают излишне часто, пытаясь объяснить своеобразие литературных произведений, чьи авторы вольно обращаются с временем, резко сближая целые эпохи. В конце концов, в основе такого обращения– фольклорная «модель» мышления: в фольклоре самых разных народов границы между прошедшими временами весьма зыбки.
Наверное, у определенного сближения писателей разных традиций, разного социального опыта – нелитературные, в общем-то, корни. В историческом бытии каждого народа бывают моменты, когда он начинает с особой остротой ощущать длину пройденного пути и его краткость, сжатость перед лицом вечности, ибо впереди – еще больший, бесконечный путь Стирается граница между вчера, сегодня, завтра…
Читая роман Отара Чиладзе «Шел по дороге человек», ловишь себя на мысли, что перед тобой – репортаж, написанный очевидцем и свидетелем событий, которые произошли много столетий назад, задолго до нашей эры. Нет привычной дистанции, разделяющей автора-современника и воспроизведенные им события истории. Все свершается сейчас, свершается трудно и мучительно, рождается в муках, в реальной крови, в реальной грязи, далеко не всегда привлекательных реальностях быта.
Но репортажность романа – далеко не самая главная его примета. «Шел по дороге человек» – в числе произведений современной романистики, обогативших наши представления о типе исторического повествования.
Есть признанная классика грузинского исторического романа – тетралогия «Давид Строитель» и «Десница великого мастера» Константина Гамсахурдиа. Читать эти вещи интересно и поныне: из неторопливого, несуетного повествования встает средневековье, встает далекая эпоха со сложными междоусобицами, народами, несущими нелегкое бремя войн, подвигами ратоборцев и зодчих, тяжким движением людских масс. Одно слово: История. Когда в Гелатском соборе под Кутаиси ступаешь на теплую плиту, под которой покоится Дэеид Строитель, поневоле думаешь, что роман Гамсахурдиа сделал для тебя не чужими эти места, что он бережно донес шум далеких битв и кипение ушедших страстей.
И, рассматривая на каменной плоскости храма Светицховели легендарное изображение отсеченной человеческой руки, тоже с благодарностью думаешь о «Деснице великого мастера», воскресившей предание… В этих романах многое способно вызвать интерес любителя истории. Но они, изображая множество судеб и проявляя озабоченность историческими судьбами нации, не очень любопытствуют судьбой, характером, единственностью одного человека. Парадоксально? Однако посмотрим, чем занят разум царя Давида, прозванного Строителем, кроме бесконечных государственных забот и войн за единство Грузии? Несчастной любовью, пронесенной через всю жизнь. Черта характера, что и говорить, емкая, и все же ее маловато, чтобы мы поняли человеческое, нравственное своеобразие изображенного лица в его развитии. Что касается зодчего Арсакидзе в «Деснице великого мастера», то он окружен таким числом действующих лиц (а среди них столь важное, данное с многими подробностями, как царь Георгий, «меч мессии»), что поневоле придешь к выводу: биография, легенда – удачный повод для показа, раскрытия исторической эпохи, важного этапа национальной истории,
Напомню очевидное: литература последнего времени, отражая существенные сдвиги общественного сознания, демонстрирует пристальный, постоянно растущий интерес к миру человеческой личности, ее духовному потенциалу и нравственности. То, что это так, подтверждается и романами Отара Чиладзе.
Не ушедшая эпоха, а человек перед лицом стремительно истекающего времени становится главным объектом романического исследования.
Исторические реалии утратили для писателя прежнее значение – письмо обрело вольное, с явным учетом современных литературных тенденций, течение.
В романе «Шел по дороге человек» Отар Чиладзе пишет о колхах, своих далеких предках из легендарной черноморской страны. Отсюда – истовость письма, внутренний напор самоутверждения. Что ни говорите, а по этой земле ходили Ясон и Медея, здесь шли схватки вокруг золотого руна… Романист творит на площадке мифа, древнего предания, которую явно не забывает своим вниманием современная литература, столь чувствительная к национальному моменту. Надо ли говорить, что нередко миф – только «повод для».
Видимо, страсть к апокрифам заложена в человеческой природе. Иначе канонические памятники христианской литературы не обрастали бы таким числом апокрифических версий. Апокриф – это взгляд на авторитет сквозь призму сомнений и скепсиса. А разве так уж редко помогали людям познавать мир оплодотворенные ищущей мыслью сомнение и скепсис?
Умная непочтительность в отношении к общеизвестному – это сбрасывание пут догматизма, это возможность получить доказательства глубокой многозначности исторического факта, самой истории. Иронический апокриф может нести, таким образом, целую философию действительности.
Право же, ирония может быть названа спасительной, если она помогает писателю (а за ним – и читателю) по-новому, свежим и заинтересованным взглядом посмотреть на некоторые легенды национального сознания. Одно из примечательных, симптоматичных явлений современной советской литературы «Воспоминания о Ка-левипоэг» эстонского прозаика Энна Ветемаа, весьма вольное и приземленное переложение народного, национального эпоса. Эпический герой сошел с пьедестала, не потеряв, впрочем, своей привлекательности – и обретя достаточно сложные и многоплановые характеристики.
В способности подвергнуть плодотворному сомнению общеизвестное есть ощутимая духовная свобода. Продемонстрировать ее соблазнительно. Но Отар Чиладзе дает свою версию прошлого, избежав иронического апокрифа как жанра. Его роман пошел несколько иным путем, хотя авторская ирония, авторское сомнение время от времени проскальзывают в интонации повествования.
На наших глазах разрушается сфера древнего мифа. Разрушается в том смысле, что из него исчезают завершенность событий, однозначность характеристик, эпичность тона. Эпос – это всегда: закончилось, свершилось, было. В романе О. Чиладзе все бурлит, клокочет, складывается, умирает и рождается заново. Высокое смешано с низким, прекрасное с уродливым, и роман может быть признан ироничным в том смысле, что он показывает: смотрите, как многомерна людская жизнь, сколько в ней обыденного и обычного, а много столетий спустя она предстанет в эпическом ореоле, очищенная и возвышенная, и триумфальной походкой героев пройдут нынешние, покрытые пылью дорог и сражений, далеко не всегда презентабельные действующие лица.
Золотое руно? Естественно, это шкура обычного барана, только ходил ее обладатель по улице златокузнецов замечательного города Вани, а каждый, кто проходил по этой улице, покрывался золотой пылью и становился похож на статую, а потом с удивлением рассматривал себя, статуеобразного, в зеркале, специально установленном не чуждыми тщеславия мастерами. Развенчивается легенда о руне, но тут же создается новая – о златокузнечной улице: такова поэтика романа, вовсе не чуждающегося гиперболы, щедро использующего символику, скептичного по отношению к конкретному мифу, но не к мифотворчеству вообще.
Роман написан поэтом, это чувствуется сразу: «В этот самый день море наконец, после долгого колебания, решилось и отступило на шаг от города. То был первый шаг – и самый трудный; дальше все должно было пойти само собой. Да и кто мог удержать море? Даже если бы все жители Вани от мала до велика вцепились в него, оно все равно ускользнуло бы, ибо никакая сила не может противиться тому, что замыслите природа» и т. д. Наверное, от поэтических опытов автора – философская сосредоточенность тона, буйство метафор, интенсивность красок. И еще – присущая поэтическому сознанию убежденность, что чудеса нужно принимать «просто так», на веру, не пытаясь рационально объяснить их. Убежденность эта в немалой степени «держит» повествование о людях античности, с простодушием неофитов открывающих для себя все сущее.
Волшебен пышный, цветущий сад Дариачанги: достаточно сломать хоть одну ветку, как он исчезнет с лица земли (что и происходит, в конце концов, в городе, неспособном противиться злу). Но именно в этом саду гуляет со своими рабынями царская дочь Медея – сначала робкая девочка, а затем пробуждающаяся к жизни женщина, чье пробуждение написано с реалистической, плотской выразительностью… В минуты тяжких испытаний царь колхов Аэт опускается в тайные глубины своего сознания, своей памяти – это выглядит, как спуск в бездонный колодец, наполненный ликующими противниками гордого царя, гудящий от их голосов: все здесь ирреально, кроме напряженного диалога Аэта с собственной памятью и собственной совестью… Есть устойчивое словосочетание «холодная женщина»; метафора вывернута писателем наизнанку, ей возвращен первоначальный, прямолинейный смысл. Одна из героинь романа несет в себе такой холод, что на крыше дворца летом висят сосульки. Она тает, уходя из жизни, и ее пытаются спасти, привезя на ослах снег с высоких гор. Здесь все гипербола и фантазия, но вдруг автор упоминает, что у снега острый запах горной хвои, и все происходящее приобретает стереоскопическую четкость и неожиданную убедительность.
Роман лишен величественной холодноватости мифа, потому что на страницах его кипят земные человеческие страсти. В столице колхов любят, ненавидят, плетут интриги, пьют вино, сражаются с предельной отдачей сил. Герои романа – цельные натуры. Они знают, что есть судьба, противиться которой нельзя, но чье предначертание нужно выполнять с достоинством и спокойным мужеством. Так осуществляет свое жизненное предназначение Медея, с видимым спокойствием уходя за искателем золотого руна Ясоном. Так продолжает свое пребывание на земле грозный воин Ухеиро, став прикованным к постели, беспомощным инвалидом. Так стремится жить Фрике – один из самых противоречивых и трагических героев романа: когда он был мальчиком, его отправил в Колхиду царь Минос с тайной миссией – пустить в среде колхов иноземные, греческие корни, чтобы изнутри расшатать цветущее государство. Расчет Миноса оказался дьявольски безошибочным. И Фрике, женившийся на дочери царя Аэта Карисе, и его сыновья бредили землей предков и поневоле стали предателями приютившей, давшей им жизнь и силу земли…