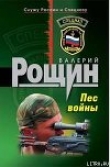Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 30 страниц)
– Убьешь себя? Зачем? Я тебя сам прикончу! Своими руками всех вас передушу! – заорал на нее Петре.
После этого он как бы перестал существовать и для Аннеты – пройди он мимо нее хоть тысячу раз, она на него и не взглянула б, в ее лице ничто не изменилось бы! По-взрослому хмурая и насупленная, она сидела на ступеньке со своей куклой и, морща нос, глядела, как бабушка ползает по земле вокруг хлева. Кто знает, может, ей и вправду хотелось, чтобы бабушка зарезала отца! Нет, если Петре хотел спасти себя, ему нужно было найти друга вне семьи, привести с улицы человека, способного понять и оценить его, – человека, который поселился бы в доме наподобие гарнизона, защищающего его от собственной семейки. А таким человеком могла стать только жена, только чужая женщина, вошедшая в дом благодаря ему и ни с кем, кроме него, не считающаяся – тем более если он это одобрит. Хочешь, чтоб тебя уважали и мать, и жена, – первым долгом натрави их друг на друга! Женщина, мать ли, жена ли, не может жить без ненависти; поэтому вместе с платьем, косынкой и домашними шлепанцами надо подарить ей и повод для ненависти, подбросить ей этот повод, как кость собаке, чтоб она тебя самого не укусила. Мать первой возненавидит сына, если он не приведет ей невестки; а жена мужа – если в доме ее не встретит свекровь. Такова уж женская природа! Так что вообще-то думать о женитьбе Петре начал гораздо раньше того холодного, осеннего дня, когда он впервые встретился в Телави со сладкой Дусой. В тот день Петре был болен, но сам еще этого не понимал или боялся сознаться себе в этом, ибо заболеть он страшился больше всего. Мог ли он болеть сейчас, когда обломки семьи рушились ему на голову? За смертью Бабуцы последовали смерть Георги и сумасшествие – или симуляция сумасшествия – Анны, и вся Уруки не отходила от железных ворот Макабели, развлекаясь бесплатным зрелищем. Нико гнил в Сибири, а Александр кружил вокруг родного дома, как волк вокруг овечьего загона, и, встречая кого-либо из урукийцев, каждый раз передавал своим одно и то же: «Бойтесь меня – другим-то на наши дела наплевать…» Кайхосро уже не мог или не хотел быть главой семьи – к себе он впускал одного отца Зосиме, и свои стаканы они осушали с таким громким прицокиваньем, словно науськивали гончих. Сейчас было самое время доказать и старшинство, и незаменимость Петре – это была его семья, и если она рушилась, то прежде всего для него самого. Но разрушить ее он не позволит никому – ни матери, ни сыну, для которых признать его старшинство смерти подобно! Поэтому болеть ему было некогда. Вокруг него бушевала беспощадная война; люди гибли, сходили с ума, только чтоб не признавать его, не покоряться ему, а заболев, он был бы вынужден просить мира или сдаться своим врагам; ибо сдохни он даже на улице, никто, кроме них, внимания на это не обратил бы. Таковы были мысли Петре, когда он вышел из винного подвала и, вместо того чтобы подойти к рынку, взять первого попавшегося извозчика и побыстрей ехать домой, стал бессмысленно слоняться по улицам, сдавшись на милость судьбы, плывя по воле судьбы – сам он уже ничего не видел, ничего не чувствовал, хоть и знал этот город как свои пять пальцев, хоть и мог бы ходить по нему с закрытыми глазами. У него ломило в костях, болели глаза; голова казалась сжатой раскаленным железным обручем, и он ничуть бы не удивился, если б она вдруг громыхнула и треснула, как яйцо. Больше всего, однако, его тревожили деньги, взятые у виноторговца, – они жгли его сердце, как горчичники. «Зачем мне было брать у него столько денег?» – яростно, злобно думал он. Упади он сейчас в самом деле на улице, к нему кинулся бы весь город– не для помощи, для грабежа! На мгновение ему даже пришло в голову вернуться в подвал; но он уже не помнил толком, где этот подвал находится, существует ли он вообще. Людей, совсем незнакомых Петре, не виденных им ни разу, в этом городе не было, должно быть, вовсе, но сейчас он не замечал ни знакомых, ни незнакомых, не видел ничего, кроме каких-то смутных, перемешанных друг с другом и освещенных солнцем теней. Казалось, он шел по бесконечной и безлюдной аллее, сам не зная, зачем идет и сколько ему еще идти до мест, населенных людьми, – мест, где деньги что-то еще значат, где за деньги можно купить и хлеб и тепло. Он шел не сам – его гнал страх, и Петре, беспомощный, мрачный и жуткий, словно загнанный в тупик зверь, лишь повиновался этому страху. «Может, он, сукин сын, мне отравленные деньги подсунул?» – думал он, идя вперед; без конца облизывая языком пересохшие губы, он тяжко дышал, как после быстрого бега. А телавцам он, вероятно, казался беззаботно гуляющим – в хорошем пальто с меховым воротником, в теплой каракулевой шапке, с бумажником, так туго набитым деньгами, что его нагрудный карман заметно оттопыривался. «Князю наше почтение!»– со всех сторон окликали его приказчики и цирюльники, мальчики из гостиниц и кабачков. Но он ничего не слышал; голова жужжала, как окуренный улей, и уйти от этого бесконечного, одуряющего жужжания было невозможно, некуда – разве что отрубив себе голову! Он знал, твердо помнил лишь то, что болезни поддаваться нельзя, и слепо, упрямо, самозабвенно шел навстречу счастливому случаю, чувствуя, что спасти его сейчас может только счастливый случай, – шел так, будто болезнь была не в нем самом, а гналась за ним по пятам и, остановись он хоть на миг, чтоб мельком взглянуть на часы, она схватила б его и уж не выпустила бы из рук. Но и счастливый случай не заставил себя ждать! В двух шагах от него, почти перед самым его носом, возникло вдруг улыбающееся женское лицо, выросшее из освещенного солнцем мрака, как вырастает из моря желанная, надежная, прочная, головокружительно прекрасная земля. Петре ощутил на своем лице успокаивающее тепло, ощутил и живительное дыхание незнакомой женщины – вечное, родное, здоровое! В действительности, впрочем, незнакомка была еще довольно далеко – в тот же миг она стала вдруг маленьким черным пятнышком, точкой где-то в конце улицы, словно Петре увидел ее в бинокль сперва увеличенной, а потом уменьшенной. Его желание опередило глаза; его надежда представила себе эту женщину до того еще, как глаза смогли увидеть и воспринять ее. Но она не привиделась Петре, а существовала на самом деле; она стояла в конце улицы перед своим домиком, с черным лотком, на котором были разложены различные сласти – петушки на палочках, завернутые в бумажки с бахромой конфеты, орешки в меду, нуга, леденцы, и, закутав свои полные плечи шерстяной шалью, ждала покупателей. Да нет, даже не покупателей – она, собственно, вышла просто так, на людей поглядеть, подышать свежим воздухом… а заодно, на всякий случай, прихватила и свой товар. Покупатели легко нашли б ее и так – ее дом был известен всему Телави, и все, кому хотелось сладенького, могли стучать в ее ставни в любое время дня и ночи. От своего мужа она усвоила, что хоть раз отказать покупателю значит потерять его; и если б к ее двери одновременно подошли покупатель и господь бог, то она сперва обслужила бы покупателя и лишь потом спросила бы бога, по какому делу он, собственно, изволил пожаловать, – спросила бы вызывающе, злобно, как это свойственно женщинам сильным и недовольным своей судьбой. Вовсе не впустить бога в свой домик она, пожалуй, не решилась бы; но уж стула она б ему не предложила во всяком случае – она разгневалась бы на него, как жена на никчемного мужа, как дочь на охладевшего к семье отца! Не гневаться на бога она не могла: винить в своих несчастьях ей, кроме него, было некого. Трижды она кое-как сколачивала себе семью – и трижды бог ее разрушал, трижды заставлял ее предавать земле молодцов одного лучше другого, мужчин, словно соревновавшихся друг с другом в любви и уважении к жене! К тому же ни с одним из этих мужей бог ее чрева не благословил, а благословил тогда, когда она этого не ждала, когда ей это было уже ни к чему… благословил как бы нарочно, чтоб дать ей безмозглого дурачка, непонятно от кого и родившегося. (Телавцы подозревали кассира городского банка – оттого, вероятно, что у него была падучая; а заболел он якобы потому, что, запершись в своей железной кассе, с утра до вечера пересчитывал деньги.) Милостью божьей было и то, что ей приходилось таскать вверх-вниз этот черный лоток, в котором у всех на виду, на радость врагам, покоилась ее разочарованная и попранная, замурованная в конфеты, липкая, воняющая патокой, облепленная мухами женственность! И сама липкая от сластей, она не могла ни перелистать книгу, ни посолить еду, ни пересчитать денег, не скомкав предварительно каждую бумажку отдельно. Так что, осмелься бог постучаться к ней в дверь, она не то что рассвирепела бы – она с ним вообще бог знает что сделала бы…
Она тоже заметила Петре и, хотя уж собралась уходить, тащить домой свой небольшой, размером с гладильную доску, лоток, все-таки задержалась, с улыбкой поджидая спокойного на вид господина в каракулевой шапке и меховом пальто, идущего, вполне возможно, именно к ней. Вероятно, кто-то объяснил ему, как пройти к ее домику, и он пошел, не поленился, желая непременно привезти детям и внукам сластей из Телави, раз уж он тут оказался.
– Вам повезло… я как раз уходить собралась, – кокетливо сказала она.
– Повезло? – вздрогнул Петре. – Повезло? – как утопающий за соломинку, схватился он за это слово.
– Выбирайте. Все свежее! – сказала женщина, показывая рукой на лоток.
Петре невольно взглянул на него, но увидал не сласти, а прислонившегося к лотку ребенка, точней, его окровавленный рот. Однако он тут же понял, что изо рта ребенка течет не кровь, а красная, пенистая слюна: мальчик сосал что-то красное. Его сжатый кулачок тоже был вымазан красной слюной. Почувствовав отвращение, Петре осторожно, чтоб это не бросилось в глаза женщине, отвел глаза.
– Какой большой ребенок! – сказал он таким тоном, словно она и ребенка продавала.
– Какой ребенок… ему четырнадцать уже! – затряслась от смеха грудь женщины. – Он у меня дефективным родился, поэтому так и выглядит…
Это заинтересовало Петре, и он вновь взглянул на ребенка. Тот что-то ожесточенно сосал, и все его лицо скривилось в тупой гримасе, – казалось, он никак не мог отдышаться. Роста он был и впрямь не такого уж маленького, и все же дать ему больше четырех лет было трудно. Петре показалось, что женщина шутит, и он улыбнулся, не зная, что ей сказать, что ей будет приятней услышать: что на вид мальчику не больше четырех или что ему не меньше четырнадцати. Преодолев невольное отвращение, он потянулся потрепать мальчика по щеке; но тот отодвинулся и, потеряв равновесие, скользнул плечами по лотку и упал, как неловко прислоненная к стене доска. Обсосанная конфета вывалилась у него из рта на землю, в пыль. Мальчик встревоженными, умоляющими глазами взглянул на мать. Его слюнявый рот был по-прежнему открыт, как зрелый плод инжира.
– Вставай, вставай, чтоб ты сдох… – со смехом прикрикнула на него мать. – Не помогайте ему, он сам встанет! – сказала она Петре.
Но Петре и не собирался помогать ребенку – он застыл как вкопанный. «Овдовевшей женщине лучше уж сразу убить себя, сойти в могилу вслед за мужем…»– донесся до него голос женщины, и Петре вдруг понял, что слышит его уже давно. «Если б моим мужьям пришлось увидеть, как я торгую конфетами на улице, они бы с горя, наверно, еще раз померли! Да они мне в несогретую постель лечь не позволяли! Воды им подать и то не давали: сиди, говорят, не беспокойся… Мне все соседи завидовали: что, говорят, в тебе такого особенного, что мужчины к тебе, как мухи к меду, липнут? Теперь-то ко мне не мужчины липнут, а именно мухи… Жена извозчика и та лучше меня – какой ни на есть, а все-таки муж, хозяин, кормилец…» Женщина говорила так быстро, словно ей нужно было непременно высказаться до того, как Петре опомнится и уйдет. У нее был сиплый, надтреснутый голос, как будто она застудила горло или в нем что-то застряло; и Петре с нетерпением ждал, чтоб она откашлялась, прочистила горло. Ребенок тем временем уже поднялся – он снова стоял, прислонясь к лотку, и был похож на живую вывеску. А женщина все еще говорила, говорила без конца, и, хотя больше половины того, что она говорила, Петре не понимал, ему было почему-то приятно чувствовать себя во власти этого сиплого, надтреснутого голоса – так же, как ребенку приятно находиться среди взрослых мужчин, рассказывающих при нем о вещах, делать которые он еще не может, хотя невольно уже о них думает; поэтому-то у него и возникает естественное желание вмешаться в разговор, победить свою застенчивость и робость, малолетство и немощь – победить порывом, ему еще не знакомым, смелостью, вызывающей еще в нем угрызения совести… «Чтоб женщину оценили, ее нужно поместить среди мужчин, как картину в раму…»– говорил сиплый, надтреснутый голос.
– Я болен, – неожиданно сказал Петре.
Женщина замолчала, взглянула на него, и ее лицо приняло такое выражение, словно он только что вырос перед ней из земли. С Петре ручьями лил пот; его заблестевшие, бегающие от жара глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит…
Петре проболел три дня; три дня у него не было ни вкуса, ни обоняния, ни зрения, и он лежал в какой-то пестрой дремоте, задыхающийся, измученный, подавленный. Через три дня в его ноздри ударил вдруг запах уксуса и спирта. Горечь уксуса и спирта вонзилась в его обессиленное тело, как нож врача, и ему сразу стало легче – его слипшиеся, заполненные тошнотворно сладким воздухом ноздри, горло, легкие раскрылись, и он, осторожно вытянув онемевшее, обессиленное тело, почувствовал, как в его горячую от пота постель льется здоровый, естественный, приятный холод. После трехдневного беспамятства к Петре вернулось и зрение, и он вновь увидел женщину и ребенка. Женщина заворачивала конфеты в лоскутки прозрачной пестрой бумаги, а ребенок, сидя на тахте у противоположной стены, вяло, нехотя бил в маленький барабан, который он держал под мышкой. Казалось, он бил по барабану, чтоб за что-то его наказать – не слишком больно, но и не так, чтобы барабан совсем умолк. Все внимание мальчика было устремлено на мать, он напряженно следил за ее работой; барабаном были заняты лишь его руки. Теперь к Петре вернулся и разум, и однообразное гудение, наполнявшее его голову до сих пор, ушло внутрь барабана, стало доноситься лишь оттуда; в этом звуке не было уже ничего опасного или невыносимого– Петре своими глазами видел, где и как он рождается. Первое, что он почувствовал, открыв глаза, было чувство счастья – он как бы вынес его из болезни, болезнь оставила в нем это ощущение, подобного которому он не испытывал еще за всю жизнь,
– Чтоб ты, сынок, сдох… – спокойно сказала женщина, даже не взглянув в сторону сына, и, вытерев пальцы лежавшей там же, на столе, мокрой тряпкой, продолжала свою работу.
– Какой сегодня день? – вдруг взволновался Петре.
– Среда, – спокойно ответила женщина, как бы заранее знавшая, когда Петре придет в себя и какой первый вопрос задаст. – С тебя магарыч! – добавила ока чуть погодя.
– Понедельник, вторник, среда, – вслух сосчитал Петре, загибая в то же время пальцы правой руки под одеялом. Указательный и большой остались растопыренными.
– А воскресенье? – живо обернулась к Петре женщина. – Воскресенья ты не считаешь? Ты же в воскресенье пожаловал…
– Да ну его к черту! – сказал Петре.
– То есть как это «к черту»? – недовольно подбоченилась женщина.
С силой выдохнув воздух, она взметнула лежавшие на столе лоскутки пестрой бумаги, запрыгавшие, как оставшиеся без наседки цыплята. Барабан мгновенно смолк.
– Это я о себе говорю: к черту! – уточнил Петре. – Что это со мной приключилось?
– Какие же вы все, мужчины, трусливые… – засмеялась женщина.
– Вот… я даже передать не могу, как я вам благодарен! – сказал вдруг Петре, хотя говорить этого сейчас не собирался. К выражению благодарности он был еще не готов – смех женщины заставил его поторопиться. Он был действительно полон благодарности к своей сиплоголосой хозяйке, но еще внутренне капризничал, как бы стремясь увеличить в собственных глазах заслугу этой совершенно незнакомой женщины, не только пощадившей, но и выходившей его. А ведь ей ничего не стоило зарезать его и, разрубив на куски, выбросить в отхожее место! Этим она никого не удивила бы, в этом ее никто б и не упрекнул: не говоря уж о каракулевой шапке и меховом пальто, спокойно висевших сейчас на двери чулана, в кармане у Петре было столько денег, что тысячи людей, пронюхай они лишь об этом, не задумываясь перерезали б ему глотку, а потом сцепились бы друг с другом, деля добычу. А этой женщине Петре сам отдал себя в руки, сам сказал ей, что у него много денег, со слепым доверием сдался ей в темноте и угаре болезни, как сдается мужу новобрачная, не знающая, как он с ней поступит, какой она проснется завтра, да и проснется ли вообще! Сейчас Петре запросто мог уже три дня быть мертвецом… да нет, даже четыре – воскресенье, понедельник, вторник, среду (и он загнул под одеялом и указательный палец). Он мог бесследно исчезнуть, и никто б до этого не докопался, кроме ее ребенка, которого бог сделал безмозглым – хотя столько-то ума, чтоб не мочиться в каракулевую шапку Петре, а надеть ее на голову, у него наверняка хватило б!
– Ей-богу, не знаю, как вас и благодарить! – сказал Петре; и вдруг у него заурчало в желудке. Почувствовав голод, он обрадовался и этому: голод доказывал, что он жив и, утолив его, проживет еще долго. – Меня зовут Петре… Петре Макабели, – продолжал он. Но женщина не дала ему договорить.
– Это-то мы знаем… – сказала она. – Ты деньгам своим спасибо скажи: это они тебя выручили! Бумажник твой, правда, на ладан уж дышит – в этом проклятом городе все на вес золота, а лекарства особенно… И каждый ведь свое советует – пока одно поможет, десяток других накупишь! Еда опять же… (При слове «еда» желудок Петре заурчал еще сильней!) Крестьяне наши такие несознательные стали… сдохнут, а копейки лишней не уступят! Денег изведешь уйму, вроде что-то купила; а придешь домой – корзинка-то и пустая…
– К черту! – сказал Петре. – К черту…
– Да ты хоть помнишь, как меня зовут-то? – спросила женщина.
– А вы разве говорили? – виновато улыбнулся Петре.
– И-и-и, гром тебя разрази! – засмеялась она. – Благодарностями своими надоел уж, а кого благодаришь, значит, и не знаешь! Держи, чтоб ты сдох! – крикнула она ребенку, кидая ему конфету. Пока конфета летела, ребенок не сводил с нее глаз. Ударившись о барабан, она упала на пол; тогда он бросил барабан, торопливо слез с тахты, уселся на полу, скрестив ноги по-турецки, и обеими руками сунул ее в рот. Теперь он глядел лишь на собственные руки и быстро двигал губами. – Мальчика моего зовут Сардион, – продолжала женщина, – а меня Дуса, сладкая Дуса. Для одних я сладкая, для других горькая, но зовут все сладкой. Вот из-за этого… – она показала рукой на холмик конфет в середине стола. – Песком и то не отдраишь… сладкая я, от меня сладкий запах! – В ее голосе послышалось раздражение, не новое уж, давнее, надоевшее и все-таки до конца еще не переваренное…
– А я живу в Уруки… – снова начал Петре; но женщина опять перебила его:
– И это знаем! Отец твой майор, князь, у вас двухэтажный дом… не в таком чулане, как я, живете! – Она повела рукой, показывая, в какой тесноте вынуждена жить. – Один твой сын за царем гоняется, убить его хочет; а второй за тобою…
– За дедом своим… – невольно поправил ее Петре.
– Я все знаю! Жена у тебя умерла, брата твоего убили, мать с ума спятила. Ну, что еще? Да, у тебя ведь и дочка есть. Она тоже того… чокнутая немного. Девка на выданье, а в куклы до сих пор играет! Это вы ее с ума свели! Вовремя замуж выдать надо было…
– Да ей только будет шестнадцать… – попытался оправдаться Петре.
– И она тебя тоже не любит! – вдруг отрезала женщина.
Лишь в этот момент Петре заметил, что женщина разговаривает с ним на «ты». Но это его не обидело, не удивило даже – она имела право на это, ибо все дела Петре и его семьи знала если не лучше, то уж во всяком случае не хуже, чем любой член этой семьи. Она была уже своей, близкой, и осведомленность ее Петре ничуть не удивляла, хотя знакомы они были всего три, ну, допустим, даже четыре дня, а сейчас и вообще впервые разговаривали друг с другом, так сказать, в полном сознании, зная, с кем и о чем идет разговор. Можно прожить с женщиной целый век и остаться для нее чужим и незнакомым; но, вынеся хоть однажды – и притом добровольно – твой горшок, она не только знает уж о тебе все, что можно знать, но и имеет на тебя больше прав, чем родная мать! Ибо го, что мать сделала бы не задумываясь, с радостью, женщина эта делает сознательно и с отвращением, но она преодолевает его, потому что ты ей не безразличен, потому что твои дела ее интересуют. А ведь сладкая Дуса три, нет, уже даже четыре дня выносила горшки Петре!
– А что у нас сегодня на обед? – бодро полюбопытствовал он.
– Ослиные потроха! – не задумываясь ответила женщина, словно и к этому вопросу подготовившись заранее. И она громко, визгливо захохотала.
«Вот кто моих на место поставил бы!» – подумал вдруг Петре, как ребенок, очарованный, но одновременно несколько и напуганный каким-либо необычным зрелищем.
– На, получай! – Наклонившись к Петре, она своей рукой вложила ему в рот конфету. Она все еще смеялась – беззвучно, прижимая руку к колышущейся груди. – Пососи, освежи рот…
Петре с шумом проглотил сладкую слюну, и его желудок заурчал еще сильней. «К черту! – сказал он про себя. – К черту…»
После этого Петре еще несколько раз побывал в Телави; а потом умерла Анна, и снег выпал такой, что не то что в Телави, а и просто из дому носа высунуть нельзя было. Гроб с телом Анны с трудом дотащили до кладбища на телеге. Запертый дома из-за бездорожья, Петре не мог думать ни о чем другом, кроме сладкой Дусы. Она даже снилась ему в его двуспальной кровати, как бы охромевшей после ранней смерти Бабуцы. Пока он мог видеть Дусу, у него не было никаких неподобающих мыслей об этой одинокой, трижды вдовой женщине, хоть и было бы вероятно, вполне естественно, если б он сделал ее своей любовницей сразу, без всяких конфет и пустой болтовни. Что могло быть особенного в том, чтоб дурачок Сардион – конечно, одевшись потеплей – на полчасика отправился погулять со своим барабаном во дворе, а Петре в это время ясно и недвусмысленно потребовал у его матери, женщины с такими же до блеска красными губами, как у ее сына, того, чего у нее потребовал бы каждый мужчина на его месте и в чем, как выяснилось впоследствии, сладкая Дуса ему вовсе и не отказала б? Возможно, впрочем, что Петре не требовал этого именно потому, что отказа не ждал, а ему не хотелось, чтоб женщина, на которую он возлагал более серьезные надежды, оказалась чересчур уж податливой и доступной. Он нуждался не в любовнице, а в жене, он хотел не тайком навещать ее, а поселить ее у себя дома, для упрочения своей власти над семьей. В конце-то концов он заботился не о плоти, а о духе, о том самом духе, испустив который человек помирает! Конечно, утверждать, что сладкая Дуса ничуть не взволновала Петре, что он остался совсем уж слеп к ее женским прелестям, было б неверно, но он ни разу не позволил себе переступить границы учтивого и доброжелательного знакомства. Сосание конфет, кстати, тоже помогало сдерживать возникавшее желание, скрывать причину, по которой у него так внезапно и некстати срывался голос. Непроизвольно рождавшееся желание так же непроизвольно и гасло, ибо Дуса вела себя хорошо, не мучила своего урукийского гостя чрезмерным кокетством, не давала ему поводов к развитию и усилению безответной страсти, ни намеренно, ни даже случайно не пользовалась ни одною из общепринятых женских уловок и хитростей, призванных выводить мужчину из себя: не обнажала грудь сверх меры, не садилась на стул так, чтобы повыразительней обрисовать мягкие части тела; сев же, она, напротив, тотчас поправляла платье, приглаживала его ладонями, чтоб не оставить нигде никакой тайной, чересчур возбуждающей складки. А говорила она исключительно о своих мертвых мужьях, им она уделяла несравненно больше внимания, чем своему живому гостю, впущенному в дом, казалось, только чтоб у нее было кому без конца о них рассказывать! С очередной конфетой за щекой, с губами, блестящими от сладкой слюны, она бог знает в который уже раз вспоминала, как кто из них выглядел, как кто одевался, какая у кого была походка, а главное, как кто ее любил. Все эти умершие мужчины не забывали ее и до сих пор: не проходило и ночи, чтоб ей не приснился кто-нибудь из них троих, а то и все трое вместе. Даже во сне они уважали Дусу так же, как и при жизни, и друг с другом не ссорились, а учтиво сменялись в той же последовательности, в которой когда-то на ней женились…
– Так все вместе и снятся? – не выдержал однажды Петре.
– Ну да-а-а… Вот и вчера ночью все вместе приходили! – сразу оживилась Дуса. – Один шелковый платок и парчу на платье принес, другой – сандалетки с бисером, а третий – во-о-от такие серьги! (Сложив большой и указательный пальцы колечками, сладкая Дуса поднесла их к самому носу Петре.) И не простые– золотые! Как бубенчики, звенели…
Петре захотелось сказать, что, если она станет его женой, он целиком исполнит этот сон наяву, купит все, что мертвые мужья приносили ей во сне. Но сказать это он не осмелился, постеснялся просить руки женщины, тоскующей по своим мертвецам, – он не был уверен в том, что один живой сумеет осилить троих мертвых, в том, что женщина эта согласится променять троих мертвых на одного живого. Впрочем, как выяснилось опять-таки впоследствии, она вовсе не о мертвых горевала, не женскую свою судьбу вместе с ними оплакивала, а просто, хватаясь за своего живого гостя, стремилась набить себе цену, бесконечным повторением одного и того же побудить его взглянуть на нее глазами ее мертвых мужей, поучить на их примере (раз уж сам он этого не понимал), как проще всего завоевать сердце сладкой Дусы! Благодаря этому она не только избегала неприятной откровенности, но и облегчала положение гостя – при условии, конечно, что что-то понять он был все-таки способен. «А при чем тут я? – мог бы, конечно, возразить он если не вслух, то хоть про себя. – Мне-то что до того, почем им обходилось каждое твое объятие?» Но думать так Петре был сейчас не в состоянии, ибо Дуса нужна была ему не на один раз, не на минутку; он хотел ее навеки, как жизни, как божества, вызывающего и любовь, и страх! Вертя языком полурастаявшую во рту конфету, перебрасывая ее от одной щеки к другой, одурев от волнения, он покорно слушал голос женщины, как слушает проповедь в церкви неграмотный прихожанин, на душу которого воздействует лишь звучание слов, а не скрытая в этих словах мысль. Будь Петре более знаком с женщинами и более внимателен, он, конечно, заметил бы, что покойные мужья сладкой Дусы служат ей тем же, чем червяк рыбаку, что она и сама ненароком путает их имена, их последовательность во времени, их жизнь и смерть вообще. Но и это было для Петре несущественно – все трое мертвых, чинно стоявшие в очереди к своей общей жене, были для него одним и тем же человеком, умершим трижды, тремя различными смертями, исключительно для того, чтоб окружить покинутую им женщину тройной броней скорбных воспоминаний! Какое поэтому могло иметь для Петре значение, звали ли его Шакро-Ватато-Бидзина, Ватато-Бидзина-Шакро или Бидзина-Шакро-Ватато и сгорел ли он на винном заводе, был убит пьяными на свадьбе или неожиданно умер во сне? Сказать по правде, его вовсе не интересовало прошлое Дусы, он даже предпочел бы ничего не знать об этом прошлом вообще; ибо то, что он о нем знал, лишь мешало ему открыть ей свои намерения и раз навсегда перестать метаться между Уруки и Телави. Его заботы и колебания были вызваны не количеством мужей Дусы, а прочностью ее памяти о них. Память эта обосновалась в ее душе намертво, так что, женись он на ней в самом деле, ему пришлось бы не только взять в приданое ребенка-дурачка, но и заранее примириться с тем, что каждую ночь перед его постелью будет стоять очередь из трех призраков с парчой на платье, сандалетами с бисером и золотыми серьгами в руках! «К черту их всех… ну как же можно отказываться от женщины из-за мертвецов?» – задыхался от злости Петре, сидя в коляске и направляясь от Дусы домой или из Уруки к домику Дусы. Но в ту страшную ночь, когда Анна стукнула спящего мужа кирпичом по голове, Петре твердо решил жениться: он окончательно убедился в том, что его сумасшедшая мать несравненно опасней всех мертвых мужей Дусы. Те-то, судя по ее словам, приходили среди ночи не с кирпичами, а с подарками и никакого шуму не делали, а спокойно дожидались своей очереди! «Дуса… Дуса нам нужна!» – кричал он своему отцу, вымазанному в крови, натыкавшемуся в темноте на стены, словно огромная слепая птица, и так ошеломленному страхом и болью, словно он находился не у себя дома, а попал сюда случайно и умрет, разобьет голову о стены, если как-нибудь отсюда не выберется. «Дуса за тобой поухаживает… Дуса тебя в чувство приведет!» – шипел он в ухо матери, связывая ей руки за спиной. На следующий день он собирался ехать в Телави с самого утра, но тут он все-таки отложил выезд, все-таки дождался доктора Джандиери. Несмотря на пережитое потрясение и бессонную ночь, он был непривычно бодр, ощущал во всем теле приятную легкость и необычную гордость, словно резвый ребенок, ушибшийся на этот раз не по своей вине, а по небрежности взрослых и даже радующийся этому ушибу, гордящийся им, чувствующий потребность рассказать о нем всем – ибо виноват не он и наказывать его не за что. Приблизительно такое вот детское упрямство и побудило Петре дождаться доктора Джандиери, показать и постороннему человеку, в какое положение попал он, Петре, а главное, заставить его пожалеть себя.
Ни любви, ни особенно сильной неприязни к доктору Джандиери у Петре не было – и все-таки каждое появление врача его скорей раздражало, чем радовало. В его присутствии Петре чувствовал себя скованным, беспомощным: какой белоснежной ни была бы рубашка доктора Джандиери, как слащаво он бы ни улыбался, каждый его визит все-таки напоминал Петре о болезни и смерти. Именно чрезмерная чистота врача и его нравоучительный тон и вызывали у Петре такое раздражение, словно доктор Джандиери приезжал не ободрить больного, а унизить его, посмеяться над ним, продемонстрировать ему свое превосходство. Поэтому он и ездил в двуколке, являлся непременно в двуколке – чтоб вызвать у больного страх и благоговение! Но толку от этого не было никакого: обреченные на смерть умирали, а те, кому суждено было выздороветь, выздоравливали и так, без его помощи. Петре, во всяком случае, ничего полезного в деятельности доктора Джандиери не видел! Присев к тебе на постель, словно невоспитанный родственник, доктор этот крутил и выворачивал слова до тех пор, пока ты сам не признавался ему, что, где и как у тебя болит; затем он заглядывал в твой ночной горшок, как небрежная домохозяйка в свою кастрюлю, – и этим все его лечение кончалось. И за это он получал деньги, с муками и страданиями собранные гроши, которые люди робко совали ему в карман, извиняясь еще при этом за беспокойство, благодаря его за помощь, вместо того чтобы с палками на него наброситься, собак натравить! Хорошая жизнь, ей-богу, – без забот, без семьи, без детей, для себя одного! Хорошо, когда на твоем попечении не сумасшедший дом, а всего одна кобыла – и то лишь потому, что она тебе нужна, что она честно служит, честно возит тебя взад-вперед по земле! Ну, а что делать таким, как Петре? Так всю жизнь и прислуживать другим, а на себя совсем рукой махнуть? Таким, значит, ничего уж не нужно – ни жизни, ни уважения людей? Нет, нужно – и еще как нужно! Да они-то как раз уважения и заслуживают своими муками и терпением. Да, муками и терпением, но это надо уметь увидеть и понять! Так ли уж, в конце концов, сложно разглядеть с облучка двуколки то, что господь бог и с небес видеть обязан? Так размышлял Петре, дожидаясь доктора Джандиери и немного даже волнуясь: ему от души хотелось, чтоб его пожалел именно доктор Джандиери.