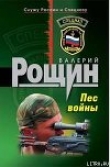Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 30 страниц)
– Вы совершенно правы, – вежливо сказал гость, не сводя глаз с Аннеты.
– Воняет… все воняет! Неужели ты не чувствуешь? – кричала Аннета после ухода гостя.
– Неправда, родненькая… ты же видишь, сколько я тут все тру и мою! Чтоб мне сквозь землю провалиться… – огорченно бормотала Агатия.
Так прошла зима. Снег постепенно оседал, серел, таял и утекал; кое-где уже виднелась земля. Из хлевов и яслей с ленивым мычанием, как бы нехотя, выходила перезимовавшая скотина. Вокруг еще теплых коровьих лепешек весело кружили воробьи; среди них был почему-то и один грязный, бог знает где перезимовавший голубь. Освобожденные от снега, черные от влаги стога испускали пар. Солнце, набираясь сил, приятно грело лица и руки, однако все еще ходили в теплом. Повязанные шалями дети, выскакивая во дворы, сразу протягивали свои перегретые у печей руки к ледяным сосулькам. Кап-кап, кап-кап… – щедро раздавали свои мутные капли обреченные сосульки. Громче щебетали дрозды; иногда они вприпрыжку перебегали через двор, гордо подняв головки, словно приехавшие на каникулы семинаристы. Наконец показалась и дорога, липкая, почти еще непроходимая от грязи, уродливо окаймленная по краям островками почерневшего снега. Земля спаслась из когтей зимы, но, изуродованная трехмесячным рабством, она словно выродилась, изменилась, загрязнилась, обессилела. Теперь все зависело от солнца и человека – им предстояло все восстановить, отмыть, упрочить заново. И солнце, и человек работали горячо, с охотой…
Когда же деревня засверкала тысячами красок и все дворы и проулки покрылись осыпавшимися от ветра цветками, Аннета своими руками открыла ворота и выпустила оленя на улицу.
– Уходи куда хочешь… только подальше отсюда! – сказала она оленю.
Люди опять бросались к заборам, опять с трудом удерживали за ошейники своих раздраженных запахом зверя и изумленных поведением хозяев собак, опять ласково подзывали оленя к себе – а олень, вскинув голову со сверкающими на солнце рогами, покачивая пополневшими, лоснящимися боками, шел по деревенской улице и прохладными, ворсистыми ноздрями обнюхивал протягивавшиеся к нему со всех сторон ладони. Спасенный, благодарный, наглядно убедившийся в человеческой доброте олень уходил, навсегда прощался с расцвеченной белым, розовым и синим деревней и, прощаясь, как умел благодарил людей за доброту, за приют, за пощаду – фыркал, мотал головой и своими большими влажными глазами запоминал и людей, и деревню. Но выйти из деревни ему было не суждено: он знал о людях больше, чем положено зверю, и это слишком притупило его природную боязливую осторожность. Аннета еще стояла у ворот, Агатия утирала слезы прощания, а Петре носком ботинка поправлял соскочившую со своего места плитку, когда прогремел ружейный выстрел… Петре вздрогнул и застыл на месте. «Послышалось, может…» – подумал он. Но звук выстрела услыхали не одни Макабели, но и все урукийцы – и не только услыхали, но и сразу догадались о причине столь неожиданного в этот спокойный, радостный, весенний день выстрела. Аннета пошла по следам оленя. Впервые в жизни она наяву вышла за ворота одна, без присмотра и без куклы. Следы оленя четко виднелись на осыпавшихся от ветра цветках, кое-где в сырых тенях заборов еще стоял его теплый, густой запах; а воздух все еще дрожал от неожиданного выстрела. Аннета шла до тех пор, пока в конце деревни, у кузницы, не увидела мокрых от слез глаз оленя. Над мертвым оленем стояли кузнец Стефане и стражник Захария. Кузнец был в кожаном нагруднике с закатанными рукавами, обнажавшими его крупные, от постоянной близости к огню смуглые руки. Стражник Захария еще держал в руках ружье. На его черной черкеске были нашиты грязные погоны из белой ткани.
– Э… э, – Аннета не могла выговорить и слова.
– Одна-то порция шашлычка мне, надеюсь, полагается? – ухмыльнулся Захария. Но ухмылка эта была притворной: его мутные, цвета шакальей шкуры глаза беспокойно бегали взад-вперед, ибо испугался он еще до прихода Аннеты, еще до прихода Аннеты понял, что хвастать удачным выстрелом ему не следует. – Да я ведь не целясь… Просто так – пугну-ка, думаю. А он вдруг бряк на бок… – попытался свалить свою вину на оленя Захария.
– Надо ж было ему, бедняге, как раз сейчас появиться! – перебил его кузнец Стефане. – Только пришел Захария – пряжку, говорит, почини. Смотрю, олень твой топает. Я-то его узнал… а Захарии откуда было знать, что… – Он внезапно умолк, не смея договорить: откуда, мол, Захарии было знать, что это не простой олень, а душа Георги?
– Мерзки вы мне все! – топнула ножкой Аннета.
По требованию Петре оленя похоронили, как человека, там же у кузницы, под старой чинарой, – ни свежевать его, ни спиливать рога Петре никому не позволил. Пока для оленя рыли могилу, насупившийся, обиженный Захария сидел у кузницы, рядом с прислоненным к стене колесом, и, поставив ружье между коленями, грыз старое, ссохшееся яблоко.
Стояла весна. Распускались расцвеченные на тысячу ладов деревья – казалось, что они, кружась, одно за другим выбегают из недр сверкающей, ослепительно чистой синевы. Стояла прекрасная голодная весна; в воздухе кружились запахи застоявшегося еще кое-где в оврагах снега и распускавшихся цветов. В пушистых пестиках цветов роились пчелы; в сырости прелой прошлогодней листвы, жужжа, возились всевозможные насекомые; с громким щебетом и гомоном, не щадя себя, летали от дерева к дереву, от двора ко двору птицы. Все были голодны, все спешили – зима опустошила амбары и кувшины до самого дна, а до осени было еще далеко. Запах изобилия и сытости существовал лишь в «Книге для семьи» Барбары Джоржадзе. Зато солнце день ото дня крепло, набиралось сил и выпаривало из земли холод и ненастье. «Мама, надо плитняк полить… ребенка же мухи заели!» – звала свекровь недавно родившая женщина, вконец разленившаяся за время беременности, разморенная запахом младенца и собственного молока. На перилах сохла перевернутая вверх дном ступка; с жужжанием кружился на месте перевернувшийся на спину жук. По дороге шел мальчик лет десяти-двенадцати, и по его лицу было видно, что его опять послали клянчить взаймы скудную горстку муки и фасоли. «Ну, еще разок…» – умоляла его, вероятно, одинокая мать или больная бабушка; вот он и пошел, еще раз пересилил свое самолюбие; ибо ни на что, кроме этого, он еще не способен: он мал, слаб, мечтателен… «Вырасту – научусь играть на барабане в трактире, и будет много денег…» – думает он. А кому нужно, чтоб он вправду всю жизнь пробарабанил в кабаках и харчевнях, вечно полупьяный, не смея хоть раз раскрыть, по-настоящему развернуть свою скомканную, как рублевая бумажка в кулаке, душу? Он идет, но ноги его не несут: перед его глазами стоят лица «помогающих» родственников. Он-то знает их лучше матери и бабушки! Те видят только пожертвованную муку или фасоль; а он – лица этих людей в тот миг, когда им приходится жертвовать, поступаться хоть горсткой этой фасоли или муки, паршивой горсткой, которою и воробья не насытишь! Матери и бабушке люди эти и сейчас кажутся такими же, какими они их знали раньше, в лучшие времена, когда в семье был кормилец и они могли возвращать взятое; а он познакомился с ними сейчас, в нужде, когда вся надежда семьи – он сам, а отец умер, арестован или пропал в солдатах. И он, завтрашний день мира, надежда мира, продолжение жизни, идет – идет, удрученный своим малолетством, сокрушенный бессилием матери и бабушки, озлобленный судьбой отца и уже заранее приспособленный к покорности и терпению! Он уже сбился с пути, сбился с самого начала, сбился не только в жизни, но и в мечтах – ведь и в мечтах у него все вертится вокруг трактирщиков и трактирных барабанщиков. А как же иначе? Они – сильные мира сего; а он – букашка и будет букашкой до тех пор, пока не возьмет в руки барабан, из которого сами собой посыплются смятые десятки. Такова жизнь, которую он знает, такой она его встретила. «Да, она такова…» – подтверждают ему все вокруг; вот его душа и покрылась перьями, более всего именно для такой жизни пригодными…

А весна, окропленная кровью Аннетиного оленя, кружилась, гудела, обрастала листьями, и Аннета твердо верила, что это последняя весна, которую она проводит в родительском доме. Уйти отсюда ей надо было любой ценой – здесь ее по-прежнему считали маленькой, говорили с ней, как с глупым ребенком, баловали ее и приписывали ее капризам все, что могла видеть она одна! Ибо до сих пор она не замечала ничего, ничего не понимала в собственном доме, была бесчувственной куклой наподобие Асклепиодоты, замечала лишь то, на что ей указывали старшие; теперь же оказалось вдруг, что это вовсе не так, что ее память все эти годы, как губка, впитывала в себя все жившее в этих стенах: смерть, страх, недоверие, постепенно наполнявшие ее, как пыль пробитую голову куклы! Аннету поражала собственная память: она помнила не только то, что видела сама, но и то, что происходило до ее рождения, го, чего ей знать и не полагалось, но что, по небрежности старших, до нее все-таки доходило. И чем дальше, тем больше ей бы пришлось помнить – а разве человеческий разум в силах запомнить все? Да и того, что она уже помнила, было достаточно, чтобы почувствовать неотвратимую, грозящую затопить весь мир беду! Пока что эта беда проникала лишь под их кров, лишь гут нашла слабое место, но где была гарантия, что этим она удовлетворится, ограничится одним их домом, не заразит постепенно и других? Дребезжащий бой огромных, как шкаф, часов лишал Аннету последнего терпения, убеждал ее в том, что медлить нельзя. С каждым днем ей становилось все невыносимей и вечное метание от стены к стене запертого в своей комнате, как узник, деда, и шорох бумаг, и щелканье костяшек на счетах отца, и бессмысленная, бесполезная суета Агатии. Дом прогнил до основания. Вонь шла от самого фундамента…
– Это тебе, доченька, кажется, – обиженно говорила Агатия.
Но Аннета уже знала, что почувствовать этот запах Агатия не сможет никогда, потому что сама насквозь им пропиталась, в нем состарилась, навек в нем потонула! А ей по ночам не спалось – она лежала в темноте, с натянутым на нос одеялом, и в каждом углу комнаты ей чудился стражник Захария с ружьем. Но если б и вся Уруки стала вдруг стражником Захарией и бдительно охраняла ее, ей все равно необходимо было б вырваться, бежать отсюда, довести до сведения людей запах своего насквозь прогнившего, зловонного дома – знак неотвратимой всеобщей беды! Думать о своих родных с такой беспощадной строгостью ее заставляла, возможно, и весна, но сама по себе и весна ничего б не изменила. И Аннета, как ее отец, никогда не догадалась бы о том, как бессмысленно и бесперспективно все их существование; и она, когда Агатия совсем состарилась бы, сама взяла бы в руки веник и совок, сама стала б хозяйкой этой беспочвенной семьи, если б в один прекрасный день у них на крыльце не стряхнул снега с ботинок инженер-путеец. Аннета любила его, сама этого еще не зная, влюбилась в него, едва его увидев, еще даже раньше – она ведь спутала его с братом, и эта ошибка ее невольно обезоружила, беззащитной и неподготовленной бросила ее в руки чувству, пахнувшему потерянными братьями и одновременно заставлявшему забыть их, занявшему в ее душе место братьев. И Аннета тревожилась, но вместе с тем чувствовала, что тревогу эту отчасти выдумывает сама, чтобы скрыть что-то еще более существенное и таинственное. Теперь она часами простаивала у окна, дожидаясь звука далеких взрывов. Впервые этот звук в Уруки услыхали, как только стаял снег, и сперва все решили, что это колесница Ильи. Но этого быть не могло, для Ильи было слишком рано, – и, понимая это, урукийцы растерянно глядели в небеса. Вскоре, однако, все разъяснилось. Теперь в лавке Гарегина только и было разговоров что о железной дороге. Чего только не рассказывали о железном чудище, которое, оказывается, ходит само по себе и может запросто перевезти с места на место целую деревню со всем ее скарбом… «Ну, теперь Гарегин нам гостинцев навезет!» – говорили собравшиеся в лавке крестьяне, сами себя успокаивая, но в то же время и вопросительно поглядывая на хозяина. Гарегин же, опершись животом на прилавок, улыбался так скромно, словно сам изобрел паровоз, но в душе побаивался и он. Будучи дальновиднее своих односельчан, он понимал, что железная дорога неизбежно уничтожит множество других дорог и тропинок, многое переставит с места на место, переместит и по-новому распределит жизнь и людей. А при таких переменах и его лавка вполне могла оказаться вдруг в малодоступном невыгодном месте.
– Да тогда вы ко мне и не заглянете! Утром сядете в поезд – а вечером уже в Тбилиси… – прибеднялся Гарегин, словно заранее усовещивая своих старых клиентов, как кормилица усовещивает своих с трудом выращенных и готовых уже разлететься в разные стороны питомцев.
– А гори она огнем… чтоб я туда еще сел! – говорил какой-нибудь крестьянин, стараясь задобрить Гарегина; но по его голосу чувствовалось, что он не вполне искренен и, когда дойдет до дела, пожалуй, и не выдержит. Впрочем, до этого было еще далеко. К Гарегину они уж привыкли, приспособились, а железная дорога к ним только шла – для нее еще лишь расчищали место, уничтожая кусты и колючие заросли, вырубая столетние леса, взрывая скалы, засыпая овраги. А впереди железной дороги шли слухи – через слухи она и утверждалась в сознании людей; и в чем только ее не обвиняли, чего только ей не приписывали! Утверждали, что вот-вот начнется второе пришествие: мертвые воскреснут, богослужение в церквах прекратится, священников остригут, а колокола снимут и переплавят на паровозные колеса. Много подобных диковин рассказывали и во встревоженной звуками далеких взрывов Уруки. А отец Зосиме ходил по деревне с пучком фиалок; к подолу его рясы цеплялся репейник, его лицо и кисти рук уже покрылись весенним загаром, а глаза по-прежнему мерцали. Он бродил повсюду, как оставшаяся без присмотра лошадь.
– Правда это, батюшка… ну вот все, что болтают? – спрашивали его сельчане.
– Должно быть, сынок… должно быть, – отвечал он таким тоном, словно хотел развеять все страхи. – И так ведь все к этому идет…
– Что ж от нас, батюшка, эту беду отвратит? – не отставали все еще надеявшиеся на него сельчане.
– А ничто не отвратит, сын мой! – широко улыбался отец Зосиме.
– Если оно так, чего ж этот старый болван зубы скалит? – бормотал за спиной священника какой-нибудь крестьянин, испугавшийся больше других и от страха обнаглевший окончательно.
– Твоя правда, сынок… твоя правда, – не оборачиваясь, отвечал ему отец Зосиме. – Старость дури не помеха…
Он прижимал к груди пучок фиалок и молитвенник – это, возможно, и делало его таким беспомощным, одиноким, резко выделяющимся в дочиста отмытом весеннем пространстве. Его ряса, усыпанная на плечах перхотью, блестела на солнце; маленькие дети, подросшие за зиму и сейчас впервые вышедшие из домов, его почему-то побаивались. Во внешности отца Зосиме было, впрочем, что-то и вправду тревожащее, гнетущее, и привлекательное и жуткое одновременно, вызванное скорей всего не соответствовавшими возрасту бодростью и жизнелюбием. Это он, должно быть, чувствовал и сам – поэтому-то он и улыбался так виновато и шагал скованно, как женщина, переодетая мужчиной. А мир снова начинал жить; поля готовились к пахоте, с виноградников выносили прелую листву и обрезки лозы; и везде, куда ни глянь, горели костры, на которых их сжигали. При ярком солнце костров этих не было видно; но вокруг них колыхался горячий воздух и распространялось приятное тепло. «Над миром тишина – поэтому и боюсь тебя, господи! – бормотал себе под нос отец Зосиме. – Над миром тишина, губительница земли… Ибо обманутые тишиной вновь позабудут тебя, господи; и вновь размножатся человеки и злодеяния их; и вновь ты вознегодуешь, господи… Над миром тишина – потопа предвестница…»
– С кем это ты разговариваешь, батюшка? – окликнул его запыхавшийся Петре. Он топал прямо по грязи, догоняя священника.
– Над миром тишина… – улыбнулся ему отец Зосиме.
– В моем доме – не тишина, а смерть и безумие! – прохрипел Петре. Сойдя с дороги, он поочередно обтер свои грязные сапоги о чей-то забор. – Я тебя, батюшка, искал… Приведи, говорит. Совсем уж в осла меня превратил!
Петре стоял у забора, а отец Зосиме на дороге. На Петре он глядел вполоборота – казалось, два врага, случайно встретившись, не решаются подойти друг к другу поближе.
– Ты фиалку когда-нибудь нюхал? – спросил священник, нюхая свой пучок фиалок.
– Что-о-о? – не поверил своим ушам Петре.
– Вот фи-ал-ка! – четко, по слогам сказал отец Зосиме, показывая Петре фиалки и молитвенник у себя в руке. – С этого начинается человек.
– Отец умирает! Пусть, говорит, отпустит, причастит меня… – смущенно сказал Петре.
– Вот такой же запах и у нас, новорожденных, – слабый, проникающий в душу! – сказал отец Зосиме. – Но недолго, только пока мы не начинаем ходить, не валимся в грязь. А хочешь выжить в грязи, первым делом убей в себе фиалку, избавься от запаха фиалки… К счастью, фиалка легко гибнет! – Теперь он держал молитвенник горизонтально, обеими руками; лежавшие на нем фиалки переплелись своими розовыми, почти прозрачными, еще в комках земли корнями. Осторожно, словно полную тарелку, поднеся молитвенник к носу, отец Зосиме еще раз глубоко, с удовольствием вдохнул и слегка наклонил книгу. Фиалки полетели в грязь.
Отойдя от забора, Петре подошел к священнику, словно этого только и ждал…
– Где ты, старина? Креста на тебе нет, что ли? – взвыл Кайхосро, когда Петре ввел отца Зосиме в комнату.
Отец Зосиме взглянул на Петре с удивлением, несколько даже раздраженно, как бы говоря: «Зачем ты меня, как лошадь, гнал? Отец твой помирать и не думает!» Но Петре не обратил на это внимания – у него снова было лицо человека измученного, перетрудившегося.
– Разве не лучше жить, причастившись, чем умереть без причастия? – проговорил он наконец, чтоб избавиться от пристального взгляда священника.
– Часы остановились, отец мой! Два дня уж молчат, как мертвые! – пожаловался Кайхосро.
– Так из-за этого я бежал сюда сломя голову? – улыбнулся отец Зосиме. – В часах-то я вовсе ничего не смыслю…
– Мое время кончилось, Зосиме! Два дня молчат, и никто, кроме меня, не заметил. Это они для меня остановились. Подали знак: подготовься, мол… – Кайхосро говорил спокойно, лишь его пухлые, веснушчатые руки едва заметно вздрагивали. – Так вот… подготовь меня. Я в твоих руках, кому бы ты ни служил – богу или черту! Только будь справедлив… С него ведь тоже спросится, – и он протянул руку в сторону Петре, – и больше, чем с меня. Мне-то тот был пасынком, а ему братом! Так что не сваливай на меня одного того, что и земле тяжело, того, что и земля не приняла…
– Вот-вот… Отцовское благословение! Петре им нужен, только чтоб грязь вывозить! – сказал Петре, выходя из комнаты.
Он с такой силой хлопнул дверью, что она не закрылась, а распахнулась еще больше – как бы специально для того, чтобы позволить ему слушать беседу отца со священником издали. В комнате стоял густой, застоявшийся запах пыли и гнилых яблок. На наружной стороне подоконника лежала горбушка хлеба, над ней кружились воробьи; но сдвинуть ее с места ни один из них сам не мог, а уступить товарищам не хотел. Их пугали и неподвижные черные тени в комнате, и стук собственных впопыхах попадавших мимо горбушки клювов; время от времени все они разом, как по команде, вспархивали с подоконника. Отец Зосиме с интересом наблюдал возню воробьев.
– Однажды в детстве кто-то меня фасолью покормил… до сих пор вкус во рту стоит, – сказал Кайхосро.
Он хотел исповедаться, излить душу, но даже на это ему не хватало решимости, поэтому он и нес чушь. Он походил на вора, стыдящегося не воровства вообще, а выяснения того, что именно он украл; ибо лишь сейчас, пойманный на месте преступления, он понял наконец, из-за какой ерунды себя опозорил. Поймавшие его люди ожидают отобрать у него бог знает какие сокровища, а он насовал себе за пазуху старых горьких огурцов! Скорей всего его просто отпустят – дадут пинка в зад и простят; и все-таки он сгорит со стыда, прежде чем вытряхнет рубашку и к его ногам посыплются сморщенные, засохшие огурцы… Сейчас Кайхосро было ясно, что он всю жизнь ненавидел отца Зосиме – ненавидел неосознанно, бессловесно, как жена калеки свекровь. Ему казалось, что, не будь отца Зосиме, его жизнь сложилась бы совсем иначе, что до встречи с отцом Зосиме все было еще поправимо, священник же навсегда отрезал ему путь отступления, отнял у него возможность отказаться от этих пропахших дерьмом развалин. В тот роковой день, когда они впервые встретились у могилы двухмесячного ребенка, коварная улыбка отца Зосиме, его слащавый, как медовый корень, язык заставили Кайхосро еще глубже погрязнуть во лжи, закоснеть в своей ошибке, еще крепче привязали его к чужому имени, к скорби по чужим покойникам! Разжалобив его, внушив ему жалость к мертвому младенцу, этот пьянчуга породнил их, навесил ему этого младенца на шею, на душу, на язык – и после этого Кайхосро отказаться уж не мог. А отказаться ему, если он хотел спастись и имел бы голову на плечах, нужно было немедленно, тут же! Не сделав этого, он и погиб – погиб именно в тот миг, когда вообразил себя спасенным. Но тогда он глуп был и как огня боялся лишь одного: как бы кто не усомнился, не стал докапываться, насколько законна его бумага на наследство. Это-то его и ослепило, это-то и замутило ему разум! Да кто тогда мог в нем усомниться? Кому пришло бы в голову возражать, присвой он себе руины Макабели даже незаконно, – руины, в которых погнушался б жить и последний церковный нищий! И нищий, получив их даром, не прожил бы там ни дня – он скорей остался б на паперти, чем стал бы выдирать из земли кишащие змеями заросли бурьяна, выметать отсюда весь этот несусветный вековой мусор! А он-то даже признал чьего-то мертвого младенца своей родной теткой – только б его отсюда не выставили, только б никто не усомнился, что он законный владелец всех этих нечистот, змей и могил, и пришел сюда не в поисках теплого местечка, а выполняя священный человеческий долг – проложить мост от незнакомых предков к столь же незнакомым потомкам. В действительности он оседлал корову, посадил верблюда в клетку для канарейки! Какой он был олух, всерьез поверив в то, что действует верно, что лишь этим может спасти себя, что лишь этой оседланной коровой, этим посаженным в клетку верблюдом запутает, собьет с толку всех жаждущих его крови врагов! Зачем ему было прикидываться, скрываться? Да если б он вовсе не встретился с Капланом – уж такую-то паршивую усадебку в какой-нибудь далекой, глухой колонии он своей двадцатипятилетней солдатчиной – выслужил бы! Если бы вся та пыль, которой он наглотался в походах за эти двадцать пять лет, вновь стала землей, на ней отлично разместился б целый батальон. Но тогда он этого не понимал – молод был, глуп… «Я вам так объясняю, словно вы посторонний…» – сказал ему отец Зосиме о чьем-то мертвом ребенке – вот что закрыло перед ним последнюю дверь к честной, открытой жизни! А он-то еще так обрадовался, что священник признал его родство с мертвой девочкой, – чуть руки ему целовать не стал! Будь у него тогда хоть капля мозгов, он не попался бы так легко на удочку отца Зосиме, поймавшего этим сразу двух зайцев: он и беспризорного покойника с рук сбыл (у них это, наверно, в заслугу ставится), и себя самого на всю жизнь дармовым вином обеспечил! Сейчас-то, конечно, уж поздно… А тогда отказаться и от имени Макабели, и от наследства ему нужно было тут же – и исчезнуть отсюда не оглядываясь, навсегда! Уж хуже того, что с ним случилось тут, ничего не могло произойти вообще. Не то что имени или звания – и потомства-то собственного у него не было: его потомству, если б оно и осталось на земле, суждено было никогда не знать правды о себе и своем происхождении. Это отец Зосиме отнял у него способность к отказу, к отрицанию! Мерцая глазами и причмокивая, он лишь помог Кайхосро закрепиться в тесной раковине лжи и этим навек его погубил… а ведь его прямой обязанностью было предостеречь сбившегося с пути, растолковать грешнику, что грех – в присвоении чужого, а не в отказе от присвоенного в минуту слабости и слепоты; что спасения ради и апостол от учителя трижды отрекся, а ему-то, червяку, и вовсе ни к чему из-за этой выродившейся семейки в ад лезть! Отец Зосиме же, вместо этого, лишь подтолкнул его, еще глубже погрузил его в пучину греха, из которого его теперь и сам бог не вытащит; и богу нелегко будет установить его личность, и бог не будет знать, кому протянуть руку помощи…
– Фасоль цветет… – сказал он. – Ты что, душу мне спасать пришел или в окно глазеть? – внезапно рассердился он.
– Цветок фасоли, кстати, очень похож на человеческую мечту, – заметил отец Зосиме. – И то и другое тянется вверх…
Они смотрели друг другу в глаза; один – напряженно, подозрительно, сердито, другой – спокойно, милосердно, терпеливо.
– А не пора ли… может, познакомимся наконец? – спросил Кайхосро, помолчав.
Лишь сейчас отец Зосиме впервые заметил, как обветшал за эти годы мундир майора: он почернел под мышками, неравномерно вылинял и весь покрылся пятнами. Даже эполеты уж не блестели, как встарь; сейчас они были похожи на два упавших с дерева, ободранных, перевернутых вверх дном вороньих гнезда. Золоченые пуговицы тоже совсем стерлись, бороздки на них почернели; одна пуговица вообще потерялась, и лишь на ткани был виден ее след – маленький кружочек, сохранивший первоначальный цвет мундира и обрывок нитки.
– Чудак человек! – улыбнулся отец Зосиме. – Да если уж мы с тобой незнакомы, тогда…
– Нет! – громко перебил его Кайхосро. – Нет! Ты с самого начала знал, что я не тот, за кого меня принимают. Но кто я на самом деле, этого не знаешь и ты!
– Ну хорошо… так и считай! – еще шире улыбнулся отец Зосиме.
– Что? Что считать? – напрягся Кайхосро.
– Что ты не тот, кем тебя считают… что и я не знаю, кто ты.
– Тогда… тогда… – от волнения у Кайхосро стал заплетаться язык, – тогда скажи и мне! Зачем ты меня мучишь? Заклинаю тебя богом и чертом, скажи: кто я?
– Фиалка! – сказал отец Зосиме.
– Фиалка? – выкатил глаза от изумления Кайхосро.
– Да! – кивнул головой отец Зосиме. – Вырванная с корнем и сразу потерявшая запах, увядшая в руках фиалка…
Они опять уставились друг на друга. Теперь оба улыбались – один, как всегда, спокойно, другой растерянно, зло, насмешливо. Внезапно у Кайхосро вырвался смех, сразу сменившийся кашлем. Его глаза налились кровью, щеки раздулись; он то и дело прикрывал рот тыльной стороной руки.
– Фиалку моего возраста ты, голубчик, видишь, должно быть, впервые… – с трудом выдавил он из себя. – Уйди от меня! – крикнул он вдруг, и его лицо приняло другое выражение, стало жестким, грубым, черным. – Уйди! – повторил он шепотом. Крикнуть еще раз он был уже не в силах – не хватило голоса.
– Успокойся, успокойся… – твердил ему отец Зосиме.
А за окном сверкал многоцветный мир. Стояла прекрасная голодная весна: люди ели вареную крапиву, но духом не падали. Гарегин торговал в долг, и покупателей у него от этого стало не меньше, а еще больше. Однако припасы, приобретенные в долг, были вкусны, но не насыщали. «На западе, говорят, совсем голод… у них, наверно, и кукурузы уж в обрез!» – замечал порой кто-нибудь, молча подразумевая, что у нас-то до этого все-таки еще не дошло. Потом сказавший это отходил в сторону, чтоб послушать и других и или рассеять свои извечные крестьянские страхи и сомнения, или еще больше утвердиться в них. «Кукуруза? Да что это за еда, кукуруза!» – тотчас подхватывал кто-либо другой; и жизнь продолжалась. Страсти Кайхосро и отца Зосиме никого не интересовали.
– Уйди от меня, говорят тебе! Дай мне спокойно помереть… – сказал Кайхосро. Но ему вовсе не хотелось, чтобы отец Зосиме действительно ушел, – его голос выдавал его. – Разговаривать с тобой я еще не выучился… но и ты меня, батюшка, верно пойми! Я ведь в ковчеге заперт…
– Да ну… какой уж там ковчег! – улыбнулся отец Зосиме. – Разве что пара клопов – вот и все…
– А чего тебе еще? – сразу подхватил Кайхосро. – Мы-то чем лучше клопов – и я, и Петре?
– И Петре тоже жаль… – сказал отец Зосиме.
«К чему мне ваша жалость?» – мысленно обозлился Петре. Разговор отца со священником он слушал из большой комнаты, стоя перед огромными, как шкаф, часами. «К чему мне ваша жалость!» – еще раз сердито, раздраженно подумал он. Его рука лежала на жилетном кармане, и он чувствовал, как в нем тикают серебряные часы с монограммой. Эти часы стучали, словно второе сердце Петре, – а те, огромные, как шкаф, молчали, остановились. Но Петре почему-то никак не мог решиться завести их, хоть сначала и остановился перед часами отца именно с этой целью. Ключ был вставлен в щелку на циферблате, и достаточно было несколько раз повернуть его, чтоб часы заработали вновь, своими глухими, дребезжащими толчками сдвинули с места застоявшийся воздух комнаты. Ощущение это почему-то взволновало Петре – именно в эту минуту в нем родилось что-то новое, таинственное, значительное; и даже собственное тело на миг показалось ему незнакомым, словно беременной женщине, случайно взглянувшей в зеркало. Он был напряжен и возбужден, как шпион, подслушивающий под чужой дверью. Впрочем, священник и отец не сказали ничего особенного, они несли свой обычный вздор; зато молчание часов открыло ему так много, что он был радостно ошеломлен. Молчание это сообщило ему главное – что он заслуживает гораздо большего, чем требует, и может сделать гораздо больше, чем ему казалось прежде. Улыбнувшись, он радостно потер задрожавшие руки. «И Петре тоже жаль», – как раз в этот момент сказал отец Зосиме… К чему была их жалость ему, только что обретшему власть, только что понявшему, что в этом крохотном кусочке металла скрыта не только душа огромных, как шкаф, часов, но и душа его отца? Так что в этом доме он значил больше отца и в любой миг, когда захотел бы, мог стать действительно первым, действительно старшим! Петре вынул ключ из щелки в циферблате и зажал его в кулаке. Несколько секунд он еще колебался, хотя отказываться от своего внезапно возникшего замысла и не думал – так что он, собственно, и не колебался, а лишь притворялся, что колеблется, что решиться на этот шаг ему очень трудно… притворялся, словно подражая великим мира сего, держащим в руках судьбу не одного полоумного старика, а целых государств. Потом он вышел на веранду и, подняв над головой руку со сжатым кулаком, закрыл глаза, чтоб и самому не увидеть, куда полетит маленькая железная птичка – ключ от огромных, как шкаф, часов.