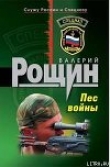Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 30 страниц)
Ответ этот поразил не только Кайхосро, но, казалось, и стоявшего под липами осла. Своими большими влажными глазами, из которых не исчез еще вчерашний испуг, осел так напряженно вглядывался в обоих мужчин, словно и ему не терпелось узнать, что происходит там, в хлеву.
– Одевается? Кто одевается? – взволновался Кайхосро.
– Сына раздела и сама одевается… Слава тебе господи! – перекрестился отец Зосиме. – Словно к свадьбе наряжается… теперь уж в последний раз! – добавил он, помолчав, и отвел глаза от осла, не выдержав упорного взгляда животного. – Агатия не давала: давай, говорит, хоть разок ополосну… Оденется, потом туда войду… – добавил он так тихо, словно стыдился животного, просил у него извинения за свое бессилие и бесполезность и для покойного, и для скорбящих. – Где Петре? – крикнул он вдруг.
– Не знаю… за рисом и рыбой пошел, кажется. Гибнет земля, отец мой… – пробормотал Кайхосро, не заметив гнева священника.
– Нет… нет еще! – сказал отец Зосиме. – Пока на матери окровавленная рубашка сына, земля еще не погибла!
Его глаза мерцали уже как обычно. На засыпанных перхотью плечах светился бледный луч утреннего солнца.
– К чему сейчас эти рассуждения! – обиделся Кайхосро. – Дня спокойно прожить не могу…
– Человек, друг мой Кайхосро, как мельница: что в него заложишь, то и перемелет! – сказал отец Зосиме. – Но он, черт возьми, должен хоть знать, что мелет…
Так вот оно и вышло – с этого дня Анна поселилась в хлеву. Под платьем у нее было надето окровавленное белье Георги, а ночью она спала в его окровавленной постели. Привыкшие к Георге воробьи будили теперь ее, и, когда осмелевшие, обнаглевшие птицы с шумом и гомоном окружали эту маленькую, преждевременно сломленную жизнью и все-таки всегда улыбавшуюся, как девочка на качелях, женщину, она говорила с ними о Георге, не сомневаясь в том, что они ее понимают. «Мой мальчик был добрый, он вас любил…» – говорила она, время от времени с улыбкой оглядываясь на Агатию, как бы гордясь тем, что воробьям так приятен разговор о Георге; и подавленная ее горем Агатия, скрестив руки на груди, молча глядела на нее. По желанию Анны осла ночью по-прежнему держали в хлеву, хотя внутри хлева она и устроила нечто вроде храма. На стенах висели брюки, рубаха, тушинская войлочная шапочка, покоробленные, задубевшие лапти и пестрые шерстяные носки Георги; в одном из углов стоял заступ с отполированной его ладонями ручкой; вокруг выцарапанного на камне человечка постоянно, неугасимо горели свечи, а у изголовья тахты курился ладан, и нить фиолетового дыма медленно, но безостановочно тянулась к потолку. В сумерках превращенного в храм хлева темное тело осла со слезящимися от ладана глазами возвышалось, словно монумент одиночества и безысходной скорби. «Ночью совсем спать не могу!» – голосом Георги жаловался Анне выцарапанный на камне человечек. «Почему, родной мой?» – волновалась стоявшая перед ним на коленях Анна. «Да вот – все у меня крик петуха того в ушах стоит…» – «Устаешь ты, сынок… очень устаешь. Ты еще маленький!» – шептала Анна. «Я всех вас помню, мама, всех вас жалею…» – отвечал человечек, роняя восковые слезы. «Почему ты плачешь, сынок… почему ты плачешь?» – разрывалось сердце Анны. «Как это почему, глупенькая? – не щадил ее человечек. – Мать оплакиваю, вот почему!» – «Да, родной мой… да, отрада моя! Сын мать оплакивать и должен!»– била себя кулаком в грудь Анна. Их уединение нарушалось лишь боем часов – этот дребезжащий, безжалостный звук так пугал Анну, словно все еще длилось прошлое, словно ей, тайком прокравшейся на свидание с Георгой, сейчас предстояло вновь идти туда, в логово ненависти, чтоб опять греть кирпич заживо гниющему мужу, чтоб ради одного сына опять лгать и хитрить с другим. Бдительный, неподкупный страж двухэтажного дома Макабели своим гудящим боем опять звал, предостерегал, нагонял страх на узника, тщетно пытавшегося спастись именно в прошлом, спрятаться в ушедшем, мертвом, несуществующем времени, – часы, раз навсегда измерившие и отбросившие это время, и не думали ради кого бы то ни было возвращаться в него, вновь перетряхивать отрепья и мусор прошлого; ведь у них было сколько угодно нового, свежего теперешнего времени, которое нужно было точно так же измерить, убить и выбросить! На минут-ку-другую вся напрягшись, покинув созданный ее воображением мир, Анна с тревогой прислушивалась к бою часов. Между этими звуками и ее жизнью существовала еще какая-то затаенная, непостижимая связь – должно было произойти еще что-то, чтобы связь эта прекратилась, чтоб Анна и часы расстались, забыли друг друга окончательно, навеки. Она помнила дорогу – усыпанную желтым пеплом луны, темную от повешенных на деревьях теней, изрезанную скрытыми во тьме ямами, пустую, невыносимо пустую и как бы взъерошившуюся, удлинившуюся от боя часов дорогу назад, к злобному, язвительному сыну, к равнодушному мужу, к его грубой и шершавой, как кирпич, страсти! Она хорошо помнила и этот прислоненный к камину кирпич – закопченный, бог весть сколько раз согревавшийся на горячих углях, укутанный в лоскут старой шали, наподобие хилого, недоношенного младенца. Кирпич этот она и сейчас видела так ясно, точно держала его в руках, и ее пробирала такая дрожь, словно она вновь стояла босиком на холодном полу, вновь приседала на корточках перед камином. Кирпич прочно, основательно лежал там, куда она его клала обычно, на месте, выбранном, пожалуй, даже не ею, а им самим; ибо каждая вещь сама вынуждает своего хозяина выбирать для нее место, соответствующее ее объему, весу и назначению, чтобы твердо знать, где она находится, и не искать, когда она понадобится. Вещей, нужных человеку лишь один раз, не существует– а может ведь случиться, что от какой-то простой, обычной вещи будет зависеть и жизнь! Ничто другое в двухэтажном доме Анну уже не интересовало; но о кирпиче она не забыла и в хлеву. Почему-то он вставал перед ее глазами, как только она ложилась в постель Георги, – прислоненный к камину, закопченный, неподвижный, молчащий; и ей казалось, что она не засыпает, а всасывается в узкие, грубые поры кирпича. По ночам она иногда думала и о мести… Ночь была беспощадна – ночью ей было невозможно отключаться, обманывать себя. Ночь выявляла все растворившееся в дневном свете; мысли и намерения она оголяла и упрощала так же, как самого человека. День был отведен для безумия: вокруг нее с гвалтом и гомоном кружились воробьи Георги, повсюду, куда б она ни взглянула, цвела курага, как в день его похорон, и сидевшие на ступеньках лестницы Аннета и Асклепиодота с испуганным любопытством глядели, как она на коленях ползает вокруг хлева. «Не позорь меня! Подумай и о других! Кроме него, у тебя никого нет, что ли?» – кричал на нее Петре; и она с улыбкой глядела на него снизу вверх, дрожащими пальцами засовывая назад выбившиеся из-под платка волосы. Днем существовали и Агатия, и отец Зосиме; а изредка на веранде показывался и тот – ее защитник и губитель, лукавый кровоторговец! Сам же Георга днем вскапывал виноградник. «Устает он, родная, очень устает, – говорила она навещавшей ее Агатии. – До сих пор еще не пришел; и кусочка хлеба с собой не взял. Не заболел бы… Тому, кто работает, Агатия, есть нужно – натощак много не наработаешь!» – «А ты поешь сама – ему впрок и пойдет. Ну, заставь себя! И Аннета тоже… если, говорит, бабушка не поест, и я кусочка в рот не возьму. Аннету ты же любишь…» – умоляла ее Агатия. «Это потому, Агатия, что у тебя детей не было! Ты этого не испытала. Дети – это горечь, Агатия!» – говорила Анна. От бесконечного ползания по земле ее черное платье стало почти белым, лицо побагровело, а платок сбился набок. И Агатия плакала! Старческие морщины ее лица наполнялись слезами; сжав губы, она приглушенно выла, оплакивая и Аннино, и свое собственное несчастье, – вечная прислуга, женщина, материнства не испытавшая, а за выращивание чужих детей получавшая подержанные штаны и на всю жизнь оставшаяся такой же бесштанной девчонкой, какой ее привели когда-то в дом Микеладзе! Она всегда жила чужой жизнью, чужой болью и радостью, и, хотя у нее на коленях всегда сидел чей-нибудь ребенок, в материнстве она и сейчас смыслила не больше Аннеты. Выращенные ею дети, понабравшись ума-разума, тут же забывали все, кроме того, что она – прислуга, выросшая в их семье «бесштанница», с которой их связывает не любовь, а лишь привычка, присутствие которой не обязательно, а лишь полезно. Она ничуть не удивилась бы, если б любой из ее питомцев, подобно Луарсабу Микеладзе, на глазах у гостей вдруг задрал ей юбку, чтобы проверить, не забыла ли она надеть штаны, – то, чего он никогда не посмел бы проделать с настоящей матерью или бабкой. А она была ненастоящей – потому что никого не интересовало, может ли она родить ребенка. Она была тоже игрушечной – только, в отличие от Асклепиодоты, не игрушечной дочерью, а игрушечной матерью; да еще различались они тем, что Асклепиодота пришла в дом в собственных штанах, а Агатия без них. И сейчас, воя над потрясенной смертью сына Анной, она в самом дальнем, самом потайном уголке души ей все-таки завидовала – завидовала самой человеческой и страшной завистью, ибо и о таком могла лишь мечтать… Да, она заранее примирилась бы даже со смертью ребенка – только б судьба хоть на денек-два сподобила и ее стать матерью! «Ты этого не испытала…» – сказала ей Анна, и это ее лишь еще больше ранило, испугало, оскорбило! И она была женщиной; и ей хотелось испытать все установленное богом для женщин – и роды, и оплакивание! Но помочь и ей, и Анне не могло уж ничто. Все, что с ними должно было случиться, случилось – жизнь утекла, прошла мимо них, как бродячий разносчик, и, выманив, отняв, вырвав у этих двух бессильных женщин все, что ей требовалось, взамен швырнула одной из них неродившегося ребенка, а другой мертвого…
– Пойду Аннету укладывать… – сказала Агатия. – Такая уж взрослая девочка – а одна, хоть убей, не засыпает!
Хмуро, напряженно сидевшая на краю тахты Анна ничего не ответила. Ей хотелось, чтоб Агатия поскорей ушла, – осознанно или бессознательно, она слишком уж настойчиво старалась вытащить Анну из дурманящего уединения ее мнимого храма. Наверно, она и не подозревала, насколько безжалостна она была к Анне, какие муки доставлял Анне любой ее разговор об Аннете, Нико или Александре. Скорей всего, и она, подобно Петре, считала Анну безумной и пыталась лечить ее рассказами о любви внуков. Но она не знала, как необходимо Анне все время находиться тут, в хлеву или во дворе, чтоб не пропустить прихода Георгия… Она ведь вообще не знала, что Георгий жив, – где ж ей было догадаться, что в дом отчима он и ногой не ступит, как бы ему ни хотелось повидать мать! О том, что Георгий жив, знала одна Анна. Нет, впрочем, отец Зосиме тоже… он-то и сказал ей, что Георгий будет жить до тех пор, пока жива она сама, что в действительности человек умирает, лишь когда все на свете примирятся с его смертью. Георгий умер для других, мертвым его считали другие – но для Анны он был жив по-прежнему. Чтобы спрятаться от врагов, он принимал самые разные обличья: порой он, превратившись в воробья, вместе с другими воробьями стучал клювом в дверь матери; порой он становился дождем, и тогда она, выскочив из хлева без платка, босиком, как девочка, кружилась в его горячих, пахнущих землей руках. И она была счастлива, хотя деревня считала ее сумасшедшей! Но отойти от хлева она не могла ни на миг: Георгий заговаривал с ней то из камня, на котором был выцарапан человечек, то из своего заступа, то откуда-нибудь еще. Главное же, что сейчас он был уж не так покладист и уступчив, как прежде; он быстро раздражался и, если б она ответила не сразу, мог и совсем уйти… поэтому-то и копошилась все время в хлеву или ползала вокруг. «Ты меня позоришь!» – кричал ей Петре; но чем она была виновата? Это он позорил себя тем, что так легко поверил в смерть брата, так легко примирился с ней…
Таковы были дневные мысли Анны – ночью ж она мучительно, тревожно думала о прислоненном к камину кирпиче и, ясно видя его холодную, шершавую поверхность, с блаженным спокойствием оседала, всасывалась в мельчайшие поры кирпича. Лишь однажды ночью это приятное, похожее на легкую, блаженную смерть ощущение внезапно прервалось. В дверь хлева кто-то постучал; она машинально встала и открыла. В дверь вошел Александр. Темнота хлева была освещена лишь тусклым мерцанием двух-трех догоравших свеч, но Анна без труда его узнала. Александр был пьян – он тяжело дышал, и хлев сразу пропитался запахом спиртного. В темном углу колыхнулась тень осла, и пламя свеч замигало еще сильней.
– А, это ты, мальчик? – сказала Анна.
– Бабуля… Как ты тут, бабуля? – ласково спросил Александр.
– А я думала, ты у Нико… Всем говорю: брата навестить поехал! – улыбнулась Анна.
– Ты лучше о себе подумай, несчастная! Почему ты такая? – мотнул головой Александр.
– Какая «такая»? – кокетливо спросила Анна.
– Жалкая, несчастная, беспомощная… Рабыня! – крикнул Александр.
– Я, мальчик, помешанная… – вновь улыбнулась Анна.
– Нет! – зло усмехнулся Александр. – Ты не помешанная! Ты притворяешься помешанной, чтоб ни с кем не ссориться. Ты рабыня!
– Эх ты… отцовское отродье! Только лаять вы все и умеете… – притворно рассердилась Анна.
– Рабыня! – повторил Александр. Он стоял опустив голову, словно разговаривал с кем-то под землей. – Зачем ты за деда замуж пошла? Зачем ты всех нас обездолила? Эта доброта твоя проклятая нас погубила, растяпами сделала… – Подняв голову, он бессмысленно огляделся вокруг.
Слабо вспыхивающее пламя догоравших свеч смахивало на живую бабочку, приколотую к стене иглой. Сидевшая на смятой постели Анна держала в руке тарелку с куском черствого бисквита.
– Ешь! – сказала ему Анна. – Это домашнее.
Рот Александра вытянулся в удивленной, дурацкой ухмылке, – к его изумлению, ему вдруг действительно захотелось бисквита, у него даже слюнки потекли. Он отломил себе кусочек. Взявшись за тарелку и второй рукой, Анна придвинула ее к нему. «Бери… бери все!» – сказала она. Александр отломил еще кусочек и смахнул с подбородка крошки. Жевал он стоя.
– Знаешь, откуда я иду? – спросил он и на миг остановился, чтобы проглотить кусок. – Я был там… – Мотнув головой, как лошадь, он отломил еще кусочек бисквита. – Деда убить хотел, – он сунул бисквит в рот, – да в последний миг сердце подвело. Жалость твоя помешала… доброта твоя чертова! Как яд в жилах течет…
– Ты присядь… чего, как лошадь, стоя жуешь? – сказала Анна.
– Как яд, говорю, доброта твоя у меня в жилах! – крикнул Александр и тут же закашлялся, поперхнувшись бисквитной крошкой.
– Ешь на здоровье! Куда ты спешишь? – сказала Анна.
– В гроб! – выдавил из себя Александр, все еще не справившись с кашлем. – Жена меня в гробу ждет… другого места у нас нет. – Он наконец справился с кашлем; но теперь его голос стал басистым, хриплым. – И Нико никого убить не способен… такой же растяпа, как и я! Или просто свалили на него, или силой заставили бомбу бросить… Живем как убийцы – а нас-то и убивают!
– Хочешь успокоиться – съезди, навести брата! – сказала Анна, не глядя уже на Александра и сметая в кучку оставшиеся на тарелке крошки. – А это воробьям… – сказала она, подняв голову с едва заметной печальной улыбкой, уверенная, что Александр тут. Но его в хлеву уже не было.
В открытую дверь хлева вливался холод дальних звезд. «Никак эта проклятая ночь не кончится!» – подумала Анна. Исчезновение Александра ее ничуть не удивило – она и не задумалась над тем, действительно ли он приходил, или это ей лишь почудилось. Она не стала ложиться, а поправила постель и присела на нее. «Он с самого детства такой… невезучий…» – промелькнуло у нее в голове. В прямоугольнике открытой двери было темно, и перед ее глазами все время стояло одно и то же: шероховатый кирпич, прислоненный к камину, весь закопченный и чего-то от нее ждущий! Ее ноги медленно, постепенно стыли, и это было приятно – они уж отрезвели, и стоявший в теле дурман незаметно сжимался, уплотнялся, связывался, как залитая в форму глина. «Надо суметь… нужно… иначе как пить дать в беду попадет», – спокойно думала она. Осел в темном углу засопел; его копыто глухо, несмело стукнуло по земляному полу. «И тебе, бедняге, спать не дают…» – сказала Анна. Она сидела на постели, выпрямившись, готовая встать, – сидела, как безногий калека, прячущий свое увечье под столом; но она уже знала, что встанет. Она ждала лишь того, чтобы возникшая в ногах трезвость достигла головы. Отсюда звезды были не видны, но они озаряли все небо, и их отсвет лежал на земле, как желтая пена. Где-то очень далеко лаяла одинокая собака. Все свечи догорели, и в хлеву стоял запах горелого фитиля – верней, не стоял даже, а метался, сторонясь чистого, здорового воздуха, прячась от него в темных, теплых углах хлева, словно сбившаяся с пути птица. Но это была ночь очищения, и спасти запах гари не могло уж ничто – через открытую дверь в хлев вливался холод звезд и поток свежего воздуха, невидимый, как бог, острый и чистый, как меч божий… Анна встала и вышла из хлева, как купальщица из реки, вся в мурашках, приятно освеженная, легкая, бодрая! Пройдя через двор, она с проворством кошки поднялась по лестнице и уже через минуту стояла над постелью Кайхосро, словно младенца прижимая к груди закопченный кирпич и ожидая, чтобы глаза привыкли к темноте. В комнате стоял густой, тяжелый запах. Кайхосро спал с открытым ртом, откинув голову набок; через тревожаще долгие промежутки он всхрапывал, словно постепенно подымаясь из какой-то глубокой, темной пропасти. Теперь его лицо виднелось уже отчетливо. Сон, казалось, стер возраст – по лицу были разлиты детская наивность, беспомощность и покой. Закрыв глаза, Анна изо всех сил размахнулась поднятым над головой кирпичом. Потом она уж ничего не помнила. «За Георгия! За Нико! За Александра!» – кричала она, безжалостно молотя кирпичом воображаемое лицо, казавшееся ее закрытым глазам неподвижным. А окровавленный Кайхосро бегал в это время по комнате, и его руки оставляли красные отпечатки на стенах, столах, стульях, на огромных, как шкаф, часах и на Агатии, Петре и Аннете, от его рева проснувшихся и вскочивших с постелей. Отбиваясь от всех троих так, словно и они хотели убить его, он бессмысленно, инстинктивно искал выхода на веранду и был так потрясен, поражен, напуган, словно проснулся не в собственном доме, а в каком-то лабиринте. «Помогите, убивают!»– орал он, оставляя лохмотья белья в руках пытавшегося остановить его Петре. А Анна по-прежнему дубасила кирпичом подушку и воображаемое лицо на ней. Потом кто-то выбил у нее из рук кирпич, связал ей руки за спиной, как ребенка, подхватил ее на руки и вынес из комнаты. «Почему?» – удивилась Анна. «Бабуля, бабуля, бабуля…» – кричала ей вслед Аннета.
На следующий день, когда приехал доктор Джандиери, Агатия кое-как уже навела порядок – и все-таки что-то от вчерашнего урагана в воздухе еще оставалось. В доме царили неестественное, напряженное молчание и ожидание – ожидание не врача, а чего-то другого, более значительного, хоть и неизвестного. В одном месте на стене виднелся отпечаток окровавленной ладони Кайхосро, который Агатия не заметила или не смогла достать рукой; распластанный, как паук, отпечаток этот пытался, казалось, уползти наверх, в более безопасное место. Кайхосро лежал на тахте с перевязанной головой и хмуро, словно в чем-то сомневаясь, глядел на врача.
– Нашли время ссориться… – засмеялся доктор Джандиери. – Ну-ка, покажите!
Кайхосро был явно не в духе, – и каждый, кто увидал бы его глаза, печальные, как у попавшего в капкан зверя, тут же бы, не успев даже толком понять за что, его пожалел! С перевязанной головой он выглядел совсем уж беспомощно и одиноко. Доктор Джандиери осторожно снял окровавленную, задубевшую повязку и, нагнувшись вперед, упершись локтями в колени, внимательно осмотрел рану.
– Ничего страшного! Бровь чуть рассечена… вот попади она немного вбок и выше, тогда картина была б совсем иная, – деловито, серьезно сказал он.
– Все меня убить хотят, доктор! С самого рождения… – пожаловался Кайхосро, осторожно поднеся руку к ране. Без повязки, открытая неприятно холодному воздуху, рана пульсировала – глубоко, таинственно…
– Вы счастливый человек! – сказал доктор Джандиери, снова внимательно вглядываясь в рану.
– Счастливый? – изумился Кайхосро.
– Да ведь убить-то человека проще пареной репы– а вас, видите, никто не смог! Вы же сами сказали… – заметил доктор Джандиери, сбросив на пол грязную повязку.
– Да! – подтвердил Кайхосро. – Я размножил
лишь своих убийц… ничего другого из моей крови не родилось. – Усмехнувшись, он тут же застонал: даже от мгновенного движения рана разболелась, и его рука невольно потянулась ко лбу.
– Не бойтесь, не бойтесь! – успокоил его доктор Джандиери. – Это недостойно вас. Вы же старый солдат! Раненые офицеры войска в атаку водят. Илью Орбелиани с поля боя, говорят, по кускам выносили…
Одна щека Кайхосро сморщилась, словно чтоб отогнать муху. Выпрямившись, откинувшись на спинку стула, доктор Джандиери похлопал себя по коленям.
– Вы совершенно правы, – сказал он через несколько секунд, словно поняв, отчего Кайхосро сморщился, и отвечая на это, невысказанное. – Вы правы… время героев и героизма кончилось. Мы постарели, майор! В нас вкралась старость – а в старости душа сладка, как осенние плоды. До этого мы о ней и не думаем! Да, старость… а какой же черт еще? Пришел к больному – а сумку в коляске оставил…
– Петре! – нерешительно позвал напуганный своей раной Кайхосро. – Вы уж посидите тут… Петре принесет, – сказал он доктору, стараясь говорить так, чтоб не потревожить ни одной мышцы лица.
– Сейчас тебе лекарство приложим… как говорится, до свадьбы и заживет! – сказал доктор Джандиери, вставая со стула.
– И это уж недалеко! – В голосе Кайхосро вновь послышалась печаль. – Азраил меня повенчает…
Из комнаты Кайхосро врач вышел вместе с Петре.
– А где ж она? – спросил он у Петре, спускаясь по лестнице. Но он уже знал где, уже увидал дверь хлева с прислоненным к ней заступом. Петре кивнул в ту же сторону.
– Как ты смел, болван! – закричал доктор Джандиери, отталкивая ногой от двери заступ Георги.
Анна сидела на тахте. Из-за связанных за спиной рук она казалась горбатой.
– Погубила семью… ублюдка своего всем нам предпочла! – попытался оправдаться Петре; но, увидев глаза врача, он, словно побитая собака, вяло, неохотно отошел от двери хлева.
Бросив сумку на землю, доктор Джандиери лишь тут почувствовал, что у него дрожат руки. От тугой веревки на запястьях Анны остались красные следы. Он осторожно погладил их, словно смазывая ожог.
– Ну что тут поделаешь? – улыбнулась ему Анна.
– Молчи! – прикрикнул он. – Молчи, – повторил он шепотом. – Молчи, несчастная! Надо держаться, не сдаваться… и о себе хоть немного подумать! Не смей улыбаться! – снова крикнул он.
– Умер? – не спросила, а взмолилась Анна.
– Для тебя он давно уж мертв. Выкинь его из головы! – сказал доктор Джандиери.
Он держал в руках ее запястья, и она сидела молча– спокойная, покорная, податливая, как стебель комнатного растения. Это-то и заставило его растеряться – от ощущения слабых и упругих костей Анны у него так сжалось сердце, так закружилась голова, точно перед ним была не несчастная больная старуха, а молодая любимая женщина, с которой он, и сам еще молодой, робкий, впервые оказался вдвоем. «Я потому до сих пор выдержала, что хлеба из твоих рук поела…»– донесся до него голос Анны. «Хлеба? Какого хлеба?» – взволновался, забеспокоился, устыдился он. Напряженный до предела, он, однако, и пошевелиться не мог – не смел, не решался, словно не он, а Анна вцепилась в его запястья, и ему было неловко отнять их. От Анны пахло маленьким огородом, а ее тихие, чистые, робкие, как бы новорожденные глаза были похожи на подснежники, выглянувшие вдруг из разворошенного ногой сугроба… Так они и глядели друг на друга, пока из глаз Анны, словно вешний поток, словно клич победы, словно вырвавшаяся из загона овечья отара, не хлынули слезы – бог знает в скольких сердцах копившиеся, сколько раз перекипавшие, с каких пор таимые, сдерживаемые слезы! «Да, да… плачь, плачь, плачь!» – бессмысленно повторял взволнованный доктор Джандиери. Анна плакала и горячими от слез губами целовала его руки – и он даже не пытался отнимать их, как никогда не отнял бы у больного поднесенного ко рту лекарства или куска хлеба у нищего. «Уходи, забудь нас… не приходи больше. Спасибо, доктор! Нам ничто не поможет… такая уж, видно, наша судьба», – невнятно бормотала Анна, прижимая к лицу чистые, ароматные руки врача. Она была права – и успокаивать ее каким-нибудь сладеньким лекарством, и выражать то, что он чувствовал сам, было бы сейчас одинаково жестоко. Чуть погодя он уже сидел на облучке своей двуколки, и к его скулам присыхали тяжелые слезы. С шумом мчались назад нависшие над дорогой ветки деревьев; рвы на обочинах были наполнены сухими листьями липы, тополя, акации и плодовых деревьев. В уже опустевшем пространстве, кружась, исчезали голые, как ладонь, дворы пепельно-серого цвета, выгоревшие на солнце, кое-где уже замшелые черепичные крыши, прильнувшие к земле, застывшие, как купола со снятыми крестами, стога, балконы, украшенные кистями винограда и гирляндами еще влажных чурчхел, над которыми роились пчелы, – балконы, пахнувшие сваленными прямо на пол яблоками и айвой. Но он ничего не видел: в его глазах стояли слезы, сквозь них и пространство, и дорога, и спина лошади блестели совершенно одинаково, словно были посыпаны толченым стеклом, как пол в лавке Гарегина. Зато и его слез не видел никто – а если б и увидел, то счел бы их причиной дорогу, ветер и пыль. Он слышал лишь урчание лошадиного брюха и свист собственного кнута, занесенного не для того, чтобы погнать лошадь еще быстрей, а для того, чтоб отпугнуть от себя эту странную печаль и слабость. «Что с человеком? Почему эта божья глина так неизлечима?» – думает, шепчет, кричит потомок Эскулапа, наделенный бдительностью петуха, мудростью змеи и твердостью посоха, все на свете повидавший и перенесший и все-таки оставшийся наивным, мечтательным ребенком! Ибо и он, исследователь жизни и смерти, умудренный университетами, постигший глубину книг, невежествен и бессилен перед горем простой деревенской женщины, жизнь которой почему-то не соответствует раз навсегда установленным, изученным, сформулированным, общепринятым законам – подъемов у нее больше, чем спусков, пуд ваты для нее тяжелей, чем пуд железа, и одна ее слеза нуждается в большем просторе, заключает в себе больше тайны, чем целый океан… «Эй, Эскулап! Долго еще грезить будем?» – кричит себе человек, сидящий на облучке коляски, рослый и величественный, как господь бог, и одновременно, как ничтожная пылинка, затерянный в сверкающей тьме собственных слез, как выпавший из гнезда птенец, застрявший в колючих зарослях собственной тоски! А жизнь продолжается. Приготовившиеся к зиме люди уже заперлись в домах; гудят камины и железные печи; пар подымается от сохнущих на дровяных штабелях чулок, от булькающих на огне кастрюль и горшков. Беременная женщина входит в чулан и, засучив рукав, засовывает руку в заиндевелую банку с соленьями. «Что это ты, дочка?» – кричит ей свекровь. «Кисленького хочется!» – отвечает беременная, жадно облизывая свою мокрую, по локоть покрасневшую руку…