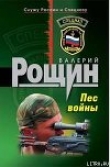Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 30 страниц)
2
Мать вечно пугала его борчалинцем – поэтому, вероятно, он и рос ребенком робким, молчаливым. Даже оставаясь вдвоем, мать с сыном разговаривали шепотом; когда же она плакала, его губы тоже начинали кривиться и вздрагивать, и едва она спрашивала его: «Ты-то чего плачешь, глупый?» – он, уже не в силах сдержаться, утыкался лицом в ее подол и горько, жалобно всхлипывал. Анна прожила с мужем всего два месяца, а Георга никогда не видел отца вообще, но этот мертвый, давно уже похороненный человек был единственной, никогда не надоедавшей, неисчерпаемой темой их разговоров. Анна рассказывала Георге об отце, как о сказочном герое, и Георга любил его, как сказочного героя – самого красивого, сильного, умного, ловкого, доброго, но способного при этом одним взмахом своей короткой, острой сабли срубить все сто голов великана или по самую шею вбить в землю железного человека. «А нашего борчалинца он одолел бы?» – спрашивал Георга; и, когда грустно улыбавшаяся Анна в ответ молча кивала, ребенок был на седьмом небе от счастья. Его возносила туда тайная, скрывавшаяся им даже от матери надежда: Георга надеялся, что отец когда-нибудь оживет, разок потянется, как после долгого сна, и тогда уж борчалинцу несдобровать! Такова была тайная мечта Георги, в которой он не видел ничего странного, невероятного, – ведь мать говорила ему, что отца мертвым, покоящимся в гробу с руками, скрещенными на груди, не видел никто и, где он похоронен, тоже никому не известно. Но пусть он даже действительно погиб – почему же, спрашивается, ему было не воскреснуть? Воскресали же в сказках герои, не успевшие рассчитаться со своими врагами и поэтому не имевшие права на смерть! Поэтому же не мог умереть и отец Георги – ему нужно было сперва свести счеты с врагом. Отец Георги был убит при освобождении Чарбелакани; и, лишь получив извещение о его гибели, Анна почувствовала, что беременна. В то время она еще только привыкала быть женщиной, еще училась отмерять и дарить свое тепло и нежность, как хлеб или соль. Неожиданная смерть мужа ее ошеломила. Она никак не могла представить себе его мертвым – настолько живым, головокружительно живым оставался он в ее памяти. Кроме мужа, у нее никого не было, в Уруки он привез ее девочкой-сиротой; а два месяца спустя она осиротела еще больше. Правда, и ее не обделял своей заботой и молитвой отец Зосиме, но отец Зосиме был человек божий, его молитва охватывала всех, принадлежала всем страждущим поровну, и ни отделить от нее свою часть, ни увидеть ее было невозможно; невозможно было и спрятать в ней голову, как в сильных, беспокойных руках мужа, приносивших ей больше утешения, надежды, счастья, чем благословение и молитва. Руки мужа Анны пахли солнцем и пропитанной дождем землей, и, когда она спала в объятьях этих рук, ей снились родители, которых она никогда не видела – то есть видеть-то, возможно, и видела, но такой маленькой и так давно, что ничего уж не помнила; и она, затаив дыхание, блаженно и испуганно глядела на воскрешенных ее счастьем отца и мать. Так, в страхе и блаженстве, в слезах печали и радости, в сильных, горячих руках своего единственного защитника она постепенно становилась женщиной. «Почему ты опять плачешь?» – спрашивал муж, неожиданно разбуженный ее слезами; и она уверенным, дрожащим от искренности голосом отвечала: «Потому что люблю!» Два месяца длилось это счастье, неожиданно свалившееся на Анну и столь же неожиданно ее покинувшее. По правде сказать, и этих двух месяцев счастья она от жизни не ждала. Как все девушки, она, разумеется, тоже мечтала порой о будущем – ни способности, ни права мечтать у нее никто никогда не отнимал; но, выросшая сиротой, с самого начала обделенная, одинокая среди своих сверстниц, она и в мечтах была робка и нерешительна. Она никогда не говорила вслух, как другие девушки: «Вот вырасту-де и выйду замуж за такого-то». Этого она себе позволить не могла, хотя другие, ничуть не красивей и не умней ее, меньше чем за царевичей выходить не собирались, – она была сиротой, которую кормили из милости, и должна была благодарить судьбу, достанься ей хоть какой-нибудь горемыка вроде нее самой. Она ничуть не удивилась и не обиделась бы, если бы кто-нибудь из подружек обвинил ее в том, что ее отрепья отпугивают их женихов: Анна была убеждена в том, что ее сиротство и обездоленность – помеха и для других. Пока что, правда, она не видела от людей ничего, кроме сочувствия и помощи, но она тяготилась и тем, что причиняет им лишние хлопоты, и тем, что ее несчастья их огорчают. Поэтому она всегда старалась держаться в тени, не бросаться в глаза, как можно меньше напоминать о своем существовании, не мешать ничьему семейному покою и благополучию. Она сторонилась даже сверстниц: ей казалось, что без нее они были бы веселее, больше и охотней рассказывали бы о своих родителях, дедушках и бабушках, братьях и сестрах, новых игрушках и нарядах; при ней же им, по ее глубокому убеждению, было неловко хвастать тем, чего у нее никогда не было и не будет.
На масленой, когда вся деревенская молодежь толпилась вокруг качелей, она, укрывшись за каким-нибудь стогом или забором, издали глядела на веселую возню сверстниц – она боялась, заранее стыдилась того, что и ее в ее рваном платьице и прожженной, обтрепанной по краям косынке могут заметить, затащить на качели. Но там, под деревом, стоял такой веселый гвалт, что и она невольно улыбалась, захваченная весельем, детской радостью и счастьем подруг. Качели поскрипывали, сотрясая все дерево, со свистом рассекая воздух, и стоявшая на них девушка, с перехваченным от быстроты полета дыханием, со сверкающим от радости лицом, раскачивалась так сильно, что ее юбка взвивалась кверху, открывая крепкие белые голени, и снизу казалось, что она вот-вот вправду дотянется до звезд. «Прикройся, прикройся!» – верещали оставшиеся на земле товарки, словно она, летящая на качелях, уносила в чужую страну какую-то их общую тайну. И Анна за своим стогом или забором тоже невольно покачивалась в такт качелям, словно и сама мчась в некую чуждую, незнакомую, таинственную страну, – потому что улететь отсюда ей хотелось больше всего. А потом ее муж (хотя тогда-то он не был еще ее мужем, тогда они еще едва познакомились) силком раскрыл ее прижавшиеся друг к другу, как осиротевшие птенцы, пальцы и осторожно поцеловал ладонь. Анна уже любила его – любила так, что вместе с радостью почувствовала и смутную тревогу, словно была больна какой-то свирепой, неизлечимой болезнью и поцелуй этот мог заразить и его. Потом его не стало, и к Анне, как змея к оставшейся без присмотра корове, повадился ходить борчалинец. А как же иначе можно было назвать их отношения? Появлялся он лишь тогда, когда и деревня, и спеленатый в колыбельке Георга спали. Анна боялась его – по всему ее телу пробегала дрожь, когда этот чужой человек, едва войдя в комнату, сразу направлялся к колыбели и протягивал свою огромную ручищу с растопыренными пальцами прямо к лицу младенца, как бы согревая ее детским дыханием; другой же рукой он в это время вытаскивал из-за пазухи завернутую в грязную тряпку головку сахара с прилипшими шерстинками и совал ее оцепеневшей от страха Анне, и его круглая, как дыня, лысая голова, и вечно улыбающееся, как бы лишенное мускулов лицо без конца потели. Его руки пахли младенцем, и Анна была вынуждена терпеть его грубую, бездушную страсть каждый раз, когда из пропитанной деревенскими запахами темноты неожиданно выплывала его лоснящаяся голова – выплывала, чтобы потом вновь раствориться в этой же темноте. Вот так и корова не сопротивляется змее, а, боясь шелохнуться, оцепенело стоит на месте, пока змея не отсосет всего молока, пока вымя не ощутит секундной режущей боли, с которой отрываются от него холодные, упругие челюсти змеи. Корова боится не действий змеи, а ее самой – к дойке-то она приучена, ей даже необходимо избавиться от скопившегося в вымени молока; а кто ее выдоит, кто освободит ее от этой беспокоящей тяжести, ей, казалось бы, должно быть безразлично. В действительности, однако, общение со змеей настолько чуждо самой природе коровы, что вместо облегчения от дойки она испытывает лишь парализующий страх, от которого вымя засыхает вообще…
Такая долгая близость мужчины, кем бы он ни был, должна была, казалось бы, постепенно вызвать если не ответную страсть, то хоть какую-то привязанность в женщине, прожившей с мужем всего два месяца, едва успевшей стать женщиной и все-таки уже привыкшей к ласке и вниманию. Но Анна (чему она удивлялась и сама, часто об этом думая) ничего похожего не испытывала. Она чувствовала лишь боль и одуряющую усталость, подобно человеку, перенесшему тяжкую пытку и временно оставленному в покое лишь с тем, чтоб он не умер в руках палачей. Поэтому, видимо, ее и не мучили угрызения совести перед мертвым мужем – единственным мужчиной, который для нее существовал и который, сделав ее женщиной, своей смертью навек убил в ней женщину. Анна не изменяла мужу (этой мысли она не допускала ни на миг), а просто мучилась без него, пила, как собака помои, горечь своей безмужней жизни; борчалинец же был лишь частью этой горькой, мучительной жизни. Анна была одна, и никто не мог разделить ее одиночества, ее нескончаемых страхов, ее ничем не заслуженного, необъяснимого несчастья. Но когда ребенок стал подрастать, ее так потрясло, так ужаснуло его сходство с мужем, словно ее муж вернулся с того света. Нет, не вернулся – возвращался! Он был еще далеко, поэтому – то и казался таким маленьким; но постепенно приближался – с каждым днем рос. Рос ее заступник и судья, ибо один он мог, если это было возможно вообще, выгнать из дому незваного гостя, но один он мог и упрекнуть ее в том, что она впустила того в дом вообще. Подрастая, однако, ребенок, вместе со всем прочим, привыкал постепенно и к неожиданно выплывающей из мрака лысой, круглой, огромной голове борчалинца. Борчалинец никогда не приходил с пустыми руками; он качал ребенка у себя на коленях, щекотал его под мышками, и ребенок с удивлением и восторгом глядел на его крупные, словно светящиеся зубы. Вполне возможно, что маленький Георга и полюбил бы борчалинца, принял бы его за отца; ибо каждый ребенок знает, что там, где мать, непременно должен быть и отец, и это его врожденное знание – основа всего, что ему предстоит увидеть и изучить в будущем. Было б ничуть не удивительно, если б Георга принял чужого мужчину за отца, – ведь тот был вторым после матери человеком, которого он увидел. Как только он отводил взгляд от матери, ему били в глаза блики света на зубах борчалинца, и это было так занятно, так удивительно! Узнав же, что человек с такой круглой, блестящей, как серебряная монета, улыбкой – их враг и губитель, он сперва даже не испугался, а просто огорчился, словно у него отняли игрушку как раз тогда, когда он к ней привык, вошел во вкус…
– Но он не должен догадываться, что мы это знаем. Иначе он зарежет нас обоих… – сказала ему мать.
Георга входил в мир слепо и уверенно, как это свойственно всякой новой жизни; но загадка, встретившая его у первого же порога, была так головоломна, что справиться с ней ни его разум, ни его воля еще не могли. Мать упрямо твердила ему одно и то же, и Георга постепенно привыкал к страху – так же, как к одеванию без посторонней помощи. Теперь ему уже не доставляло удовольствия скакать на коленях у борчалинца– он сидел испуганно и напряженно, словно боясь, что тот вдруг скинет его на пол; и его полные слез глаза все время искали лицо матери. Тогда борчалинец насильно поворачивал его к себе и короткими, толстыми пальцами щекотал его под мышками до тех пор, пока мать не подхватывала его на руки – одуревшего, задыхающегося от невольного смеха! Теперь он всегда с нетерпением ждал ухода гостя, чтобы денек-два, а то и неделю-другую побыть вдвоем с матерью, чтобы вместе с ней плакать и бояться. Рядом с матерью, в тепле и аромате матери, испытывать страх было легко, даже приятно – его уже не было нужды скрывать, о нем можно было и поговорить с той необъяснимой гордостью, с которой дети обычно говорят о своих болезнях или каких-либо физических изъянах. Но совсем одни они все-таки не оставались никогда; рано или поздно «он» появлялся вновь. Он был неотвратим, как рок, – понимание этого и заставляло их постоянно думать о нем. Догадавшись, зачем он ходит к ним в дом, Георга старался уже не говорить о нем с матерью, но думать о нем стал еще чаще. Голова Георги была забита ужасными, пугающими видениями, и, лежа в темноте с широко раскрытыми глазами, он сердился на мать за то, что она не кричала, не звала его, но в то же время был и благодарен за это, ибо, услыхав сейчас в этой темной, пустой комнате крик матери, он тут же помер бы со страху! Без конца ворочаясь в своей, ставшей вдруг чужой, невыносимо жесткой постели, подавленный, оскорбленный, он наконец-то слышал знакомый шорох, извещавший об уходе гостя и конце его мучений. Гость уходил, но перед уходом непременно обо что-нибудь спотыкался; и когда мать говорила ему: «Тише, не разбуди ребенка!»– Георга ненавидел и ее за то, что она в нем не нуждалась и не только не стремилась к нему сама, но и от гостя требовала не шуметь, не будить его, как будто, проснувшись, он им так уж сильно помешал бы! Должно быть, ей было б лучше, если б Георга умер, если б его не было вообще – тогда ей не пришлось бы говорить шепотом и ходить на цыпочках в собственном доме! «Я не сплю, я все слышу!» – хотелось крикнуть Георге; но это была лишь минутная обида, вызванная неосознанной ревностью и быстро уступавшая место чувству более сильному и значительному: мать обрела свободу! Она опять свободна, ходит, разговаривает и, самое главное, помнит Георгу, думает о нем, не забыла, что где-то в этом темном, мертвом доме есть и он, притаившийся под одеялом темноты, надежно спрятанный, утаенный от пальцев и глаз борчалинца! И, едва за тем закроется дверь, она тотчас же подбежит к нему, дрожащими, холодными губами поцелует его, сладко и беззаботно, по ее мнению, спящего, поправит ему одеяло, понадежней укутает его, словно огонь в золе, необходимый ей не только на завтра, но и навсегда… «Господи, дай ему вырасти… не обездоль его, господи!» – шептала она в темноте; и Георга был самым счастливым человеком на свете, оттого что мать так любит, так жалеет его! Притворяться спящим было для Георги самой приятной игрой, хоть в этом и был сладостно-горький привкус греха: он чувствовал, что поступает не вполне честно, обманывая мать, заставляя ее делать и говорить то, что ему приятно и чего она не сделала и не сказала бы, зная, что он не спит. Этим он как бы вымогал ее внимание и ласку, но после всего, что он переносил в одиночестве темной, пустой комнаты, он так нуждался в этом внимании и ласке, что не стеснялся и слегка обманывать мать. К тому же, увидав, что он проснулся, она наверняка забеспокоилась бы, принесла бы лампу, стала бы расспрашивать его, почему он не спит, не болит ли у него что-нибудь, не приснилось ли ему что-нибудь страшное, – ему же было приятней ощущать прикосновение дрожащих, холодных губ матери в темноте, чем видеть ее встревоженное, растерянное лицо при свете. В темноте мать была искренней, нежней, ближе, а при свете – скрытнее, как-то скованнее, стыдливей; кроме того, при свете она казалась ему маленькой, щемяще слабой, беспомощной, в темноте же – как будто бесконечной, неисчерпаемой, приносящей надежду и облегчение! Георга и сам не замечал, как засыпал, тепло укрытый матерью, счастливый от сознания, что завтра мать будет принадлежать ему одному. И хотя дел у Анны было по горло – и за стиркой, и за вязанием она действительно принадлежала только Георге, и у нее было такое спокойное, красивое, чистое лицо, словно она только что сошла с небес и ничто, кроме воздуха и солнечного луча, ее никогда не касалось. Это-то, собственно, и наполняло Георгу надеждой на то, что мать будет всегда.
Так вот и жил Георга до тех пор, пока майор не пообещал подарить ему ружье – а все последовавшее за этим обещанием так и осталось для него не особенно понятным, трудно постижимым. Урукийцы утверждали, правда, что больше всех от сшибки майора с борчалинцем выгадал Георга; но если бы кто-нибудь из них смог заглянуть в душу Георги, он сразу понял бы, что это не так – в душе разочарованного ребенка он обнаружил бы такую печаль и боль, что хоть одну-две ночи после этого ему, будь он даже легкомысленнейшим, беззаботнейшим человеком на свете, спалось бы все-таки не так спокойно! Отца-то Георга приобрел, но вот друга потерял. Пока у него был враг, майор обещал ему золотые горы; но едва враг исчез, а майор стал его отцом, горы эти тут же рухнули, как домик из песка. Раньше, живя с майором порознь, они общались куда больше, чем потом, поселившись вместе. И ружье было тут же, рядом, – блеск смазанного дула без конца колол глаза Георге, непрерывно ощущавшему его волнующее, заманчивое молчание. Однако майор не только забыл подарить ему это ружье, но и просто-напросто запретил Георге к нему прикасаться! «Стрелка из тебя все равно не выйдет… нечего и патроны зря переводить», – сказал майор. А ведь раньше-то, до того как стать отцом Георги, он разговаривал совсем иначе – тогда он ни патронов, ни времени своего не жалел! И окопы рыть, и с ружьем маршировать, и с ружьем ползать, и в цель стрелять… бог весть чему только еще не обучал он Георгу; и, вернувшись домой, усталый, счастливый, Георга даже ночью видел сны, пахнущие порохом, окутанные пороховым дымом. «Заряжай, целься, пли, заряжай, целься, пли!» – слышался ему и во сне бодрый голос майора; и он радостно, без конца повторял одни и те же упражнения, пока не просыпался.
«С безоружным еле здороваются, а кто оружие имеет и пользоваться им умеет, тому в ноги кланяются», – говорил майор; и Георга блаженно мечтал о том дне, когда получит обещанное ружье и перестанет быть таким слабым и легким. Тогда он ни на миг не расстанется с ним днем, будет спать с ним в обнимку ночью – и понемногу ему передадутся и тяжесть, и сила, и громовой голос ружья…
Пока что, правда, в их семье все оставалось по-старому: борчалинец появлялся, как всегда, а мать, как всегда, улыбалась и вытирала заплаканное лицо, когда Георга неожиданно входил в комнату. И все-таки в душе у Георги уже возникла надежда – пусть пока еще робкая, слабая – на то, что и бесконечным всхлипываниям матери, и внезапным, но неотвратимым, как ночь, появлениям борчалинца, и, самое главное, его собственному детству когда-нибудь все же наступит конец. Анна с тревогой следила за переменами в жизни сына. Она чувствовала, что его упрямое стремление найти друга вне дома предвещало рост и возмужание, и ее сердце сжималось от страха – не потому, что возмужавший сын посмотрит на все иными глазами, не потому, что он возненавидит ее хлеб и воду, а потому, что у него, возмужавшего, и врагов появится больше, и убить его станет для них гораздо проще. Тогда ведь она уж не посмеет укрыть его под своей юбкой… да и сам он не станет держаться за эту оскверненную юбку, а предпочтет пасть жертвой ее осквернителя, мгновенно, как его отец, пролить свою кровь, накопленную Анной за долгие годы, по капле, в муках и страданиях, тайком от других! Видела она и то, что, сдружившись с майором, Георга стал небрежней и смелей разговаривать с их ночным посетителем. Пока что, правда, тот над этим лишь посмеивался, но именно этого смеха Анна и боялась, ибо знала его лучше Георги. Она не сомневалась в том, что цель этого смеха – еще больше подстрекнуть, раздразнить ребенка, заставить его полностью раскрыть свое слабое, беззащитное сердечко; смехом этим борчалинец как бы выманивал Георгу из его и без того ненадежного укрытия! При этом он порой поглядывал на Анну – как бы невзначай, мимоходом, наподобие человека, который, заметив упавшего наземь птенца, невольно глядит наверх, на дерево: откуда, мол, он свалился? Так смотрел и борчалинец – пока что он хотел лишь выяснить, откуда взялись у ребенка его новые слова и повадки; но у Анны от этих неожиданных взглядов стыла кровь, и ей оставалось только улыбаться: к чему-де обращать внимание на детскую болтовню…
– Что ж он его тебе не подарил? Поглядеть хоть, какое у него ружье… – говорил борчалинец. – А может, он чего в обмен ждет? Может, он его на маму твою менять хочет? А?
– Да пропадите вы оба пропадом! – деланно улыбалась Анна, не осмеливаясь, однако, хоть знаком показать Георге, чтоб он помолчал или переменил разговор; и Георга, подзадоренный смехом и беззаботным тоном гостя, храбрился еще больше. А тот лишь хрипло посмеивался, короткими, толстыми пальцами вновь щекотал подмышки Георги и, даже спиной чуя испуг Анны, не оборачиваясь к ней, говорил: «Ты-то чего беспокоишься? Мы с Георгой сами разберемся…»
Он раздражал Георгу все больше и больше – потому, возможно, что теперь, когда у мальчика появился друг с ружьем, его надежды на освобождение укрепились. Не следует думать, однако, что майор ему был понятен и симпатичен целиком. Майор был ему тоже чужд – в сущности, еще даже больше, чем борчалинец. Того он хоть знал с тех пор, как себя помнил; тот был в доме с самого его рождения, так же как мать, стол, лампа, кувшин с отбитым горлышком или черкеска отца, с распятыми на стене пустыми рукавами. С майором же Георга познакомился недавно. Впервые встретив его на улице, мальчик даже вздрогнул: человека в такой одежде он не видел еще никогда, золотые эполеты сверкали на солнце так, словно на плечах майора пылали два костра. И этот-то странный, опасный человек сам предложил ему свою дружбу! Георга лишь взглянул на него и сразу отвел глаза, словно устыдившись того, что его давняя тайная мечта так легко разгадана. Что такое дружба, Георга толком и не знал; но все его ежедневно растущее существо слепо, упрямо, самоотверженно искало именно друга, ибо ни с матерью, ни с борчалинцем он не мог быть таким, каким ему хотелось, – мать он жалел и любил, а борчалинца боялся и ненавидел. Он чувствовал, что друга ему надо искать вне дома – друг не должен был знать, каков Георга дома, друг должен был видеть лишь его истинную натуру, не скованную, не искаженную чувствами и обязанностями. У друга он должен был вызывать не жалость, как у всех односельчан, и не шутливое добродушие, которое они частенько выказывали, едва завидев Георгу, а готовность подвергнуться ради него любой опасности! По-этому-то он и отвел глаза от майора, когда тот, взяв его за подбородок, сказал: «Давай-ка с сегодняшнего дня будем дружить». Сначала он не поверил майору, решил, что и майор над ним потешается, прослышав об их семейных делах. Но когда майор посадил его на настоящую лошадь, дал ему подержать настоящее ружье, Георге захотелось довериться майору без колебаний, всем существом…
– Эх ты… басурман! – шутливо и ласково говорил ему майор. – Ладно… если уж он тебя так допек, подстережем его как-нибудь! Покажем ему, где раки зимуют…
Ружье валялось в траве, как бы не вмешиваясь в их дела, как бы ничего и не знача в сближении этих двух людей. Порой на него садилась, чтобы почесать себе шейку, красноногая стрекоза, порой по его гладкой блестящей поверхности пробегал испуганный муравей – но тяжелое, бесчувственное ружье лежало так же неподвижно. Георга украдкой тянулся к нему и, стиснув пальцами разогретый солнцем приклад, с одуряющим блаженством чувствовал, как в его вздрагивающую руку переливается незримая душа ружья. Но порой майор говорил вдруг что-нибудь такое, что заставляло Георгу растеряться, сжаться от испуга…
– А знаешь, на кого мы с тобой охотимся? – говорил он. – На бога, голубчик мой… на бога!
Потом он ложился на спину, подтягивал к себе ружье и прижимал его прикладом к груди. Вертикально стоящее ружье чуть покачивалось, словно из сердца майора выросло вдруг железное дерево. Майор медленно, раздражающе медленно нажимал на курок– и, хотя Георга во все глаза глядел на прижатый к курку палец, ружье каждый раз громыхало так неожиданно, что он невольно вздрагивал. Видя его испуг, майор со смехом говорил: «А что же с тобой будет, когда бог действительно шлепнется к нашим ногам?» В ответ Георга и сам посмеивался, пожимал плечами, как бы поддерживая майорские шуточки, но потом, когда он с широко раскрытыми от страха глазами вновь лежал один в своей комнате, во тьме, ему без конца чудился подбитый шальной пулей, валящийся с неба и бессильно хлопающий крыльями бог. Вполне возможно, что майор говорил это нарочно, видя природную боязливость Георги и стремясь помочь ему осилить страх, – ведь если Георга хотел в самом деле избавиться от их недруга, ему следовало прежде всего победить собственную трусость, вырвать из своего сердца страх и перед человеком, и перед богом! Поэтому-то его напускная смелость, замеченная и матерью и борчалинцем, и смахивала скорей на причуды и капризы невоспитанного ребенка. Его самого это раздражало, вероятно, больше всех, но сдерживаться, вернуться назад, в норку вечного страха и покорности, он уже не мог.
– Заткни ему пасть! Иначе я прикончу этого гаденыша… – орал борчалинец, обливаясь потом и выкатывая налившиеся кровью глаза.
Но остановиться Георга уже не мог. «В лоб, в лоб… между глаз!» – без конца повторял он одно и то же, словно помешанный.
– Оставь его… он сам замолчит! – умоляла Анна борчалинца. – Георгий! – кричала она сыну, чтоб отрезвить и унять его. Но ни гость, ни сын ее не слушали…
Одна она понимала, что и почему тут происходит, чем может закончиться ссора мужчины с ребенком. Вновь надвигалось несчастье, предназначенное специально для ее семьи несчастье – ему надоела праздность, оно словно бы проголодалось и сейчас, услыхав щебет оперившегося птенца Анны, двинулось вперед, чтоб еще раз обрушиться ей на голову, опять раздавить давнюю свою жертву…
Борчалинец еще долго старался утихомирить Георгу – вновь, как встарь, сажал его к себе на колени, щекотал под мышками, увещевал, предупреждал: смотри-де, выкинь дурь из головы! Но до конца он все-таки не выдержал, не смог себя пересилить – и, плюнув на деревню, в конце концов, основательно отдубасил Георгу, а затем и его мать.
Это Георгу и не удивило, и не обидело: к чему-то в этом роде он, сознательно или бессознательно, стремился и сам, смутно чувствуя, что это – единственный способ избавиться от борчалинца, терпеть которого ему становилось все трудней. Чувствовал он и то, что вызвано это было его дружбой с майором, – до этого он ведь как-то уж приспособился к существованию, к неизбежности борчалинца, находившегося в доме с тех пор, как он себя помнил. Представить себе жизнь без этого человека он мог разве что в мечтах, но это и были лишь мечты, вызванные желанием воскресить образ умершего до его рождения отца, – единственным, что делало их такими убедительными и привлекательными. И все-таки жизнь была совсем иной, чем мечта, в жизни все происходило иначе – об этом Георга уже догадывался, это его удивлять уже перестало. Мечта была наградой, даруемой богом людям, приспособившимся к жизни, – и Георга приспособлялся к жизни, чтоб сохранить свою мечту. Да, он приспособлялся к жизни, к судьбе, но появление майора вновь пробудило в нем желание бороться, вырваться из когтей судьбы! Теперь, возвращаясь после встреч с майором, оставаясь один, Георга дивился тому, как он мог столько времени выносить своего недруга, терпеть тряску на его коленях, щекотку его толстых пальцев. Но раньше Георга был мал, глуп, главное – рядом с ним не было майора; теперь же… теперь он приставил палец к потному лбу борчалинца и сказал: «Вот куда я тебе пулю влеплю!» Георга уже нанюхался порохового дыма, и его плечо все время ныло от резких толчков приклада.
Георга надеялся на майора – и, хотя тот опоздал, позволил борчалинцу поколотить мать с сыном, в конце концов, его надежда все-таки оправдалась. Но та страшная ночь, в которую ушел раненый борчалинец, не принесла Георге долгожданной радости, а лишь еще больше его напугала, главное же – впервые поколебала его веру во всесилие и справедливость майора. Пистолет майора и в ту ночь прогремел неожиданно, вновь заставил Георгу вздрогнуть – он не знал, что майор был вооружен. А ведь бог знает чем кончилась бы эта ночь, одинаково роковая для всех участников происшествия, если б у майора не оказалось пистолета или если б он не успел выстрелить, хоть немного помедлил бы! Ведь он стрелял в борчалинца сразу, почти в тот же миг, как его увидал, не ответив на приветствие, не дав ему времени и кинжал вытащить (хотя Георге показалось, что вытаскивать его тот вовсе не собирался)! Да и вообще борчалинец оказался зверем не таким уж опасным, раз майор стрелял ему не в лоб, а в руки! Но если так – тогда зачем было стрелять вообще? Зачем было проливать кровь, если вражда этим не заканчивалась, а лишь начиналась? Георга был еще ребенком, но и он понимал, что радоваться тут нечему. Если прежде виноват во всем был борчалинец, то теперь они провинились перед ним сами – его, явившегося, возможно, просить у них прощения (как знать?), они встретили пулей, заставили пролить кровь и слезы. Больше всего ужаснул Георгу его плач – ведь если он заплакал в их присутствии, значит, он их вообще уж ни в грош не ставит, ничего больше от них не хочет и, представься ему лишь случай, без малейшего колебания перережет глотки всем троим! Свою кровь он простил бы им скорей, чем эти слезы, – он мужчина и подобной слабости не перенесет, не успокоится, пока свидетели ее ходят по земле, так что ожидать, что он явится с гостинцами и предложит мир, попросит их навсегда забыть эту роковую ночь, было бы попросту глупо. Поправить нельзя было ничего – борчалинец непременно отомстит, это всем троим оставалось лишь молча принять к сведению. И все-таки главным для Георги было не это. Главным было поведение майора в ту ночь или, точней сказать, те сомнения, которые оно у него вызвало. Сейчас, когда все, что должно было случиться, случилось и первый страх прошел, майор оказался в глазах Георги не только коварнее, но и трусливей борчалин-ца! Победу в ту ночь одержали коварство и трусость – вот что ему было больней всего. Ведь раньше, в мыслях и мечтах, все рисовалось ему совсем иначе: в его воображении майор честно боролся с борчалинцем при всем народе, на глазах всей деревни. На обоих была разорвана одежда, оба были в крови и в пыли, но, в конце концов, майор одолевал, клал противника на обе лопатки, коленом придавливал ему грудь, и, побежденный в честном единоборстве, борчалинец признавал свое поражение и навсегда уходил из У руки. На самом же деле ему в ту ночь и рта раскрыть не дали, его даже не вызвали на бой (как это всегда делали сказочные герои, будь враги хоть вдесятеро сильней их). Вместо этого ему сразу продырявили обе руки, лишили его возможности действовать. Поэтому-то он и бился головой о дерево – его мучило собственное бессилие, а вовсе не страх перед блестящими эполетами майора! Единственным в ту ночь, кто совсем не испугался, был борчалинец – так, во всяком случае, показалось Георге. Побежден он был потому только, что не знал заранее, с кем имеет дело, не знал, что ему и оружия выхватить не дадут. Отец Георги поступил бы не так – Георга был уверен, что его отец никогда не напал бы на врага прежде, чем тот изготовится к бою. Поэтому-то он и погиб – его погубил избыток мужества и благородства! Отдав хоть половину этого мужества сыну, он был бы жив и сейчас, и Георга не нуждался бы ни в чьей опеке, а борчалинец на его мать и взглянуть не посмел бы; тогда же им, ясное дело, ни к чему был бы и майор, и жили б они, довольствуясь малым, но спокойно и честно, как все люди…