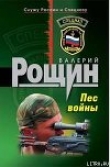Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
– Цену? Какую цену? За что цену? – Александр удивленно взглянул на отца, словно лишь сейчас впервые его заметив.
– Доложи ему, кстати, что отца моего есть кому похоронить! В чужом гробу ему лежать совершенно не к чему… – сказал Петре.
– Он вполне прав… уж быть-то похороненным по-человечески Кайхосро, бедняга, во всяком случае заслужил! – Голос отца Зосиме дрогнул. – Так что не будем людей смешить! Помиритесь… договоритесь! – с трудом выговорил он изменившимся, смущенным голосом. Он уже понял, какую глупость сделал, какую чудовищную напраслину возвел на этого несчастного однорукого, ставшего по превратности и жестокости судьбы слепым мстителем, стремившегося лишь к мщению, а о деньгах думающего столько же, сколько о его судьбе думали другие, его родной отец прежде всего! И этого-то человека, восставшего против собственного уродства и бессилия, они собирались еще больше изуродовать, еще больше унизить, растоптать! Наобум, не подумав, ничего не выяснив, они обвинили его в замысле, который ему никогда и в голову не пришел бы, проживи он хоть десять жизней подряд, – да потому хоть, что у него свой, особый счет с миром, счет, оплачиваемый не деньгами, а кровью! Простить его было, конечно, нельзя: человеку, по его собственному признанию, осквернившему труп, чьим бы этот труп ни был, оправданий нет. Но никто не имел права и извращать его вину, унижать до корысти поступок, вызванный лишь ненавистью и безумием…
– Так, по-вашему, я должен цену за труп назначить? Продать вам покойника… так, что ли? – спросил Александр, вновь обращаясь к отцу Зосиме.
Отец Зосиме невольно отвел глаза – так жалко вздрогнула нижняя губа однорукого.
– Да ладно… чего уж там, – вяло попытался он успокоить Александра. – Отец твой тут ни при чем! Одну молитву, ты же знаешь, и священник переврать может…
– Ты слышишь, Маро? – лукаво заблестели глаза Александра. – А ты еще говоришь: нет добра, нет великодушия… Да ведь им бы собак на нас натравить, побить нас камнями, повесить нас на первой же осине, а они нам деньги предлагают! Разве тебе не нужно денег? Разве ты их не любишь? Да почему бы тебе не любить денег, не знать им цены? Хуже ты других, что ли? Поди поцелуй ручку батюшке! И за меня тоже, не то они ведь вообразят, что мы совсем уж никчемные, что мы и спасибо-то сказать не умеем! Целуй ручку, говорят тебе! – крикнул он стоявшей за его спиной Маро. Маро, ковыляя, двинулась в сторону священника, но Александр своей единственной рукой загородил ей дорогу. – Погоди… успеешь еще! А сейчас, батюшка… сейчас позволь и нам проявить доброту и великодушие. – Его лукаво блестевшие глаза с вызовом впились прямо в отца Зосиме; а священник глядел на Александра с таким испугом, словно действительно опасался, что тот натравит на него Маро. – Где ж это видано, чтоб мастер платил деньги ученику? Наоборот, это я вам все время платить должен! Вы меня такому научили, теперь я на всю жизнь ваш должник. Неоплатный! Сколько трупов впредь ни продам, всегда со мной в доле будете… А деда своего вам дарю! Берите даром! И с гробом, и со свечами! И за пользование ослом тоже все до копейки возмещу… так и доложите папеньке моему! – Внезапно он засмеялся беззвучным, жутким смехом: опершись своей единственной рукой о ствол кипариса, он так дрожал и корчился, словно пытался насильственно вызвать у себя рвоту. – Ты-то, батюшка, за что меня не пощадил? Тебе-то я что плохого сделал? – выдавил, наконец, он из себя, продолжая смеяться.
– Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну… – сказал отец Зосиме, когда телега повернула в сторону У руки.
На поминках по Кайхосро Сардион жрал столько, что отбил аппетит у всех остальных. «Ух, наелся… хоть бы и отец мой поскорей помер!» – не переставая кричал он, как его научили старшие, пошлепывая себя по туго набитому брюху привыкшими к барабану руками.
– Сарди, детка, скажи: хорошая вещь поминки? – балагурили мало евшие, но жадно набросившиеся на вино гости.
– Хорошая вещь поминки! – громко кричал Сардион. – Хоть бы и отец мой поскорей помер! – тут же добавлял он.
– Не кормите его силком, пожалейте… он же ноги протянет! – просила людей Дуса.
Но подвыпившие гости по-прежнему опорожняли свои тарелки в миску Сардиона, и он с собачьей торопливостью, ворча и скрежеща зубами, хватал сваленные в одну кучу куски мяса, плов, фасоль и черемшу. «Хватит тебе жрать, чтоб ты сдох!» – кричала ему мать. Подняв голову, точь-в-точь как жадная и трусливая собака, которую оторвали от еды, Сардион всего на миг неподвижно застывал с бессмысленной ухмылкой на устах. Его грудь была вымазана мясным соусом, подбородок блестел от жира, и к нему прилипло раздавленное зернышко риса. «Давай, Сарди… давай!» – кричали со всех сторон стола новоявленному наследнику Макабели, животный аппетит которого всех почему-то радовал и веселил.
– Не бойтесь: меня он вполне устраивает… Хоть он меня слушаться будет! – говорил подвыпивший Петре.
Он был так бодр и оживлен, словно не отца похоронил, а сбросил с плеч тяжкий груз. Ему не сиделось спокойно, и он без конца переходил с места на место, наклоняясь то к одному, то к другому гостю и осведомляясь, как идут их дела и не нужно ли кому чего-либо.
– Насколько я тебя знаю, ты ей еще кучу деток сделаешь! Живи и умножайся! – подмигнул Петре Гарегин, поднеся ко рту пучок зелени.
– Поздно уж, а то что ж… я не против! – засмеялся Петре и, нагнувшись к столу еще ниже, чтоб его слышал не один Гарегин, добавил: – Я вот, веришь ли, брюки, бывает, расстегну, а зачем расстегнул, уж и не помню! – И когда за столом раздался взрыв хохота, Петре тут же отошел, веселый, бодрый, неутомимый, гостеприимный хозяин…
Помереть Сардион не помер, но до этого было, видимо, недалеко. Всю ночь он пролежал на земле позади дома: его без конца рвало, и его стоны и протяжные вздохи до самой зари заставляли всех собак Уруки громко лаять. Не раздевалась в эту ночь и его мать, она лежала под одеялом в платье и ботинках, словно найдя приют у чужих людей и не зная, когда, в какую минуту ей придется встать. Петре зря кружился вокруг жены – Дуса была холодна и угрюма, как осажденная крепость, с зубчатых стен которой лишь изредка грохочет неожиданный выстрел, чтоб доказать, что она еще не оставлена, не сдается.
– Чтоб ты к своему отцу убрался! – дрожали вдруг оконные стекла от сиплого баса Дусы.
– Ты ему кстати уж подскажи: к которому… – откликался обозленный ее неприступностью, сердито слонявшийся из угла в угол Петре. – Не разрываться ж ему, бедняге, на четыре части!
Но в ту ночь его жене было не до него – одна она знала, что с завтрашнего дня станет единственной хозяйкой этого дома. Ее одну Аннета предупредила о своем предстоящем уходе, когда они вернулись с кладбища; и сейчас Дуса не могла думать ни о чем, кроме Аннеты. Ее мучили не угрызения совести, не жалость к Аннете, а досада, что та ускользнула из ее рук, улетела, как вырвавшаяся из силка пташка!
– Я ухожу… – сказала ей Аннета.
Они стояли у лестницы. Вернувшиеся с кладбища люди входили во двор медленно и лениво, как стадо.
– Если ты мне действительно друг, ничего не говори отцу, хоть до завтра… – продолжала Аннета.
Но Дуса опять ничего не ответила – она удивленно, растерянно, недоверчиво глядела в лицо падчерицы. Внезапно Аннета поцеловала ее в щеку и шепнула: «Спасибо тебе…»; потом она отошла и смешалась с людьми. Ее напряженный взгляд без конца натыкался на одинаковые, одинаково хмурые и усталые лица. «Здесь его нет. И на кладбище не было, и на кладбище я его не видала!» – торопливо думала она. Она не была уверена в том, что инженер-путеец действительно был на похоронах деда, хотя ясно видела его, ясно слышала, как он сказал: «Разделяю ваше горе». Ясно помнила она и то, как при его виде заревела сама, как из ее, казалось, высохших, окаменевших глаз хлынул вдруг поток слез. До этого она плакать не могла, даже не пыталась – у гроба деда она сидела как посторонняя, затерявшись среди каких-то старух в черном. Дуса плакала, а она нет! Дуса-то плакала в голос… «Зачем ты не дал мне времени поухаживать за тобой… быть тебе дочерью родной!» – орала она деду Аннеты. Старухи ахали и охали: поведение Дусы им нравилось, а Аннетино – нет; и их бегающие глаза глядели на нее косо, злобно, осуждающе. Но когда в комнату вошел инженер-путеец, Аннета подняла вдруг такой вой, что и Дуса заткнулась, и старухи изумленно разинули беззубые рты! Так плачет оказавшийся среди чужих ребенок, внезапно увидав своих родителей, – его неожиданная радость мгновенно переходит в слезы, хотя плакать ему следовало, казалось бы, раньше, до того, как родители разыскали, пришли забрать его. Явью это было или иллюзией, значения уже не имело! Главным было то, что инженер-путеец все-таки действительно существует, да и всего километрах в пяти отсюда; и если он к Аннете не приходил, то Аннета пойдет к нему сама, никто другой не был ей ближе, никто другой разделить ее горя не мог. А выйдя со двора, ощутив под ногами горячую, мягкую пыль дороги, она почувствовала себя еще смелей, еще больше уверилась в том, что поступает правильно. «Разделяю ваше горе, разделяю ваше горе!» – мысленно подражала она голосу– инженера-путейца, бодро, жизнерадостно, с надеждой шагая в сторону Цнори, навстречу ему, заменившему ей братьев, способному понять и разделить ее горе! В мыслях и мечтах она уже столько раз ходила по этой дороге, что ошибиться сейчас не могла. Ей надо все время идти прямо, прямо, дойдя до двух старых орехов и развалин маленькой церкви, свернуть по тропинке вправо и пересечь поле – а там Цнори совсем уж рядом. Справиться об инженере-путейце она могла в любом доме: рабочие-строители жили там повсюду, и как добраться до инженера, ей объяснил бы каждый. Вечерело. Толстый слой мягкой, еще не остывшей пыли заглушал звук ее шагов; материнское платье почти до колен запылилось и побелело. На ветке акации щебетала какая-то птица. Впервые в жизни Аннета шла по большой дороге одна, но для дороги этой она не была ни первой, ни последней. Дорога не чувствовала ее тяжести, не замечала ее тени; она просто лежала под ногами Аннеты, коварно притаившись и сзади и спереди, одинаково белая, одинаково нескончаемая, – река пыли, кладбище затихших, законченных, умерших шагов! И Аннета бодро шагала по ней, тонула в ее белизне, в ее молчании, в ее глубинах – еще ребенок, она, назло родному дому, стремилась в неведомый, чужой, таинственный мир, спастись от которого ей будет не так-то легко. Вечерело.
13
Железная дорога медленно, но упрямо ползла вперед. Теперь уж никто не путал звука взрывов с колесницей Ильи и каждый точно знал, через какие деревни дорога пройдет, а какие минует стороной. Уруки оставалась в стороне, это стало известно; но радоваться этому или огорчаться, люди еще толком не понимали. Если верить слухам, получалось, что дорогу прокладывали лишь в тех деревнях, где жили князья и богачи. В действительности, однако, строительство вывело на свет божий уйму и таких деревень, о которых раньше вообще никто не слыхал, – с Уруки их, во всяком случае, ни по расположению, ни по размерам и сравнивать не приходилось. Народу в Уруки хватило б на целый город! Когда-то, впрочем, она и была городом, и без ее разрешения, говорят, ни войска, ни караваны по дорогам ходить не могли; но великое становится малым, а малое великим, вот Уруки и стала понемногу совсем деревней. А все-таки Цнори и другие подобные ей наскоро вылупившиеся поселки она значительно превосходила и сейчас. Городом ли она называлась, деревней ли – все равно она стояла на большой дороге, и обойти ее стороной не мог ни враг, ни друг. По рассказам стариков, Уруки была заложена самим Адамом; а питьевую воду отсюда на ослах возили в Тбилиси специально для царицы Тамар. Впрочем, как бы ни врали и ни хвастали урукские старики, Цнори действительно была паршивым комариным логовом в то время, когда Уруки прожила уже целую жизнь. Даже дряхлейший из старожилов не скажет, когда выстроен последний дом Уруки; в Цнори же первые дома строятся лишь сейчас, да и то лишь сколоченные на скорую руку дощатые хибары, а настоящих каменных домов в Цнори нет до сих пор. Помимо этого, в Уруки есть и свои князья (чем Макабели хуже любых других?), и свой священник, и свой купец – и все-таки железная дорога выдвинула вперед Цнори. «Не бросай старых путей!» – утешались урукийцы, смутно чувствуя, что новая жизнь собирается обойти их стороной… Одним словом, разговоров было много – и не только в Уруки, но и по всей Кахетии. Пока что поезда ходили лишь до Гурджаани, но и там, где они не ходили, все знали уже, у кого железная дорога проглотила виноградник, у кого задавила корову, а у кого лошадь. А дорога, извиваясь, двигалась вперед и тяжко, болезненно утверждалась в сознании людей, привыкших к саду и винограднику, к телеге и ослу. Она лежала на утыканной насыпи гравия, как недобро притаившееся, недобро сверкающее чешуей железное чудовище, без конца растущее, но для непривычного глаза именно поэтому неподвижное, неизменное, однообразное. Вырубались леса, рвалась земля, рассекался надвое горный хребет – ничто уж не могло остановить это безликое, лишенное конечностей чудовище, подчиненное, казалось, не человеческому разуму, а только собственной воле. Менялся облик природы. Теперь вместо лесистых склонов перед глазами вставали голые, буро-желтые обрывы, вырубленные и засохшие рощи, куцые поля, сколоченные на скорую руку из гнилых досок и кусков ржавой жести хибарки, будки, ларьки, глядевшие на железную дорогу едва светящимися, кое-как завешенными ветошью окнами и жавшиеся к ней, как щенята к материнской груди. Среди мазутных луж, угольных насыпей, бочек со вмятинами и сломанных тележек постепенно вставала на ноги новая жизнь, зачатая в пути, в пути же рожденная и выращенная. Ни бог, ни человек в ее возникновении, казалось, не участвовали, – родившись из утробы железной дороги, она только от железной дороги и зависела. Но и железная дорога без нее существовать не могла: именно эта новая жизнь и приволокла сюда столько древесины и железа, именно она и насыпала эти горы гравия и угля. И все-таки ее никто не учитывал, не принимал в расчет… Жизнь эта могла существовать лишь благодаря узкой и бесконечной стальной ниточке; и ее не беспокоило, где она ляжет спать и где, под каким небом проснется, ее дом был везде, где она чувствовала под ногами твердые рельсы, везде, где ей бил в ноздри запах рельсов. Насквозь пропитанная этим запахом, неразрывно с ним связанная, не имевшая ни корней, ни прошлого, жизнь эта слепо, с бесконечным доверием шла по пути, указанному ей железом, – ни времени, ни способности оглянуться назад у нее не было. Впрочем, и позади у нее было то же, что впереди: два железных близнеца и стиснутая между ними полоска выжженной, бесплодной земли. Новая жизнь основывалась на двух началах – железе и непрерывном движении; поэтому у нее и было очень своеобразное, скороспелое и непроверенное представление об остальном мире. Листка, сорванного на ходу из окна поезда, для разгадки тайн природы было, конечно, недостаточно, но более чем достаточно, чтобы вызвать тоску и зависть человека, оказавшегося в плену железа и гравия; а увиденный из окна поезда фруктовый сад или виноградник почти ничем не отличался от дикой рощи. Поэтому обитателю поезда окружающая природа казалась выкрашенной в зеленый цвет стеной бесконечного тоннеля; и, ослепленный быстрой ездой, он издавал победный клич дикаря, уложившего крупного зверя, когда ему удавалось, протянув руку в окно, случайно что-нибудь достать, урвать у природы, будь то листок, зеленый плод или прилипший к пальцам цветок. Как говорится, в какой идешь край, такую шапку надевай; но людям в поезде не надо было менять и шапок – под ногами у них везде было железо, и это освобождало их не только от чувства отчужденности, но и от способности воспринимать что бы то ни было новое. На любом месте они жили и вели себя одинаково: оторванные от своего, вторгшиеся в чужое время и пространство, они инстинктивно чувствовали, что никакого другого способа сохранить равновесие у них нет. Главным для них был сегодняшний день – вчерашнего у них не было или они его не помнили, а в завтрашний не верили; поэтому-то им и нужно было сегодня же получить все, что могла дать их кочевая жизнь, по-этому-то освоению они и предпочитали присвоение – присвоение не требовало ни времени, ни знаний, для него достаточно было и голой силы. Гудя и грохоча шла новая жизнь, и с вершин гор на нее жалобно глядели сдавшиеся без боя, пошатнувшиеся от бесконечных толчков крепости и башни; а из храмов с растрескавшимися сводами навек исчезли ангелы и святые, былые хранители страны: теперь в них, как бездомные ласточки, ютились лишь остатки вечного синего неба и со стен, протягивая руки, смущенно, как божьи нищие, глядели цари, князья, герои – отцы этой уже несуществующей страны. Страна раскалывалась, как бревно, в которое вогнали клин; и трещина доходила уже до Цнори. Вся Цнорская котловина покрылась бараками. Обтрепанные, бледные дети, сидя на холмиках гравия, глядели на заходящее солнце. Кругом валялись груды изуродованного инструмента – заступы, лопаты, ломы, кирки. Высокая женщина с худым лицом и голыми руками куском картона разжигала огонь. На веревках сушилось песочно-желтое белье. Перед бараками стояла маленькая будочка, из единственного узкого окошка которой высовывалась закопченная труба жестяной печки; перезимовав в этой будке, обитатель ее собирался, наверно, провести в ней и следующую зиму. Внутри будки, на нарах из неструганых досок, лежал Ягор. Уставившись в потолок, он молча думал, то есть не думал, а просто, по своему обыкновению, проклинал судьбу, подобно человеку, проклинающему лестницу, по которой, истертой тысячами чужих ног, именно он почему-то подняться не может…
Ягор сбежал не от Маро, как воображала она, а от собственной судьбы, ни в грош его не ставившей, ке желавшей не то что помочь, но хоть позволить ему выбраться из мира, в котором такие лишь вот Маро и обитали. Ему просто не везло, он спотыкался везде, куда ни повернись; казалось, уже выбравшись из ямы, он снова падал назад, в грязь, в нищету, в скверну! Чего он только не пробовал – и все-таки встать на ноги так и не сумел. К его отцу судьба была, что и говорить, милостивей; то, чего достиг его отец, Ягору могло лишь сниться, если, конечно, хоть половина того, что о нем рассказывали, было правдой! Нет, Ягору просто не везло: отцу своему он не уступал ни силой, ни здоровьем, ни усердием, ни даже цветом волос (он был даже еще рыжей); так что подводила его только судьба, злобная, паскудная судьба! Не справившись с этой судьбой, он стал могильщиком, – сам похороненный судьбой, он решил утешаться хоть похоронами других. И он утешался, особенно когда за гробом шли видные, богато одетые родственники. Иногда, конечно, ему приходилось хоронить и бедняков; но для покойников-бедняков, в сущности-то, и рук марать не стоило, к ним Ягор не испытывал никаких чувств, с ними его не связывало ничто – ни мечта, ни ненависть. Покойника-бедняка он помнил так же, как помнил Маро, – только пока его видел. Еще меньше интересовали его родственники бедняка – ему было наплевать на их черемшу, на их отдававшее кислятиной вино, на то, где они добывали деньги, чтоб еще одного своего червяка похоронить по-христиански. Бедняком был и он сам – что ж он мог услышать от них нового или удивительного? Подобно ему самому, люди эти шли в хвосте жизни, их, собственно, и людьми-то считать нельзя было, и исчезали они из этого мира так же незаметно, как и появлялись. Людьми были только богатые: тем принадлежал мир, те и рождались и умирали под музыку. Похороны каждого богача были для Ягора событием незабываемым и неповторимым. С богатыми мертвецами его связывали два главных чувства – любовь и ненависть: он любил их за их богатство и ненавидел за свою бедность, за то, что он не таков, как они. Родственники богатого покойника и не замечали Ягора – откуда им было знать, какое невероятное облегчение, какое блаженство испытывает стоящий на рыхлом холмике земли, держащий в руках веревку могильщик, глядя на них, находясь среди них? Он запоминал не только покойника, но и всех его близких, даже их одежду, и, укладываясь передохнуть на дне очередной свежевырытой могилы, думал только о них – страстно, завистливо, мучительно, безнадежно! А когда откуда-то внезапно, как кость из земли, появлялось немытое лицо Маро, он утолял с ней свою страсть к тем красивым и чистым женщинам, которые в сутолоке прощания с покойником иногда нечаянно прикасались к нему, в волнении и растерянности клали свои нежные, ароматные руки на его грязное плечо. Одна из этих женщин как-то уронила возле могилы черный шелковый платок с вышитыми краями – и Ягор хранил его бережно, как память о матери или подарок возлюбленной. «Такой же, вероятно, был и у любовницы отца…» – с завистью и гордостью думал он, глядя на платок. Завернув этот платок в обрывок старой газеты, он бережно хранил его за пазухой и во время отдыха, накрыв им лицо, жадно вдыхал аромат незнакомки, с течением времени становившийся все слабее, все больше растворявшийся в запахе его собственного пота. Но Ягор этого не замечал – прежний запах платка он помнил ноздрями, и, когда тонкая, нежная ткань ложилась на его лицо, он чувствовал такую тоску, у него так ныло сердце, что его покойная мать от жалости, наверно, в гробу переворачивалась. Сам же он в конце концов, как сумасшедший, вскакивал на ноги – только чтоб не подчиниться этой безжалостной тоске, не сдаться, не остаться навек в вырытой для другого могиле! Тонкий платок незнакомки напоминал ему о жестокости и неприступности жизни богатых, жизни, к которой он рвался с самого детства, едва узнав об ее существовании, – жизни недоступной и столь же тревожно таинственной, как смерть отца. Именно после смерти отца он навек и безнадежно влюбился в эту жизнь; но она не подпускала его к себе ни на шаг, хотя у ее второй, невидимой Ягору двери и стоял длинный хвост ее более удачливых любовников. А Ягору она подбрасывала то, что ею было уже использовано, изношено и нуждалось лишь в погребении. Конечно, и это было не так уж мало, и этим можно было кое-как перебиться – и Ягор этой милостыней не гнушался, но вызывала она у него не благодарность, а лишь еще большую ненависть. Он походил на юношу, охваченного безнадежной страстью к женщине, которая, не будучи ему парой ни по возрасту, ни по положению, обращается с ним, как с бедным родственником. Слепота и превратность судьбы выводили его из себя! Он с болью чувствовал, что судьба отвела ему место в самом конце стола, до которого все блюда – или, верней, объедки – доходят уже холодными, с застывшим на них жиром. И эти объедки съедобны, насытиться можно было и ими – и все-таки глаза Ягора без конца устремлялись к началу стола, туда, откуда начиналась раздача яств, где сидели избранники судьбы. А главное – и его отец сидел ведь когда-то среди этих рослых, с двойными подбородками мужчин и воздушных женщин, не сморкавшихся в подол платья, как Маро, а употреблявших шелковые, с вышитыми краями платки, которых у них было так много, что, уронив один из них, они даже не нагибались поднять его. Женщины эти ели не жирные холодцы, не свиные ножки, а варенье из роз, и то со страхом: и одного лишнего лепестка было достаточно, чтобы появился животик! Когда-то на такой животик клал голову и отец Ягора; а Ягору судьба на такое и взглянуть не давала: любая из этих женщин, встретив его вне кладбищенской ограды, тут же упала бы в обморок со страху. Он был для них частью кладбища, в нем они нуждались тогда лишь, когда умирали, начинали гнить, смердеть. Все мертвецы ведь смердят одинаково, и богатые и бедные. Богатые, пожалуй, даже еще больше: бедняк-то и подыхает с пустым брюхом! Мертвые становились подданными Ягора – их обливавшиеся потом родичи, как гостинец, подносили ему вытянувшихся в своих дубовых гробах княгиню или купца, князя или пристава, совали ему в руки немалые деньги, оставляли целые корзины выпивки и закусок, лебезили даже перед ним, чтоб он только «ухаживал за могилой как следует». Но ни один из них ни разу не предложил ему занять место умершего! А ведь средь них он чувствовал бы себя как рыба в воде – лишь его проклятая судьба не хотела этого, делала все ему наперекор, как бы наказывая его за везение отца. Да на кой черт ему были, в конце концов, все эти покойники? Если б ему хоть позволили посадить между могилами огурцы, тогда и он был бы человеком с набитым кожаным кошельком, тогда и он хоть раз в жизни лег бы в чистую постель с женщиной в чистом белье. Но он лишь зря терял время, зря сам себя обманывал! Да, он утешался похоронами других; но перехоронить всех ему все равно б не удалось, на это у него не хватило б ни времени, ни сил – за каждым гробом шли сотни и тысячи живых, и жизнь, вопреки всем стараниям Ягора, ничуть не убывала, а спокойно шла дальше; Ягор же так и оставался в стороне от нее со своей перекинутой через плечо грязной, измочаленной веревкой и сверкающим, как его ненависть, заступом. Если он хотел овладеть жизнью, следовало действовать как-то иначе, найти какой-то иной путь – просто так своего места ему не уступил бы никто. Как он мог надеяться на кого-то другого, когда ему ничего не оставил и родной отец? Поэтому, узнав о строительстве железной дороги, он бросил веревку и заступ в наполовину вырытую могилу и не оглядываясь ушел. О железных дорогах и поездах он уже слыхал – в свое время и его отец работал на железной дороге где-то около Поти; но он с самого начала избегал идти по стопам отца. Состязаясь с отцом, он все-таки никогда не взялся б за дело, от которого тот ушел, словно заработать что бы то ни было после отца ему было невозможно. Отец Ягора не был ленив, но и заниматься чем бы то ни было понапрасну никогда не стал бы, – получив от любого дела все, что оно могло дать, он тут же уходил; он считал, что человеку бог дал столько же способов добывать деньги, сколько волос на голове. «Оно отчасти и хорошо, что крестьянин остался без барина и без земли! – говорил отец Ягору. – Сейчас он хоть поймет, что способен не только землю ковырять… Сейчас жизнь принадлежит предприимчивым». От отца же Ягор знал и то, что зазорных дел нет. Почти постоянно оторванный от семьи, человек этот не гнушался ничем – он и овец стриг, и лес сплавлял, и грузчиком был, и с горцами табуны на Северный Кавказ перегонял; в конце концов он разбогател в Батуми и там же умер. Его семья так и не смогла точно выяснить, убили ли его там, или он умер естественной смертью, и правдой или сплетней было то, что рассказывали о нем такие же, как он, оторвавшиеся от семей, двинувшиеся на заработки люди. Человек, принесший им известие о смерти отца, был молчалив, как разбойник, – могло показаться, что он не сам пришел к ним с известием, а был приведен для допроса. «Кого удивишь сейчас смертью? – сказал этот человек, уходя. – Я вот выйду отсюда и тоже, может, кого-нибудь убью, а может, и меня убьют…» И все же Ягора потрясла не столько смерть отца как таковая, сколько сплетни о нем, пришедшие в деревню вместо него самого. Несмотря на то что в контрабанде и спекуляциях он ничего не смыслил, сплетни эти показались ему многозначительными и заманчивыми, а главное, еще тесней сблизили его с отцом, которого он всего-то два-три раза в жизни и видел, который раз в несколько лет возвращался домой для того только, чтоб на следующий же день уехать опять, еще раз убедившись в том, насколько чужды и не нужны ему и жена и сын. Но это Ягор понял лишь потом, когда до него дошли слухи о смерти отца. Понял он тогда и то, каким бременем висели всю жизнь они с матерью на шее этого человека, который был обязан любить их, хотя в действительности лишь выиграл бы, если б их не было вообще. Но злобы против отца это у Ягора не вызвало – напротив, он сразу же понял и простил его, ибо в глубине души почувствовал, что сам и вовсе не стал бы интересоваться таким вшивым семейством, если б, как отец, жил в лучшей гостинице Батуми с шикарной танцовщицей-гречанкой, имел собственный выезд и привык, чтобы швейцары ресторанов говорили ему не «куда прешь?», а «добро пожаловать, сударь!». Греческая танцовщица была, по слухам, такой красавицей, что обыскивать ее не смел ни один полицейский, – а она-то, значит, прятала контрабанду в таких местах, что и сказать стыдно… Так что действительно ли отец покончил с собой, предварительно выбросив свою гречанку в окно, или обоих их пришиб в постели другой любовник красавицы, было не так уж важно. Главным было другое – то, что отец, мужичье отродье, сумел все-таки хоть ненадолго выйти в люди, доказать, что все созданные богом равны, что и мать богача, и мать бедняка беременеют совершенно одинаково, что богатство и бедность зависят исключительно от слепого случая и удачи. С этого дня Ягор боготворил своего отца и, подражая ему, не гнушался ничем, из чего можно было хоть что-то извлечь, ничем, что могло хоть немного продвинуть его вперед – то есть поднять наверх! Тут, по эту сторону Сурамского хребта, птица удачи была, видимо, иной, чем по ту; и все-таки достичь того, чего его отец достиг там, Ягору надлежало именно тут – он был уверен, что там отец не оставил ему ничего. Да и трудно было поверить, что сыну повезет там же, где уж раз повезло отцу. Можно было подумать, что Ягор и его отец разделили между собой Грузию, словно царь Ираклий с внуком, и каждому из них предстояло показать себя именно на своем малом поприще, на своем ограниченном участке – а будь их поле деятельности более обширным, но общим, обоим пришлось бы туго. Поэтому-то Ягор и нанялся на железную дорогу тогда лишь, когда она миновала Сурамский хребет. Правда, и с железной дорогой ему повезло не слишком: приехав в Тбилиси, он был снесен назад, как неумелый пловец сильным течением; и все-таки он продвинулся на шаг вперед, и все-таки его положение изменилось к лучшему! Как бы то ни было, теперь он хоть не держал в руке заступа; и если раньше ему подчинялись лишь мертвецы, то теперь от него зависела судьба почти сотни рабочих и их семей. В его обязанности входили, правда, лишь надзор за работой, хранение инструмента и раз в неделю выдача жалованья, но в глазах рабочих он был большим начальством, местным царьком, строгим и справедливым, как господь бог, всегда точно знающим, кто что ест, что пьет и с кем спит. Он проверял и оценивал их работу; и за своими деньгами они стояли в очереди перед его смахивавшей на собачью конуру будкой…