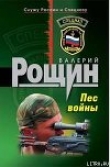Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
– Черных совсем нет… – ответила Аннета.
– Кто там увидит в такую темень! – раздраженно сказал Петре.
– Да отвяжись ты от нее наконец! – прикрикнула на него Дуса.

Все трое замолчали. Оглядев двор, Аннета заметила темную тень застывшего у стены осла. Как бы почувствовав ее взгляд, осел шевельнулся; а может, ей это и показалось. В этот момент ей очень хотелось, чтоб рядом с ней был хоть кто-нибудь живой, кроме этой парочки, пусть даже осел! Петре еще некоторое время углублял яму; потом он отшвырнул заступ в сторону хлева и вылез наружу. По улице за оградой прошли несколько человек, о чем-то между собой говоривших. Все трое прислушались, невольно напряглись и застыли, пока голоса за оградой не стихли совсем – обычные человеческие голоса, которые можно услышать на любой сельской улице, тем более в такой теплый, спокойный вечер, для кого-то тревожный, а для кого-то и радостный, и утешительный. Люди за оградой, которых было тоже трое, разговаривая, прошли километров пять; до этого они отработали целый день, а завтра должны были чуть свет опять уж быть в Цнори. Они работали на железной дороге, но поезда не видели еще никогда, дорога еще только прокладывалась; работая землекопами, они весь день перетаскивали гравий и кучками ссыпали его вдоль полотна. Говорили лишь двое; третий слушал их молча. «А что – разве Цнори больше, чем Уруки?» – «Нет, почему же… просто так уж, видно, потребовалось…» – «Потребовалось – и слава богу! Ну ее к черту… опасная штука все-таки!» – «А телега, по-твоему, не опасная штука? Под телегу никто еще не попадал, что ли?» – «Нашел что сравнивать! Да если целую деревню на колеса поставить, вот что это такое… тьфу, черт его побери!» – «Если он действительно такой, что ж его с места-то сдвинет, хотел бы я знать!» – подумал третий. Они шли, спешили по домам, чтобы поскорей удивить своих жен и детей сплетней или правдой, услышанной ими в Цнори. И они участвовали в этом деле, и они были как-то связаны с железной дорогой, несколько даже этим гордились – и все-таки в железнодорожных делах они смыслили все еще не больше, чем их жены и дети. Они шли и говорили – и ни одному из них даже в голову прийти не могло, что сейчас за этой каменной оградой поспешно, по-воровски, как труп бешеной собаки, хоронят вечную «девочку-бесштанницу», вечную прислугу и няньку, не имевшую ничего своего, кроме любви и добра, которым могли бы позавидовать и богини. Ее вечно девственные сосцы были полны чистым, неразбавленным молоком любви и добра – божественно сытным, божественно изобильным и именно поэтому губительным для простых смертных, какими были и она сама, и все выращенные ею дети, непригодные к выпечке в огне жизни, ибо им не хватало дрожжей ненависти и зла. В этом-то и состоял ее грех, невольный, но непростительный, неискупимый! В другое время, в другой стране ей, вечной няньке, возможно, воздвигли бы памятник, ее бы воспевали – здесь же, сейчас, в бесконечной ночи Уруки, она не заслуживала и того, чтоб в ее честь зажгли хоть одну свечу! Снося по лестнице стул, стоя на этом стуле под липой и дрожащими руками поправляя петлю на шее, она чувствовала это, вероятно, и сама… о чем же ей было еще жалеть?
Потом Дуса поставила коптилку на холмик, и они с Петре пошли за телом. «Помешала б им коптилка, что ли?» – подумала Аннета. Окруженное черной каймой пламя то и дело колыхалось, словно просясь на руки, подобно боязливому, капризному ребенку; и его отблески мерцали на блестящей щечке Асклепиодоты. Еще крепче прижав куклу к груди, Аннета молча глядела на пламя. Тело принесли тотчас же; Петре прихватил с собой и старый, потертый палас, на котором оно, наверно, покоилось в хлеву.
– А Александра не надо было б известить? – рассеянно спросила Аннета.
– Александра? Александра? – растерялся Петре, словно не сразу вспомнив, кто такой Александр. – С каких это пор Александр нашими делами интересуется?
– Может, он ей гроб купил бы… – нерешительно пробормотала Аннета.
– Ну еще бы! С подкладкой… с черной шелковой подкладкой! – зло усмехнулся Петре.
– Да хватит вам… что вы всё спорите? – сказала Дуса с неуловимой улыбкой в голосе. – В земле или в золоте – не все ли ей уж равно?
– А нам? Нам тоже все равно? – спросила Аннета: без гнева, как бы лишь с упрямством любопытного ребенка.
– Давай, давай… чего ты зеваешь? – крикнула Дуса мужу, хватая тело за ноги.
– Веревку хоть сперва снимите… – сказала Аннета…
– Мешает она, что ли? – отмахнулся от нее Петре.
– Снимите с нее веревку… – повторила Аннета. – Сейчас же! – крикнула она вдруг.
Петре взглянул на нее, словно собираясь что-то сказать, у него даже задергались губы, но потом он, передумав, присел на корточки, ослабил петлю на шее Агатии и осторожно снял ее, словно остерегаясь невзначай сделать покойнице больно.
Тело опустили в яму, и, пока Петре искал в темноте заступ, Дуса сверху накрыла Агатию паласом.
– Погодите, не засыпайте… это я ей в могилу положу! – крикнула Аннета, направляясь к яме.
Материнское платье путалось у нее в ногах, мешало ей идти. В нем Аннета казалась выше, чем была на самом деле.
– В могилу положишь? Что ты ей положишь? – изумился Петре.
Аннета опустилась на колени на краю ямы; черное платье матери растеклось вокруг нее, как лужа смолы. Уложив куклу поверх паласа, Аннета осторожно, ласково расправила ей руки и ноги.
– Асклепиодоту… – сказала она. – Я ей обещала. Теперь они будут вместе – навсегда вместе…
– Да отстань ты со своими глупостями! – раздраженно крикнул Петре. На металле его заступа блеснул красноватый отсвет коптилки.
– Кукла моя… с ней я что захочу, то и сделаю, – спокойно сказала Аннета. Она по-прежнему стояла на коленях, вся в складках черной ткани.
– Твоя, говоришь? – еще больше разъярился Петре. – Твоего тут нет еще ничего, запомни! Тебе ее что, муж купил? Или свекор?
– Да отстань же ты от нее, господи! Что мы, ночевать тут будем, что ли? – вновь прикрикнула на него Дуса.
Петре изо всех сил ударил заступом по земляной насыпи.
– Мама… Бабуля… – крикнула Аннета в яму.
Она не вставала с колен, пока могила не заполнилась. Сперва в землю ушло лицо Асклепиодоты; потом ее платьице слегка задралось, и показались белые панталончики с кружевами. Аннета заметила даже возникшую на миг маленькую воронкообразную впадинку – как раз над пробитой бровью Асклепиодоты…
Тело Кайхосро обнаружили на следующее утро – и опять-таки благодаря бдительности Дусы.
– Воняет у нас что-то! – сказала она, сморщив нос.
«А я-то это сколько времени твержу…» – подумала Аннета, но ничего не сказала: ей было лень говорить, ничто в этом доме ее уж не интересовало. Как и накануне, на ней было черное платье матери; днем несоответствие между ним и ее все еще детским телом бросалось в глаза еще больше, словно Аннета надела его специально, чтобы посмешить людей.
– Мышь, наверно, сдохла… – сказал Петре, нюхая воздух. Он только что кончил завтракать и был во власти сытой благодушной лени, располагающей к тому, чтоб ковырять в зубах, сгребать в одну кучку хлебные крошки, вести какой-нибудь пустопорожний разговор… – Зря глазеешь, они стоят, – обратился он к Сар-диону, который со своей всегдашней слюной на губах неподвижно уставился на циферблат огромных, как шкаф, часов.
– Пусть смотрит… тебе-то, собственно, что? – сказала ему Дуса. – По-твоему, значит, мышь сдохла? – спросила она, испытующе, с сомнением глядя на мужа, как бы приглашая его как следует подумать, прежде чем отвечать.
– Ну да… не знаю… может, со двора пролезла… а то ведь Агатия… – Неожиданно наткнувшись на взгляд жены, Петре сам вдруг оцепенел, не смог закончить оборванной на середине фразы.
Потом они долго и упорно глядели друг на друга без слов, как бы испытывая, кто дольше сумеет не моргнуть и не отвести глаз. В действительности же они сейчас просто беседовали глазами и гораздо ясней и выразительней, чем при помощи слов, делились друг с другом одним и тем же сомнением, возникшим у них почти одновременно – у нее чуть раньше, у него чуть позже. «Ты считаешь?» – «А ты… а ты?» – «Почему он нам сегодня ни разу не вспомнился?» – «А время у нас для этого было?» – «К черту… к черту!..»– «Сейчас же пойду, посмотрю…»
У Аннеты вдруг вспотели ладони – лишь в этот момент она осознала, что напряженно, затаив дыхание, следит за говорящими глазами отца и мачехи. Опять происходило нечто страшное… с ней или в ее присутствии должно было вот-вот еще что-то случиться! Пытаясь скрыть свое волнение, она не сумела придумать ничего лучше, как вновь придвинуть к себе тарелку и начать есть нетронутую, совсем уж остывшую кашу.
– А еще говорила: не хочу… – донесся до нее голос Дусы.
– Да… не хочу, не хочу! – устыдилась, растерялась, рассердилась Аннета.
– Пойду дедушке твоему поесть отнесу. Сегодня он что-то молчит… Агатию, наверно, ждет! – сказала Дуса и, упершись руками в стол, медленно поднялась.
– Дедушка умер! – огрызнулась Аннета. – Давным-давно уж! Но его-то ведь, как собаку, в яму не бросят, паласом не прикроют… на такое уж отец не осмелится! Не осмелится! Не осмелится! – Швырнув на стол ложку с кашей, она выбежала из комнаты…
Когда она это говорила, Кайхосро и в самом деле был уже второй день мертв… запершись в своей комнате изнутри, он умер незаметно, как мышь в сундуке. Накануне смерти он увидел вдруг свою мать, но не здесь, где он умирал, а там, в Тбилиси, в доме с красивым деревянным балконом, в доме, где он родился.
– Ясе, Ясе! – кричала стоявшая на балконе женщина.
«Меня зовет… – обрадовался Кайхосро. – Но я-то ведь уже не Ясе?» – тут же испугался он.
Сейчас она сошла бы скорей за его дочь, чем за мать. У нее были строгие и одновременно живые, как у породистой лошади, глаза, нос с горбинкой и тонкие, плотно сжатые губы; ее твердые скулы цвета пшеничного зерна были влажны от жары, а волосы развевались по ветру. Она глядела прямо на Кайхосро, но явно его не видела. «Значит, меня нет… меня уж нет!» – взволновался он. Медлить было нельзя, надо было тут же ее окликнуть – иначе женщина с балкона вернется в комнату и он никогда уж ничего не выяснит!
– Мама! – все-таки осмелился, все-таки позвал он.
И женщина, и дом с деревянным балконом мгновенно исчезли. Он опять был тут, в логове Макабели, в доме, выстроенном его собственными руками, в комнате со спертым, зловонным воздухом.
– Каюсь… каюсь… – растерянно пробормотал он, глотая подступивший к горлу комок слез…
Тело Кайхосро положили на покрытую ковром тахту в середине большой комнаты, на месте, где утром еще стоял обеденный стол и где когда-то, в лучшие для этой семьи времена, вокруг пузатой фарфоровой лампы бродили призраки героев и писаных красавиц, вызванные из книг спокойным, проникновенным голосом Бабуцы. Сейчас вокруг была пустота, еще более заметная из-за молчания огромных, как шкаф, часов (они были так тяжелы, что вынести их оказалось невозможно) и покрытой ковром тахты, на которой покоился мертвец в майорском мундире, с челюстью, подвязанной черным платком, словно у него разболелись зубы. А в зубах он держал серебряный двугривенный – это на все-то бесконечные блуждания по дорогам смерти! В комнату вошли Петре и Дуса; они сели друг возле друга в середине расставленных вдоль стены стульев. Вошедшая чуть позже Аннета уселась у противоположной стены – отдельно, сама по себе. Сардион был во дворе; Дуса обманула его, сказав, что барабан там, и сейчас он, хныча, скуля и пуская слюни, беспокойно обшаривал каждую пядь ограды…
– Надо бы в деревне объявить… – сказал Петре.
Аннета и Дуса молча переглянулись; почти потонувшая в материнском платье Аннета глядела на Дусу совершенно спокойно. Отведя от нее глаза, Дуса медленно, с усталым видом поднялась, так же медленно, словно собираясь лечь в постель, распустила волосы, вышла на веранду и леденящим голосом завопила. По всему телу Аннеты пробежали мурашки.
– Отец… папочка! – всхлипнул Петре.
Люди стали собираться сразу же, не дожидаясь вечера. Железные ворота Макабели распахнулись настежь, и кучки людей растеклись по всему двору. «Какой он был добрый… какой он был умный человек!» – без конца повторял Гарегин. На крестьянах были выгоревшие от солнца рубахи и войлочные шапки, их штанины были заправлены в носки, а тяжелые, грубые руки засунуты за пояс, словно некие сельскохозяйственные орудия. От ежедневного единоборства с солнцем их спрятанные под короткими чубами лбы покрылись одинаковыми морщинами, их шершавые, упрямые скулы – одинаковыми трещинками. Всех их можно было принять за родных братьев!
– У тебя в лавке дверь открыта… как бы куры не забрались… – сказал один из них по адресу Гарегина, не глядя на него.
– Не бойся… там есть кому присмотреть, – ответил Гарегин, выискивая глазами кого-то в противоположном конце двора – может быть, специально, чтобы скрыть невольное волнение.
– Соль курица клевать не станет, – заметил другой крестьянин.
– Курица, она, брат, слепая… золота ей насыпь, она и его склюет, – отозвался первый.
– Займитесь-ка вы своими делами, вот что я вам скажу, – заметил Гарегин, тут же смягчая эти слова дружеской улыбкой. – Д-да… А вот этого он уж действительно не заслужил! – показал он рукой на Сардиона. – Вы что-нибудь подобное видели, а? Я вас спрашиваю: видели?
Никто ничего не ответил – все следили за Сардионом. «Бараб-б-ба-а-ан1» – скулил Сардион, ползя вдоль ограды, словно подкрадываясь к притаившейся на ней, греющейся на солнце ящерице.
Уруки, как водится, быстро смирилась и со смертью Кайхосро. Единственным, кто пережил эту смерть действительно всей душой, был, наверно, отец Зосиме. Когда он вошел во двор Макабели, его трудно было узнать: словно вдруг надломленный, постаревший, он с трудом поднялся по лестнице. «Упокой его господь, но кого? – думал он. – Жили-были… а кто, непонятно! Мы существуем – и в то же время не существуем… существуем и не знаем, что существуем… существуем и сами не знаем, как нас зовут!» – думал он.
– Поразительно, поразительно! – сказал он встретившему его в двери Петре.
«Что ж тут поразительного… не бессмертен же он был, в самом деле!» – мысленно ответил Петре.
– Если б вы, батюшка, знали, как он вас любил! – сказал он вслух…
Но одна поразительная вещь в доме Макабели все-таки произошла, словно отец Зосиме ее действительно предсказал! На следующее утро покрытая ковром тахта, на которой лежал мертвец, оказалась пустой. Двугривенный валялся на ковре; черный платок, которым была подвязана челюсть Кайхосро, нашли на лестнице. Можно было еще поверить в воскресение и тайный побег мертвеца, но что кому-нибудь вздумается украсть труп, этого предусмотреть нельзя было уж никак!
– Это кто-то из ваших… – сказал отец Зосиме, и его глаза замерцали вдруг по-прежнему, словно последнее, столь неожиданное приключение старого друга немного его подбодрило. Его крупные, чуть припухшие пальцы лежали поверх натянутой на коленях рясы; его учащенное от быстрой ходьбы дыхание постепенно выравнивалось. – Дай мне, детка, водички… – сказал он Аннете. Его лицо раскраснелось, и только у корней волос гнездилась старческая бледность, словно остатки снега в недоступной солнцу расщелине. Опустившись на стул, он все еще тяжело дышал. Едва Петре подошел к его дому, сердце отца Зосиме екнуло, и он почувствовал, что через минуту узнает что-то совершенно необычное. Почувствовал он и то, что ждет этого со вчерашнего дня, словно умереть просто так, как все остальные, было немыслимо для его друга, для человека, всю жизнь прятавшегося не только от смерти, не только от своего ближнего, но и от себя самого… для человека, величайшим несчастьем которого было, должно быть, то, что бог создал его человеком вообще! Выслушав рассказ Петре, священник вдруг приободрился и оживился, как юноша, которому предложили пойти подглядывать за купающимися девушками. Петре с трудом поспевал за ним – отец Зосиме шагал по улице, как задиристый семинарист, и его изъеденная молью, усеянная репейником ряса развевалась по ветру. Он понимал, впрочем, что такая поспешность с его стороны несколько греховна, ибо увидеть ему предстояло отнюдь не чудо божье.
– Спасибо! – сказал он Аннете, беря у нее стакан. – Спасибо! – повторил он, осушив этот стакан и с хитрой улыбкой ставя его на пустой стул рядом с собой. На запотевшем стакане остались отпечатки его крупных пальцев. – Это кто-то из ваших… – спокойно сказал он и взглянул на Петре, который в этот миг с таким ожесточением сжимал и разжимал кулак, словно сию минуту сильно ушиб его.
– Что ты говоришь, батюшка? Будь это вор, почему он оставил бы двугривенный? Что ему этот двугривенный, карман отяжелил бы, что ли? – почему-то разъярился Петре.
– Двугривенный? Боюсь, сын мой, что вернуть тело отца тебе обойдется дороже… гораздо дороже. Точную цену тебе, впрочем, скажет сам похититель! Деньги держи наготове, чтоб лишних хлопот избежать… – так же спокойно сказал отец Зосиме. Он улыбнулся Аннете, как бы извиняясь за то, что вынужден говорить о таких гнусностях при ней. Анне-та, казавшаяся в материнском платье выше, худей и бледней обычного и напряженно его слушавшая, тоже улыбнулась растерянной, мимолетной улыбкой, как бы подтверждая, что она тут, что она внимательно слушает, а главное, ни в чем его не винит. – Он, наверно, к брату съездить собрался… вот ему и понадобились деньги, – продолжал отец Зосиме, вновь обращаясь к Аннете. Она кивнула головой, невольно, едва заметно. – Вместо того чтобы просить денег и унижаться, он предпочел этот путь… мучительный путь! – Он обращался к Аннете, словно в комнате никого, кроме нее, и не было, он заботился именно о ней, успокаивал именно ее, помогал ей перенести еще одну противоестественную боль, старался, чтоб это слабое, чистое существо не потеряло способности понимать и прощать до тех пор, пока не разберется в чем-то само, пока грубость и беспощадность жизни не станут в его сознании вещами обыденными, заурядными. – Он, наверно, в отчаянии был… а в отчаянии человек способен на все. Ибо что творит Отец, то и Сын творит также… – добавил отец Зосиме мгновение спустя.
– Ты слышишь! Его, значит, Александр утащил… – Петре толкнул Дусу плечом. – Да, Александр его похитил… так ведь из твоих слов следует, батюшка, правда ведь? – наклонился он к священнику. Его кулак вновь лежал на ладони левой руки. – И вы, служитель божий, готовы уж оправдать его! По-вашему, у него были причины сделать это! Его, видите ли, безденежье в отчаяние привело… ему, бедняжке, к брату в Сибирь ехать нужно – к такому же, кстати, преступнику, как он сам, – и он не смог придумать ничего лучшего, как украсть труп деда, продать его собственному отцу и на вырученные деньги купить брату чесноку и теплого белья. А кстати – и мир поглядеть, и себя людям показать! А отец ничего… отец пускай себе надрывается, откладывает гроши, копит на собственные похороны, чтобы перед смертью и эти гроши сыновьям, как мясо собакам, швырнуть, чтобы хоть в могилу лечь не израненным, не изодранным, не оскверненным… Что – не так? Не так вы разве сказать изволили? Что ж я это, в самом деле: оглох, что ли? – Он оглянулся на Дусу. – Да что там говорить! Если уж убийцу, разбойника и церковь оправдывает, значит, действительно второе пришествие наступило…
– Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет кого хочет… А я не оправдываю, я защищаю, – спокойно сказал отец Зосиме. – Защищаю, потому что жалею… – добавил он секунду спустя.
– Защищает, слышишь? Защищает! – крикнул Петре.
– Боже мой! – возвела глаза к потолку Дуса. – Да лучше уж я бы в Телави осталась!
Но сетовать на судьбу ей было некогда: она была хозяйкой дома, и во всех грехах этого дома люди обвинили бы прежде всего ее. Вот, пришла, дескать, и все вверх дном перевернула. А на какой ад она себя обрекла, это никому не интересно! Им только бы обвинять, черт знает что ей приписывать – от нее-де не только живые, но и мертвецы удирают, собственных похорон спокойно дождаться не могут! Так что сетования надлежало до времени отложить, снести от бога и эту обиду и хоть из шкуры вылезть, но как-нибудь вернуть в дом мертвого свекра. Не могла ж она сказать приходившим соболезновать: «Заходите, спасибо за внимание – но вы знаете, покойный изволил отлучиться»! Больше всего в эту минуту она ненавидела мужа. Она была унижена и оскорблена, как профессиональная плакальщица, которая, уже приготовившись, распустив волосы, расцарапав лицо, вдруг узнала бы, что ее пригласили в шутку. А ей было не до шуток. Унижена была прежде всего она сама – жена, невестка, хозяйка! Мало того, что ее сквалыга-муж уклонился от празднования свадьбы, уговорил ее, что в их возрасте свадьба не вызовет ничего, кроме насмешек, – теперь он отнимал у нее и возможность усесться у гроба свекра, чтоб хоть так заставить людей признать в ней жену, невестку, хозяйку…
– Ну что ты зря мелешь! – внезапно разъярилась она. – Бери деньги и проваливай! Долго мы еще сложа руки сидеть будем? И вы, батюшка, поезжайте с ним тоже, умоляю вас… – обратилась она к отцу Зосиме, – Вы уладите это гораздо лучше! А иначе никому из нас в этой семье вообще не жить, вы ж понимаете… вы же, батюшка, все понимаете! – Неожиданно она схватила отца Зосиме за руку, чтобы поцеловать ее. То ли испугавшись, то ли удивившись такому порыву, священник так поспешно встал, что рукавом рясы задел и скинул на пол стоявший на стуле стакан; стакан разбился. – Пусть это, батюшка, к счастью будет… пусть это все невзгоды ваши унесет! – воскликнула Дуса, не отводя губ от руки священника. – Вы уж, батюшка, помогите… спасите нас от позора…
Через два часа Петре и отец Зосиме находились уже за девять километров от Уруки и, стоя во дворе монастыря, под кипарисами, слушали глупости Маро. На дороге их ожидала телега. Перед выездом из дому Петре мельком заглянул в хлев; убедившись в том, что осла на месте нет, он окончательно поверил в догадку отца Зосиме и тут же покорился судьбе, почувствовал какую-то одуряющую печаль и безразличие – так, словно выкупать прах отца у собственного сына было делом самым что ни на есть заурядным. Всю дорогу он и рта не раскрыл; держась обеими руками за край телеги, он молча трясся вместе с ней и не слышал ничего, кроме шума колес, не видел ничего, кроме рясы отца Зосиме, на которую медленно, упрямо садилась серая пыль. Зато сами они привлекали всеобщее внимание– каждый встречный невольно поворачивал голову в их сторону и долго глядел им вслед. Вероятно, всех изумлял вид священника на телеге; но ни его, ни Петре совершенно не интересовало, насколько подходили к рясе одного и сюртуку другого грубые, неструганые доски телеги, на которой они ехали днем, на виду у всех, – ничего лучшего им найти не удалось, да и покойнику телега подходила больше, чем извозчичья пролетка. Петре было наплевать на все! Во двор монастыря он вошел вслед за отцом Зосиме, словно просто сопровождая его… простым свидетелем казался он и сейчас, стоя под кипарисами и глядя на Маро так равнодушно, словно видел ее впервые в жизни, и то случайно, и ничего общего с этой женщиной ни прежде, ни теперь не имел. Он не слушал, что она говорит, ибо и в мыслях не мог связать ее с тем делом, из-за которого пустился в такой неблизкий путь, трясясь и качаясь, словно ворон, присевший на верхушку сосны во время ветра. Он просто стоял, ожидая, пока отец Зосиме не отделается от этой тупой, грязной бабы и не закончит как-нибудь их дело вообще. Он ждал этого с ненавистью, постепенно переходившей в равнодушие… с ненавистью слуги, сопровождающего на рынок своего хозяина, который то и дело останавливается у прилавков, чтобы прицениться к тому-другому, хотя покупать и не собирается – товар ему нужен совсем иной, он просто лишний раз испытывает свое умение поторговаться!
– Послушай, дочь моя, – говорил отец Зосиме, обращаясь к Маро. – Мы уже поняли, что он спит, что вчера вы всю ночь на ногах провели, что он и сам не спал, и вам спать не давал – тебе всю ночь над своим дедом плакать велел… Ты, деточка, все сделала правильно, бог тебе за это воздаст! Но теперь послушай и ты нас: пойди разбуди его, скажи, что его отец ждет, – протянул он руку в сторону Петре. – Так и скажи: отец, отец твой тебя ждет! Поняла?
– Да я их узнала… неужто ж не узнала? Я же поздоровалась… – сказала Маро, искоса взглянув на Петре.
– Так тем более делай то, что тебе говорят! – рассердился отец Зосиме.
– Тогда будите его сами! Я ж его знаю: опять на меня набросится! Чтоб мне с места не сойти… – сказала Маро. – У меня все тело в синяках! Всю ночь кулаками бил: плачь, плачь! Я б и сейчас поплакала, только устала очень. Кайхосро, горемычный… кому достанутся твои эполеты золоты-ы-е… – внезапно завыла она.
– Да замолчи ты! – снова рассердился отец Зосиме.
– Сердце молчать не хочет! – воскликнула Маро. – Сперва ведь он мне живым показался! Уж я-то сколько на мертвецов нагляделась – и то маху дала. На осле сидел… А он-то – гостя, говорит, вам привел! С постелей поднял. Боже мой, говорю, опозорились мы с тобой, отец: к нам вон какой король в гости пожаловал! А отец все еще спит, на ногах стоит и спит. Давно уж, говорит, мы с тобой опозорились. Все свое несет, значит… Я коптилку вынесла, гляжу, а он мертвый… и вроде уж давненько, чтоб мне с места не сойти! Вчерашней ночи в жизни не забуду…
– Ну да… а потом вы уложили его в чужой гроб и зажгли у изголовья свечу, – сказал отец Зосиме.
– Конечно! Отец сделал для другого, его заберут завтра, а вчера нашего мертвеца упокоили! Пришел бы живой, мы б его в постель уложили… Чтоб мне с места не сойти! – всхлипнула Маро.
– Да ладно уж… ну полно тебе! Сколько раз одно и то же повторять можно! Если ты не позовешь Александра сейчас же… – Рука отца Зосиме, поднятая, чтобы погрозить Маро пальцем, застыла в воздухе, ибо именно в этот миг на дорожке показался Александр.
– Легок на помине! – сказал Петре. Впервые в жизни появление сына его взволновало.
Александр явно не выспался – его налившиеся кровью глаза, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Его скулы блестели, он недобро размахивал своей единственной рукой, нелепо сухощавый, нелепо долговязый, нелепо угрюмый. «С таким лучше не связываться!»– невольно подумал бы любой встречный.
– Для меня, батюшка, прощения нет! – еще издали крикнул он отцу Зосиме. – И не прошу, и не желаю… и никого не боюсь! – Он шел напролом. Маро он просто оттолкнул, словно она пыталась остановить его или словно ему надо было встать именно на то место, где стояла Маро.
«Совсем ведь еще ребенок… – подумал вдруг отец Зосиме. – Ему стыдно… это его и мучит!» Теперь они стояли почти впритык друг к другу (на отца Александр и не взглянул), слышали даже дыхание друг друга. «Меня он не ждал… меня увидеть ему неприятно. Без меня они сговорились бы лучше, а отец привел с собой свидетеля, этого он ему никогда не простит. Чем дальше, тем ему будет стыдней, мучительней…» – думал отец Зосиме.
– Я, батюшка, собственно, только обет свой выполнил! – хрипло сказал Александр, словно угадав мысли священника.
– В ад ты себя низверг, сынок, прямо в ад! – ответил отец Зосиме. – Уж лучше б ты…
– Я сам знаю, батюшка, что мне было б лучше, – перебил его Александр. – Я и ада не боюсь! – крикнул он вдруг. – Для меня ад везде… меня, вместе с вами, бог и создал в аду! Рай он еще только собирается строить, для рая у него времени нет… да и для кого ему, по правде говоря, рай-то строить? – злобно, вызывающе засмеялся он.
– Не гневи бога, не гневи бога! – с укоризной сказал священник. – Какое тебе дело до других? И ад и рай существуют! Каждый выбирает сам.
– Выбирает? Да как же мы можем выбирать? – удивился Александр.
– Каждый выбирает сам… – Могло показаться, что отец Зосиме повторяет эти слова, чтоб еще раз проверить их справедливость, прежде чем высказать их окончательно, навсегда избавиться от них.
– Но тогда… тогда чего ж вы от меня хотите? Тогда меня никто наказывать не вправе! – сказал Александр с горячностью ребенка, стремящегося лишь установить истину. – Но вы-то лучше меня знаете, что это не так. – Он вдруг сник; некоторое время все молчали, словно слушая птиц, щебетавших в густых ветвях кипарисов. – Человек ничего не выбирает, – спокойно, задумчиво сказал Александр, – а или подчиняется тому, что ему навязывают, или гибнет… Я тоже гибну, батюшка! Я тоже погиб, погиб прежде, чем родился; и погиб именно потому, что не мог выбирать, от кого, где и когда родиться…
– Да, ты погиб… но погиб позорно, постыдно! – ответил отец Зосиме. – В такой гибели никакой необходимости нет.
– Поступить иначе я не мог… и это вы тоже лучше меня знаете! – Александр опять вскипел, опять стал похож на человека, проведшего ночь в компании с чертом. – Меня за первую же детскую шалость ремнем выпороли: чтоб я не сделал ничего посерьезней! Мне за паршивую свинью еще в детстве руку отрубили: чтоб я и в мыслях не смел бороться со зверем покрупней! У меня, батюшка, брата отняли: чтоб я никогда не знал, чего я хочу, что могу, что делаю… Да нет, не отняли – отделили от меня, как от прокаженного: чтоб я думал о нем с мучением и завистью, – чтоб я ненавидел его, а не настоящего врага! Ему писали письма, его вспоминали, а меня завидев, родная мать губы кривила. Им гордились – а меня жалели, терпели, кормили из милости. Мне надо было кого-нибудь убить, чтоб не погибнуть, не увязнуть окончательно в болоте зависти и ненависти! Да нет, почему же кого-нибудь… деда моего, вот кого мне надо было убить! Его одного! Все мы от него пошли… в нем наше общее начало! Но этого я не смог. Хотел, жаждал, но без брата и без руки не смог. Я предпочел тонуть в болоте, – на миг он замолчал и взглянул на Маро. – Да… я повесил ее себе на шею, как самоубийца камень, чтоб спастись никак нельзя было! А вчера я исполнил обет, данный в детстве… Я это, батюшка, каждую ночь, как молитву перед сном, твердил: мертвым на осла посажу и по деревням возить стану! Словно этим я отомстил бы за высеченное детство, за отнятого брата, за потерянную руку… просто побаловался еще раз, вот и все! Но сказано – сделано! Какое мне дело до того, разумно это или безумно? Жаль только, ночью, никто не видел… И все-таки я себя ублаготворил, ох, ублаготворил! За такое удовольствие, отец мой, и жизнь отдать не жаль! Видели б вы, как осел трусил!.. Ему и палка не нужна была – сам бежал. Шутка ли сказать: мертвый майор на спине сидит. В мундире, эполеты при луне сверкают… А сам как пьяный – то на шею навалится, то назад откинется!
– Опомнись… опомнись, несчастный! – крикнул отец Зосиме.
– Пусть он скажет свою цену, и давайте кончать! – потерял вдруг терпение Петре. – Не тратьте времени зря! Скоро его уж вообще не будет смысла везти…