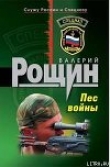Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц)
6
По возрасту Георге следовало б жениться скорей, чем Петре; но Петре женился первым – как говорили урукийцы, «обскакал старшего брата». Обскакал он, впрочем, не только старшего брата и не только урукийцев – от зависти к нему чуть не лопнула вся Кахетия, ибо женился он почти что на иностранке, и не на простой какой-нибудь девице, а на княжне с запада, с побережья, привыкшей ходить по мягкой земле… на княжне, бледной от влажного воздуха, нежной, хрупкой и задумчивой, словно бы даже печальной – тоже, видимо, из-за постоянной близости моря, – но одновременно и столь же гордой, как ее занятый лишь собственными усами и борзыми щенками отец, и столь же избалованной, как ее вечно окруженная служанками мать. Родившаяся в просторном бревенчатом доме, выращенная на тоненьких кукурузных лепешках, она заметно выделялась среди женщин по эту сторону Лихи, румяных от пышного пшеничного хлеба, пирожков с жареным луком и хорошего топленого масла. Ее худоба и бледность огорчили этих женщин, не только с любопытством, но и с известной жалостью разглядывавших невесту в тот момент, когда она впервые входила в железные ворота усадьбы Макабели – без родителей, без братьев и сестер, без родственников, с одной-единственной служанкой, которая довольно-таки потрепанным зонтиком прикрывала свою госпожу от жгучего урукийского солнца, а сама, раскрасневшись от жары, с лицом, покрытым мелкими росинками пота, притворялась хмурой и надменной, как это свойственно людям простым и робким, попавшим в незнакомую обстановку и старающимся скрыть свое волнение, не уронить достоинства. Новобрачную звали Бабуцей, она была дочерью князя Луарсаба Микеладзе, а ее служанку – Агатией. Помимо Агатий Бабуца привезла с собой лимонное деревце, высаженное в маленький дощатый ящик (недели через две оно засохло, и его выбросили вместе с ящиком), довольно порядочную по тем временам библиотеку, маленькую вышитую подушку матери, отцовскую саблю и крест, приколотый к кусочку кизилово-красной ткани, словно какое-то мертвое насекомое – экспонат частной коллекции зоолога-любителя. Так что женился. Петре не богатства ради – заполучить его в зятья были бы счастливы и многие более состоятельные семьи. Но он не пожелал повторять «ошибки» отца и «еще больше портить» кровь рода, а предпочел жениться на девушке бедной, но благородной. В ту пору, впрочем, и более подлинные и достойные, чем он, княжеские сыновья уже вовсю охотились за дочерьми торговцев. Нацепив одолженные черкески, они по целым дням разгуливали перед караван-сараями, в надежде приглянуться своим будущим тестям; они из кожи вон лезли, лишь бы только сохранить внешний лоск, не пропустить ни одной свадьбы или поминок; и они не задумываясь продавали и закладывали земли, удобренные прахом предков, населенные их тенями замки, родовые иконы и оружие, ожерелья и перстни, принадлежавшие их избалованным прабабкам, бабкам, матерям, теткам, – они срывали их с шей, стаскивали их с пальцев покойниц в последние минуты-перед тем, как гробы опускались в землю, и тащили их продувным свахам, чтоб заполучить какую ни на есть купеческую кикимору, скрывающую свой возраст под румянами, но сидящую на мешке с золотом! Ибо так, только так могли они хоть недолгое время сопротивляться буре, налетевшей будто нарочно, чтоб растоптать и унизить их, – великой буре, пришедшей с севера, из страны льдов, с реформой шестьдесят первого года… Да, это была буря– а как же ее было назвать еще? После того дня все перевернулось вверх дном: оставшиеся без крестьян господа не знали, что им делать со своей землей; а оставшиеся без господ крестьяне – что им делать с обретенной свободой, ни вспахать, ни засеять которой они не могли. Но Макабели глядели на мир сквозь свою щелочку, ни во что не вмешиваясь, ничем из происходящего за их оградой не интересуясь; ни преклонить колени на Крцанисском поле, ни сходить на Мтацминду поклониться вернувшемуся на родину праху поэта им и в голову не пришло бы. «Это нас не касается, в это нам вмешиваться ни к чему!» – таков был неизменный отклик майора на все события времени. И все-таки события эти так или иначе затрагивали и семью Макабели; и стук ноги, топнувшей где-то за тридевять земель, на зеркальном паркете Зимнего дворца, сотрясал и их высокую, прочную ограду. Теперь грамотами Багратидов можно было лишь затыкать дыры; и все-таки Макабели гордились своей благородной невесткой, да и все урукийцы, представьте себе, поглядывали на высокий двухэтажный дом с таким завистливым почтением, словно в нем сидела женщина, похищенная из Абиссинии, а не их соотечественница, не плоть от их плоти, казавшаяся чужой лишь из-за двоецарствия, из-за двоедушия и двуличия, навязанных им общими их врагами еще в древности. В действительности же паршивая горка высотой с бычью холку разгораживала их не больше, чем подушка разгораживает в постели двух неугомонных братьев-близнецов.
– Мне страшно, Агатия! – сказала Бабуца, оставшись вдвоем со служанкой в комнате, где они распаковывали свой багаж. Он был невелик, но каждая вещь была для обеих драгоценной, родной, надежной, особенно теперь, в этой незнакомой обстановке. – Как в тюрьму попала! Голова кружится…
– Чего ты боишься, голубка? Я ведь тут, с тобой… – подбодрила ее Агатия, невольно оглядывая комнату.
В дом Микеладзе Агатия попала совсем крошкой, еще при большой госпоже, бабушке Бабуцы. Замурзанную девчонку насильно вымыли и заставили впервые в жизни надеть трусы. «Чтоб я тебя без трусов больше не видела – иначе опозорю, при людях подол задеру!»– сказала ей большая госпожа. После этого Агатия привыкла к ношению трусов, а заодно и к семье Микелазде, которую она так полюбила, что, выгони они ее из дому, она тут же повесилась бы на воротах. Поэтому, вероятно, она и осталась в девицах – заботясь о других, она не заметила, как ее время прошло и никто о ней не вспомнил. Потом большая госпожа умерла, ее место заняла мать Бабуцы, а уход за маленькой Бабуцей поручили Агатии. Бабуцу она полюбила, как родную дочь, и этого ей было достаточно; ради Бабуцы она не задумываясь убила б человека, хотя при виде резаной курицы и падала в обморок. А после смерти родителей Бабуцы Агатия и вовсе посвятила себя сироте, у которой не было уже никого по-настоящему близкого кроме няни, возившейся с ней с самого рождения, бывшей свидетелем и ее первых зубов, и ее первых месячных, ставшей для нее и матерью, и отцом, и опорой, и надеждой! И это не только вдохновляло Агатию, но и было предметом ее гордости. А другие-то считали ее обыкновенной служанкой…
– Я же с тобой… – повторила она. – Саблю и крест давай повесим на стену, чтоб их все видели! Пусть никто не думает, что мы безродные какие-нибудь…
Железный крест, покоившийся, как мертвое насекомое, на кизилово-красной подушечке, был пожалован Луарсабу Микелазде кем-то из крестников императора на станции Саджавахо, где из всех дворян, вышедших приветствовать высокого гостя, один отец Бабуцы сумел до дна осушить семилитровый рог вина. Крайне пораженный, несколько даже напуганный этим необычным зрелищем, императорский крестник якобы тут же сорвал с собственной груди железный крест и на глазах у всех и всем на зависть вручил его князю Луарсабу, который, опершись о пустой рог, свирепо, как бешеный бык, разглядывал черный, вздыхавший и вопивший наподобие плакальщицы паровоз, как бы предчувствуя, что из вторжения в его владения этого странного чудовища ничего хорошего не проистечет. В самом ли деле чувствовал он что-либо подобное тогда на станции Саджавахо, одурев от мгновенно проглоченных семи литров, сказать, конечно, трудно; но в том, что произошло с его семьей в дальнейшем, повинны были, конечно, не только его нерасчетливость и легкомыслие. Маленький, дочерна прокопченный, выбрасывающий огонь и копоть паровоз притащил за собой новое время, изменившее весь привычный строй жизни. Неожиданная смерть нежной и мечтательной жены окончательно выбила Луарсаба из колеи, сделала его еще легкомысленнее и ветреней; заложив имение, он вместе с единственной дочерью переселился в Тбилиси, где к тому времени собралось уже немало подобных ему ветрогонов, искателей императорской службы и милости, которых стремление спастись, хоть как-то удержаться на поверхности до того сводило с ума, что отец не узнавал сына, а сын отца и еще недавно вполне достойные граждане своей страны готовы были отравить друг друга для того, чтоб хоть раз попасть во дворец наместника! Должно быть, Луарсаб Микеладзе выделился б и тут, и тут всех переплюнул бы, как однажды на станции Саджавахо, но сделать это он не успел. Ему изменило счастье; его погубила гордость, которой он был пропитан весь, насквозь, до мозга костей, и которая не позволила ему стерпеть хамство какого-то городского проходимца, высказавшего желание купить усы князя. Кончилось все это тем, что на рассвете, когда город еще крепко спал (кроме, конечно, Бабуцы и Агатии, которые где-то в чужой комнате, на чужой тахте, в накинутых поверх ночных рубашек шалях, ежась от страха, дожидались ушедшего куда-то пировать Ауарсаба), двое дворников и один городовой с трудом вынесли из садов Ортачалы его огромный, распухший и посиневший труп. После этого Бабуце не осталось ничего другого, как согласиться на уговоры свахи, переселиться из Тбилиси в еще более далекую и чужую У руки, стать невесткой в доме Макабели и навек забыть свою наивную мечту, в которую и верили-то, впрочем, лишь она да глупая Агатия, – мечту о солнечном, златокудром принце в хрустальном замке на берегу моря, где Бабуца, заснув среди роз, просыпалась бы от соловьиного пения. Зато дом ее мужа был обнесен высокой каменной оградой с железными воротами и походил на угрюмую, неприступную тюрьму, в которой женщине, разочарованной жизнью, было б легко затеряться и, забыв мечты, спокойно, незаметно жить за своими вышивками и книгами. Но в первый же день дом этот напугал Бабуцу своими полутемными комнатами, толстыми стеками, напряженными и приглушенными звуками, гнездившимися в этих стенах, словно какие-то страшные, невидимые существа. А Бабуца была так пуглива, что даже в уборную вечером выйти боялась, и Агатии приходилось сопровождать ее с коптилкой в руке.
«Не знает, бедняжка, ни за кого выходит, ни чьей матерью станет…» – думал отец Зосиме, облачаясь в алтаре с помощью дьякона Эпифане перед тем, как венчать Петре и Бабуцу. Никогда в жизни он еще так не волновался – у него дрожали руки, он без конца поправлял свою окаймленную широкой золотой тесьмой епитрахиль и раздраженно покрикивал на дьякона Эпифане, точно собираясь привести в исполнение смертный приговор, а не осчастливить жениха с невестой…
Воздушная и благовоспитанная Бабуца оказалась женщиной довольно плодовитой и вскорости родила Петре сначала Александра, затем Нико (по церковной книге – Николоза) и, наконец, Аннету (по книге Анну– в честь бабушки). После этого Петре окончательно успокоился – теперь оспаривать его первенство было некому. Будь Георга ему даже не сводным, а настоящим братом, будь он хоть вдвое старше Петре, ему все равно было б далеко до Петре – женатого мужчины, отца троих детей, человека, которого все виноторговцы Тбилиси и Телави уважали за ум и твердость, зная, что он скорей даст вину прокиснуть, чем хоть на копейку сбавит однажды назначенную цену! За деловым разговором он частенько вынимал из узкого жилетного кармана свои серебряные часы с монограммой и глядел на них так, словно его время крайне ограничено, расписано по минутам. Это, представьте себе, действовало и на виноторговцев – и они невольно начинали спешить, невольно взглядывали на часы Петре; а те непрестанно тикали к выгоде своего хозяина, точно кружась на ладони, как насекомое с оторванными крыльями. Петре был уже мужчиной, главой семьи и хозяйства, ему люди почтительно кланялись, советовались с ним о делах; а когда он входил в лавку Гарегина, все молча расступались и следили за тем, что он выберет, чего и сколько купит. (Однажды он, лишь для того, чтобы стереть с ботинок налипшую уличную грязь, оторвал от рулона целый аршин ситца, из которого легко выкроилось бы платьице для пятилетней девочки и еще на косынку осталось бы; тут же, в лавке, он обтер ноги, поочередно ставя их на мешок с солью, а потом отшвырнул скомканный, грязный лоскут в сторону.) Георга же по-прежнему оставался мальчишкой; возвращаясь с виноградника, он был все так же перепачкан ежевикой и всегда приносил племянникам то маленького удода, то завернутого в платок, словно остаток обеда, ежика. Едва завидев его, мальчишки с криком кидались навстречу; обращаясь с ним так, как он и заслуживал, они, даже не дав ему сменить пропотевшую рубаху, валили его на землю, вскакивали на него, как на осла, и сами пачкались в его поте и грязи, а когда Агатия вторично мыла их в большом медном тазу, этот дурачок еще обижался! «В чем дело – чумной я, что ли, по-вашему?» – спрашивал он, вздернув плечи и глупо ухмыляясь. Для всех он был маленьким, быть взрослым у него как-то не получалось – годы шли, а он так и оставался щенком. Так что на мать Петре был обижен куда больше, чем на Георгу: тот уступал ему во всем, никогда не спорил и о своем старшинстве даже не заикался; а мать, сколько Петре себя помнил, всегда тащила его назад, чтоб вытолкнуть вперед Георгу, которого Петре должен был, как она ему постоянно жужжала, уважать не только как старшего брата, но и за его доброту, за то, что он не такой, как все… черт знает чего она еще не придумывала, чтоб угнетать Петре, и угнетать совершенно несправедливо – угнетать за то только, что в этом доме один он точно знал, кто его отец и мать! Как страдал Петре, как мучила его несправедливость матери! Сколько он вытерпел, сколько яду и желчи проглотил он из-за матери, в то время как его никто не осудил бы, откажись он от нее вообще – от такой матери, от такой женщины! Да ведь и матерью-то его она стала лишь по доброте отца… но вместо того, чтоб, оценив это, усовеститься, притихнуть, хоть притворно отказаться от своего темного прошлого, которое ее законный муж и сын ей, так уж и быть, забыли, простили, отпустили, она так тряслась над драгоценным отродьем этого прошлого, так обижалась, когда кто-то осмеливался подшутить над ним или поручить ему что-либо, словно Георга был царевичем, отданным ей на воспитание, а не ублюдком какого-то жалкого мужичонки! Да люби ты его на здоровье, сделай милость, но за что же другого-то ненавидеть? Чем другой-то перед тобой провинился, кроме того, что терпеливо ждал воли божьей и своего законного времени? Оно конечно – краденый плод слаще; но как ты можешь предпочитать его выращенному в собственном саду, если… нет, Петре и в мыслях никогда не скажет о матери того, что она заслуживает; но пусть и его не заставляют говорить вслух такое, чего она не заслуживает вовсе!
Жена и дети не только укрепили в Петре сознание своего первенства, старшинства, но и помогли ему забыть тревоги и страдания тех мучительных лет, когда он, проснувшись среди ночи, обнаруживал пустую постель матери. «Опять она там, с ним!» – как молотом било тогда в голову Петре. Теперь же, лежа рядом с заботливой и покорной женой, он не ощущал уже никакой ревности к обитателям хлева, там, в темноте, пропитанной запахом ослиной мочи, шепотом клявшимся друг другу в вечной любви. Кого Петре сейчас жалел, так это отца! Отца он почитал и обожествлял с первого же дня, когда его глаза открылись окончательно и он смог воспринять майора во всем блеске. Первым, что побудило его восхищаться и гордиться отцом, был мундир, украшенный эполетами и блестящими пуговицами, невольно располагавший к благоговению и почитанию, – и поздней, когда Петре уже подрос, чувства эти в нем ничуть не ослабли, а стали еще сильней. Ему было трудно понять лишь одно: как мог такой человек, каким представлялся ему отец, жениться на такой женщине, как мать, да еще с таким прошлым? Что у них было общего? Что общего могло быть у мужчины, повидавшего полмира, с выросшей в сиротстве женщиной, которая и с чужими, и со своими разговаривала одинаково застенчиво, не подымая глаз? У нее не было ни достоинства, ни гордости: родившись рабыней, она, вероятно, не посмела б отказать ни одному мужчине, вздумавшему порезвиться с ней где-нибудь в огороде! Объяснить странное это супружество одной добротой и благородством отца было трудно; наверняка была и какая-то другая причина – скорей всего, постыдная, ибо отец о ней никогда ничего не говорил, а сам Петре спросить его об этом не осмеливался. То, что отец не любит мать, ему было очевидно давно и несколько его успокаивало, ибо одно дело мать, другое – жена. Мать может быть и горбатой, а ты ее все-таки любишь; мать может быть деревенской сумасшедшей, бродить по улице в задранном платье, а ты ее все равно любишь – потому что ты вылез из ее утробы, потому что бог, поручив ей быть твоей матерью, еще до твоего рождения отнял у тебя возможность выбора. Поэтому-то и уродливой, и сумасшедшей матерью тебя никто не попрекнет, ибо, лишив тебя выбора, бог, само собой, запретил и другим осуждать тебя. Жена же дело другое – жену человек выбирает сам; в этом-то выборе и проявляется обычно его вкус и достоинство. Но даже человек самого высокого вкуса и достоинства может ошибиться – это уж вопрос везения (или, верней, невезения). Это-то и случилось с его отцом: ему просто не повезло! Да и он высказался однажды в том смысле, что Петре-де бог дал все, о чем он, Кайхосро, только мечтать мог. В глазах Петре отец был достоин гораздо большего, и его успокаивала лишь мысль, что причина несчастья отца не в дурном вкусе, а в невезении. «С тобой я сплю, как человек, испытывающий нужду и удовлетворяющий ее где попало, не заботясь о приличиях!» – сказал его отец матери давным-давно, когда Петре был еще совсем маленьким и ничего не понимал. Не понял он тогда и этих слов – но почему-то они запомнились ему навсегда и долго мучили его смутным ощущением какой-то мерзости, неслыханной гнусности и жестокости. Сказаны они были, конечно, не для того, чтоб их слышал Петре; но, видно, богу было угодно, чтоб он тоже услыхал их – тайно, по-воровски. Ибо когда он проснулся, бог подсказал ему не показывать этого, продолжать притворяться спящим, чтоб услыхать и увидать то, что слышать и видеть ему было еще рано, но что когда-нибудь должен был узнать и он. Когда же это случайно услышанное и увиденное постепенно превратилось в знание, Петре стало ясным и многое другое. В ту ночь, когда он проснулся, его родители тоже не спали – они почему-то лежали в одной постели, и сперва ему показалось, что они из-за чего-то повздорили, что отец хочет что-то отнять у матери, а та обеими руками за что-то ухватилась и не отдает. Они боролись молча, беззвучно, даже как будто сдерживая дыхание, – должно быть, чтоб не разбудить его. В этой борьбе и в самом деле было что-то постыдное, такое, что приходилось скрывать, – тревожное, беспокоящее, настораживающее! У Петре свело дыхание, его сердце бешено колотилось; то, что он стал невольным свидетелем этой странной близости родителей, показалось ему вдруг тяжким преступлением. Через некоторое время отец встал и, подняв стоявшую на полу лампу, вышел из комнаты, – но сначала он сказал матери эти слова, надолго лишившие Петре покоя своей таинственной грубостью, беспощадностью, мерзостью, как-то соответствующей странному поведению отца и матери в ту ночь. После этого случая родители стали для него загадкой. Поняв же наконец со временем смысл этих слов, он лишь пожалел отца, но от веры в его величие и исключительность не отказался. Веру эту внушал ему пропитанный запахом отца мундир, который Петре однажды, совсем еще малышом, тайком, с дрожью и сердечным замиранием не надел, а лишь на миг накинул себе на плечи, как бурку, – тяжелый и грубый, горячий и надежный, как мысль о собственном возмужании, отцовстве, главенстве в семье! Теперь все это, к счастью, ушло в прошлое – Петре возмужал, стал отцом, главой семьи; без его ведома и согласия никто в доме и чихнуть не мог, и птицы винограда клевать не смели! Такова была воля Кайхосро. «Ты у меня и старший, и младший…» – во всеуслышание объявил он на свадьбе Петре; и после этого Георга выбыл из игры окончательно. Впрочем, его-то никто ни о чем не спрашивал и раньше.
Новая хозяйка завела в доме новые порядки. Теперь по вечерам все собирались в комнате, освещенной большой, пузатой лампой из белого фарфора, и затаив дыхание слушали истории, которые дрожащим от волнения голосом читала Бабуца, держа в руках тяжелую книгу с истертой обложкой. Рассказы о чужих приключениях одинаково трогали и детей и взрослых. Читать они, правда, все умели и сами, но взять хоть одну книгу из библиотеки Бабуцы без ее разрешения никто никогда не посмел бы. Книги эти она берегла как зеницу ока, индюшиными перьями трижды в день осторожно смахивала пыль с Библии, «Витязя в тигровой шкуре», «Караманиани», Акафиста и «Книги для семьи» Барбары Джорджадзе и Скорей позволила бы детям играть своими украшениями, чем небрежно и без спросу полистать какую-либо из этих книг. К тому же сами дети, как, впрочем, и взрослые, охотней слушали, чем стали бы читать сами: читать они умели еще только по слогам, водя пальцем по строке, и, добравшись до конца фразы, уже забывали начало. Бабуца же читала спокойно, неторопливо, отчетливо и связно, без запинок, с какой-то особенной плавностью – так, словно в освещенной пузатой белой лампой комнате журчал ручеек, усеянный желтыми листьями лунного света. И взрослые и дети с напряженным вниманием вслушивались в журчание этого таинственного ручейка, мгновенно переносившего их из одной страны в другую, словно пущенные по воде бумажные кораблики, легкие, освобожденные от любого груза и забот! Ручеек этот заносил их в сказочные замки, в которых проживали герои и небывалые, писаные красавицы; незаметно, без того, чтоб и пальцем пошевелить, они становились очевидцами, даже участниками необыкновенных событий, необыкновенных удач или неудач героев книги. Но и в этот волнующий мир неожиданно врывались звуки огромных, как шкаф, часов, мгновенно возвращавшие всех назад, в комнату, и как бы напоминавшие им, что их участие в запечатленных в книге судьбах, в отличие от самих этих судеб, ограниченно, временно, преходяще…
– Такое бывает только в книгах! – говорил Кайхосро детям, жадно, всем существом, с горящими от волнения глазами слушавшим мать.
Рассерженная и удивленная этим безответственным, неуместным замечанием, Бабуца строго хмурила брови, как учительница, имеющая дело с непослушными учениками. А Петре восхищался не столько содержанием выслушанной истории, сколько умом и серьезностью жены.
Бом-ммм, бом-ммм, бом-ммм! – безжалостно, неумолимо били огромные, как шкаф, часы; и эти дребезжащие, повелительные, несколько даже тревожные звуки заставляли Бабуцу закрыть книгу, пусть даже на самом интересном месте, а детей отправляли спать, как бы они этому ни сопротивлялись. Мужчинам эти звуки напоминали о делах, предстоящих им завтра с утра, как бы надоедливы те ни были, а женщин заставляли еще раз проверить, не осталось ли хоть что-либо в доме не-пристроенным, не убранным на свое постоянное место, – и часы, довольные своей бдительностью и точностью, продолжали поспешно пересчитывать секунды, подобно забравшемуся в сокровищницу вору, который, зная, что каждый миг промедления может стать причиной его гибели, все-таки не в силах справиться со своим любопытством и, одурев при виде такого несметного, неисчислимого богатства, без конца считает чужие деньги и будет считать их, пока его не схватят. Дети видели в этом неподкупном и всемогущем ящике своего личного врага, мгновенно, как дедова свинья похлебку, проглатывающего время их игр и одновременно изо всех сил задерживающего наступление праздников! Они не понимали еще, что их сладкое, беззаботное детство (самим им казавшееся, однако, горьким и невыносимым) тоже связано с этими часами, что часы эти двумя своими стальными пальцами держат и их детство, словно пойманную бабочку, и оборвут ему крылья, как только захотят. Дети растят друг друга, выводят друг друга из детства, как взрослые с поля боя или из горящего дома; ибо человек не приспособлен ни к одному возрасту полностью, до конца, и каждая следующая ступень кажется ему желаннее и совершенней предыдущей – поэтому-то он так поспешно и беспощадно, каждый раз надеясь на лучшее, и переходит из одного возраста в другой, пока не достигает последней ступени, которая называется старостью и за которой ничего уж нет. Именно тогда обычно в его душе, в его сознании всплывает первая ступень его жизни и то стоящее на этой ступени головокружительно юное существо, которым он был когда-то; и, хотя схожи они сейчас друг с другом не больше, чем лягушка с головастиком или заплесневелая корка хлеба с пшеничным колосом, все-таки он знает, что тот, стоящий на первой ступени, и он, присевший сейчас на последнюю, – одно и то же существо, лишь разделенное надвое, натянутое между двумя крайними точками, как струна, которая вот-вот разорвется, и тогда все кончится; но умрет он не сразу, а по частям, дважды – сперва на первой ступени, потом на последней; сперва для себя самого, потом для мира. Сожалеют о детстве тогда лишь, когда его толком уж и не помнят, когда в постаревшей душе, как на дне вторично раскопанного погребения, поблескивают одни осколки этого нежного розового сосуда, по которым, как ни старайся, невозможно ни восстановить этот сосуд в первоначальном виде, ни даже определить его подлинное назначение…
К Кайхосро вернулись его старые сны – в них он опять был пятилетним мальчуганом и опять, задыхаясь, падал на злобно сверкавшую мостовую, чем-то неуловимо схожую, однако, и с оскаленными зубами борчалинца. Вскочив с мостовой с ободранными коленками, он опять бежал, и за ним опять гналась двухмесячная девочка с развевающимися, огромными, как бараньи рога, усами, стремившаяся непременно выяснить, кто он такой. «Я Ной, Ной, Ной!» – кричал он, обливаясь потом, откидывая одеяло и обеими руками хватаясь за ворот рубашки. Во сне же он бежал, – но узкие, извилистые улочки Тбилиси не кончались, и, когда ему казалось, что он из них наконец выбрался, ему опять преграждал путь двухэтажный дом с деревянным балконом и улица опять гнулась, как зацепившаяся за сучок пила, опять в последний миг неожиданно сгибала дом, как летучая мышь скрытую во тьме ветку, опять скользила, ползла, колыхалась среди черных от огня стен, перебегала по безлюдным, застывшим мостам, по маленьким, как лужицы после дождя, площадям… и все это длилось, длилось, словно он цеплялся за собственный хвост! «Спасите мальчика, спасите мальчика!» – кричали страшным женским голосом затемненные окна, запертые на замки ставни лавок, глухие, затерянные во тьме дворы, сумрачные своды, неожиданно обрывавшиеся лестницы, онемевшие, лишенные языков колокола – и Кайхосро просыпался и оцепенело, растерянно, бессмысленно улыбаясь, прислушивался к тишине спящего дома. Внуки напомнили ему самого свирепого, самого непобедимого и неподкупного врага – старость, смерть, естественный и неизбежный конец человеческой жизни. Уж этому-то врагу и он не мог отказать в тех трех-четырех литрах крови, для спасения которых жил! И однажды ночью, проснувшись после одного из таких снов, Кайхосро вдруг с одуряющим изумлением понял, что он, благополучно перенесший столько опасностей, счастливо избавившийся от стольких врагов, больше, чем их всех, вместе взятых, боится собственных внуков. Должно быть, он их все-таки любил, ибо открытие это его огорчило; но боялся он их больше, чем любил, – ежедневное, очевидное подрастание внуков было для него всего-навсего доказательством приближения собственной старости и смерти. Начиная с этой ночи трое детей превратились для него в три архангельские трубы, и, заслышав их веселый галдеж, он, сам не понимая почему, готов был без возражений исполнять любую их прихоть, какой бы бессмысленной и глупой она ни казалась другим. Теперь у Кайхосро была лишь одна мечта – нелепая, это он понимал и сам, но упрямая, – мечта о том, чтоб его внуки никогда не выросли. Не то чтоб они погибли – слишком он их боялся, чтобы подумать об этом даже про себя, – просто чтоб они навсегда остались детьми, чтоб они не жить перестали, а расти! «Не балуй их!» – говорил ему Петре; но что он в этом понимал? Какое ему могло быть до этого дело? Петре был только отцом, а Кайхосро дедом! Едва кто-нибудь при нем говорил детям, что они уже не маленькие, что надо вести себя повзрослей, он закатывал такой скандал, что по всей Уруки стекла тряслись…
– Успеют еще! Далась вам эта взрослость, будь она неладна! Дайте им побыть детьми! – неистовствовал Кайхосро.
Все способное вызвать у детей желание поскорей вырасти он считал своим врагом. Но, к сожалению (да это он чувствовал и сам), почти все, с чем дети соприкасались, осознанно или неосознанно, способствовало их взрослению; ибо и мир, в котором живут дети, целиком принадлежит взрослым и устроен по понятиям взрослых. Так что Кайхосро зря выбросил в яму уборной свое ружье и пистолет: на свете было много других ружей и пистолетов, и, раз уж это стало известно его внукам, выбить мысль о них из сумасбродных детских головок было не в его власти. Напрасной была и обида, нанесенная им невестке: и герои, и красавицы, жившие в ее книгах, были ведь некогда такими же худющими и курносыми, растрепанными и замурзанными, как те деревенские девчонки и мальчишки, с которыми его внуки возились с утра до вечера! Кайхосро был бессилен. Но, ясно чувствуя свое бессилие и мощь внуков, он с бессмысленным упрямством держался за свое – вместе с ними и сам начинал вдруг лепетать, как ребенок, вместе с ними капризничал за едой и прятался под стол, когда им пора было спать, вместе с ними заливался смехом, притворяясь, что тоже боится разъяренной, топающей ногами Агатии. «Вылезайте немедленно, пока я вас сама не вытащила!» – кричала она. И все-таки разлад между дедом и внуками был неминуем! Как и следовало ожидать, мальчишки первыми покинули его, отказались играть с ним, почувствовав, что им не по пути, что дед упрямо тянет их туда, откуда сами они изо всех сил вырываются.
– Розги им нужны, розги! – орал Кайхосро, разозленный предательской беспощадностью внуков. Но что могло заставить Нико и Александра оставаться под столом, когда на свете было столько чудес? Об их проделках говорила уже вся деревня!
Но Кайхосро все еще не сдавался. Теперь он заигрывал с Аннетой: та была меньше и слабей мальчишек, и если те на глазах становились сущими бандитами, то она, казалось, не росла вообще – возможно, оттого, что часто лежала в постели, без конца заражаясь всеми детскими болезнями, какие только существуют. Поэтому дом был почти постоянно наполнен слезами Бабуцы, ворчанием Агатии и запахами сотни всевозможных лекарств; а урукийцам казалось, что двуколка доктора Джандиери вообще не выезжает из-под лип за высокой оградой Макабели. На облучке двуколки восседали Нико и Александр, мчавшиеся сквозь воображаемый ветер и пыль в некую воображаемую страну. Лошадь спокойно и равномерно двигала челюстями, жуя ячмень и овес, вдоволь засыпанные в висевшую на ее шее торбу. Глаза лошади походили на шарики агатовых четок; блестящим с проседью хвостом она отгоняла мошкару и слепней, не обращая ни малейшего внимания на свист и причмокивания своих воображаемых возниц. А сидевшая в доме, у постели Аннеты, Бабуца всхлипывала и таяла как свеча.