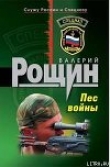Текст книги "И всякий, кто встретится со мной..."
Автор книги: Отар Чиладзе
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц)
С войском он прошел путь до Моздока; в Моздоке же его усыновил Каплан Макабели, майор артиллерии, который еще сильней разжег в нем желание стать солдатом. «Нам нужны солдаты… только солдаты!»– часто говорил ему Каплан Макабели; и до того, как мальчик достиг положенного возраста, старый офицер сам муштровал его, строго, беспощадно и с любовью.
Каплан Макабели, холостяком состарившийся в своей походной палатке, был уже в таком возрасте, что произвести на свет наследника и продолжателя рода мог бы лишь с помощью святого духа. Мальчика-сироту он воспринял как посланца провидения, как дар божий; вымыв и накормив его, майор дал ему не только место в своей выгоревшей на солнце, полинявшей от дождей палатке, но и свое родовое имя. Он был уверен, что делает доброе дело, ставя сироту на ноги, самому же себе обеспечивая человека, который помянет его после смерти. Этот запоздалый, на авось предпринятый поступок избавлял его хоть от страха исчезнуть совсем уж бесследно, а это, согласитесь, что-то да значит! Так артиллеристы палят во внезапно затихшее и опустевшее пространство – только для разрядки нервов, ибо сражение окончено и никаких причин стрелять уже нет…
Свое новое имя он воспринял в общем-то безболезненно: во-первых, он уж не очень твердо помнил (да и не старался помнить), как его зовут на самом деле; во-вторых, новое имя тоже было своеобразным укрытием, благодаря которому убийцам его семьи теперь было б еще трудней найти и опознать его, если предположить, конечно, что они не смирились с его исчезновением и до сих пор его разыскивают. Поверить в это было, правда, уже трудновато… но ведь и в излишней осторожности никакого вреда нет. Помимо других преимуществ, новое имя давало ему и княжеский титул – поэтому он, как подобает достойному наследнику, всегда внимательно и терпеливо слушал своего названого отца, рассказывавшего ему историю рода.
Дед Каплана, став благодаря своей необыкновенной силе и мужеству князем, сделал тем самым богатый, многочисленный род Макабели и знатным; но неожиданное возвышение и близость к престолу вскружили, видимо, голову доблестному вояке, и его дела постепенно пошли на убыль. Прежде всего он резко отстранил от себя все остальные ветви рода; «Хотите-де в князьях ходить – соизвольте пошевелить собственными руками; на чужой свадьбе все плясать мастера!» Род распался, сразу потерял выработанную веками привычку к единству и взаимопомощи. Исконные князья тоже не очень-то обрадовались мгновенному возвышению мясника (мясником деда Каплана прозвали во дворце за то, что в одной из битв он одного за другим зарубил двенадцать неприятелей). При его жизни семья кое-как еще держалась по-княжески, но уже его сын (отец Каплана) походил на князя не больше, чем сидящий на верблюде лицом к хвосту шах тбилисского карнавала на настоящего шаха. Отстаивать добытое отцом у него не было ни сил, ни, представьте себе, охоты. Появляться при дворе, стоять среди князей он почему-то считал худшим из наказаний, и, когда другие, настоящие, князья холеными пальцами в перстнях поглаживали свои скрученные, как бараньи рога, усы, он норовил спрятаться за их спинами, чтоб его никто не заметил, не вспомнил. Его единственному наследнику (Каплану) стало в конце концов тяжко глядеть на мучения отца, и он уехал в Россию, где, проявив себя как храбрый и толковый воин, дослужился до майорского чина: он верой и правдой служил своему новому государю, совершенно не интересовавшемуся тем, голубая или не голубая кровь течет в жилах его верного солдата. Позднее же, когда трон Багратидов уложили на телегу и увезли в Петербург, он даже обрадовался, ибо вместе с этим троном ушло и все то, из-за чего родина обливала его желчью и насмешками. Теперь он мог спокойно вернуться туда, где прежде по милости своего слабовольного, ставшего всеобщим посмешищем отца и показаться стеснялся. Но он умер, так и не попав на родину, – он был солдатом до мозга костей и должен был хлебать из своего солдатского котелка там, куда его бросали судьба и начальство; и повсюду, вытянувшись на своем сундуке в душной палатке (о женитьбе он никогда и не помышлял), он мечтал о возвращении на родину как о торжестве, искупающем все обиды предков, мечтал о доме, в котором прошло его детство и в котором сейчас, видимо, жили одни совы (и отец и мать его, конечно, давно уж умерли, а кроме них, он никого в этом доме не оставил). Потом судьба послала ему мальчика-сироту, которому он перед смертью завещал все, что у него было, – и родовое имя, и отцовский дом, и сундук с тремя тяжелыми замками. Мальчик-сирота превратился в Кайхосро Макабели, на которого судьба возложила странную, но для человека в его положении весьма завидную обязанность: стать хозяином чужого дома, восстановить чужой род.
При кончине своего приемного отца Кайхосро не присутствовал – их часть в это время находилась в долине, на маневрах. Письмо одного из друзей майора известило наследника о случившемся и пригласило его, как только сможет, прибыть за получением наследства. Он и не думал, что его так обрадует существование дома, никогда им не виденного, находившегося за тридевять земель и все-таки принадлежавшего ему, ожидавшего его одного, и никого другого! Кроме дома приемный отец, как уже говорилось, оставил ему окованный железными обручами, запиравшийся на три замка сундук, в котором без труда умещались все вещи, необходимые старому холостяку, а для нового своего владельца почти совсем бесполезные. (Кое-что, правда, еще можно было использовать, например, две пары совсем уж ветхого белья, которые человек бедный, однако, все равно никогда не выкинул бы.) Сундук и сам по себе был имуществом, вещью внушительного веса и прочности – вещью, на которую, в конце концов, молено было и присесть. Три замка висели на этом бог знает где только не побывавшем сундуке, словно трое щенят-сосунков; местами он был еще обит остатками тонкой, как бумага, жести со следами старинного орнамента. Более тщательный его осмотр дал не так уж много, но и этого оказалось достаточно, чтобы Кайхосро почувствовал себя уверенней, чтоб ему еще больше захотелось жить. Вместе с тем пожитки одинокого старика его несколько опечалили, настроили на задумчивый лад. Сидя на краю сундука с откинутой крышкой и держа на коленях какой-то заплесневелый подсвечник, он старался проникнуть в таинственную суть жизни своего усыновителя, до самого конца так и оставшегося ему чужим, – и, соответственно, в суть жизни вообще. Было очевидно, что покойный, царство ему небесное, хранил эти жалкие пожитки отнюдь не для него (откуда ему было знать, что у него все-таки появится наследник?). Но почему ж он тогда так дорожил ими? Почему он как зеницу ока берег эти заплесневелый подсвечник и ложки со стершимися монограммами, вместо того чтобы продать их, истратить все на самого себя, а не оставлять первому попавшемуся проходимцу (да пусть хоть и ему, Кайхосро)? Это-то и вызывало его недоумение. Как всякий истинный солдат, он любил немного пофилософствовать – и именно эта солдатская философия мешала ему понять поведение названого отца. Все эти вещи, запертые в сундуке вместе с пожелтевшим бельем, не стоили, конечно, и ломаного гроша; все это нелепое, бесполезное барахло было для его владельца лишь дополнительной обузой, и ни награды, ни благодарности за его сохранение майор ни от кого ждать не мог. Но возможно ведь, что в его глазах это бессмысленное бремя оправдывало собственное существование, облегчало одинокую, тоже, в сущности, сиротскую душу… а может, эти вещи были ему дороги как подтверждение когда-то пережитого счастья, обострявшее, или просто сохранявшее, удерживавшее какие-то невесомые, легко сдуваемые ветром воспоминания? (Так на военных советах их офицеры всегда клали на разостланную на столе карту какие-нибудь тяжелые предметы, чтоб ее не сдул, не унес ветер.) Во всяком случае, сидя на краю сундука с откинутой крышкой, Кайхосро уже понимал, что судьба покойного ему и непонятна и безразлична. Он был твердо убежден в том, что все люди друг другу чужие и будут чужими всегда; ибо никто не может передать другому, вместе с потемневшей от времени ложкой или подсвечником, хотя бы подобие того чувства, которое испытывал, держа в руках эти же предметы, он сам… На Ноев ковчег сундук этот не походил нисколько – вышедшая из него жизнь уже отжила свой век, была прожита другим, не сохранила ни сока, ни цвета, ни запаха. Но, выросший беспризорным, Кайхосро не гнушался ничем, что позволило бы ему прочнее, надежнее стоять на ногах; а в этом смысле сундук был далеко не бесполезен, ибо в его затхлой утробе нашлось и то, что не устаревает никогда, – не так много, разумеется, чтобы по горло обеспечить его на всю жизнь, но и не так мало, чтоб он плюнул на могилу старого служаки, жившего на одно жалованье. Впрочем, роясь в унаследованном сундуке, Кайхосро обнаружил и в самом себе нечто такое, что обрадовало его не меньше наследства: он обнаружил, что никогда ни от чего не откажется, будет согласен всегда и на все, если вечное согласие это поможет ему хоть что-нибудь в жизни урвать. Он по личному опыту знал, что человеческая жизнь – непрерывная цепь более или менее тяжких и опасных испытаний, а главный человеческий талант – умение выходить сухим из воды. Поэтому-то больше всего на свете он уважал двух человек – длинноусого ефрейтора и ветхозаветного Ноя. Слушая рассказы длинноусого ефрейтора о его боевых приключениях, Кайхосро волей-неволей должен был верить в чудеса: то, что рассказчик еще ходил живым, более того, поседев в боях, ни разу не был хоть легко ранен, и в самом деле относилось к разряду очевидных чудес! Услыхав же из уст полкового священника историю Ноя, он навсегда проникся безграничной завистью и почтением к библейскому праотцу.
Говорят, кто умеет обращаться с судьбой, к тому она хоть раз в год постучит в дверь. Но как ей попасть к человеку, не имеющему своего дома – а следовательно, и двери? Так что если он собирался жить всерьез, следовало прежде всего плюнуть на все пережитое до сих пор и начать новую жизнь, как Ной после потопа; следовало уйти отсюда и, подобно тому же Ною, разжечь очаг на новой земле – тем более что теперь-то такая возможность имелась… Поэтому колебался он недолго и вскоре с сундуком на плечах отправился в свой унаследованный дом. До сих пор дом этот существовал для него лишь на бумаге, и ничто, кроме этой бумаги, Кайхосро с ним не связывало – ни проведенное в нем детство, ни скончавшиеся в его стенах родители. И все же когда он впервые увидел этот дом таким, каким тот был в действительности – с провалившейся крышей, с сорванными рамами окон и дверей, наполовину утонувшим в море крапивы и папоротника, – сердце наследника часто забилось, и он почувствовал спокойствие ребенка, проснувшегося от страшного сна и увидавшего улыбающуюся мать. Почувствовал он это не оттого, что названый отец прожужжал ему все уши об этом доме, стараясь внушить наследнику любовь к своему родному гнезду, а оттого, что теперь дом этот принадлежал ему, Кайхосро!
Россказни старика были, конечно, нелепы: с домом, который он так расписывал своему питомцу, жалкие руины эти не имели ничего общего. Дом, высившийся в памяти майора, был совсем другим: его украшали мечта и печаль, придававшие каждой комнате свой особый, неповторимый цвет и запах. Здесь же господствовал один-единственный – тошнотворный запах старья и гнили. Кайхосро, даже если б ему и очень захотелось, не смог бы испытать того приятного ощущения, которое майор, по его словам, не раз испытывал в детстве, втайне от матери бегая босиком по прохладной, блестящей мощеной дорожке от дома к воротам. Теперь она раскрошилась, и превратившийся в красную пыль плитняк неприятно хрустел под ногами. Не удалось бы ему и полежать в «волшебной нише», в которой его названому отцу в детстве будто бы не раз являлись какие-то волшебные видения, – теперь от этой ниши осталась лишь сгнившая деревянная рама, сама же ниша наполовину заполнилась землей, и вместо мечтательного ребенка в ней угнездился какой-то зловонный кустик. Но почему-то развалины эти напомнили Кайхосро детство не приемного отца, а свое собственное, далекое, рано прерванное, кровавое! Точней, ему вспомнился тот, казалось, навек уж забытый тбилисский дом… Да, на месте развалин Макабели он вдруг ясно увидел двухэтажный дом с каменной лестницей, тяжелыми ставнями и красивым, как женская грудь, балконом; а на этом балконе – пятилетнего мальчика, просунувшего нос между балясинами и глядящего на коварно притаившийся город. Увидел он и белые, как туман, купола храмов, вырывающиеся из дремоты крыш рыжего, ящеричного цвета, и осла, подымающегося по крутой, узкой улочке и трясущего головой, как их полковой фельдшер, и петуха, взлетевшего на перила моста, и коварную песчано-желтую реку! Но все это было лишь мгновенным видением, мгновенным забытьем. Кайхосро нельзя было терять ни минуты – следовало сперва обосноваться, поселиться.
На развалинах дома Макабели кипела бурная жизнь. Обильно и беспрепятственно разросшийся, ставший пристанищем всевозможных гадов и насекомых бурьян ворвался и внутрь дома с прохудившейся крышей, пророс сквозь полусгнившие, размягченные дождями половицы, заполнил своим буйным, всепобеждающим семенем даже трещины стен; усеянный высохшими, невесомыми останками пауков и блестящими лохмотьями паутины, он беспрестанно размножался, как бы чувствуя, что сила его – лишь в изобилии. И вся-то эта жизнь была ненужной, бесполезной, даже опасной!.. В первый же день Кайхосро наткнулся на змею, – наклонившись, чтобы выдрать сорняк, он чуть было не схватил ее рукой. Змея лежала на солнцепеке и, наевшись дикого укропу, лила крупные слезы. Кайхосро не знал, как ее убить, он понятия не имел, где может находиться сердце в этом длинном, скользком теле, медленно, по частям исчезавшем в траве. Напуганный змеей, он сперва немного расчистил двор, с корнем выдирая бурьян и давя ногами насекомых, кучками высыпавших из ямок. Урукийцы изумленно разглядывали и висевший на дереве мундир, и оголенного по пояс мужчину, и походную палатку, которую Кайхосро раскинул на первом же расчищенном клочке земли, и лошадь с лоснящимся крупом, которую он выменял на заплесневелые подсвечник и ложки со стершейся монограммой у какого-то осетина в Дарьяльском ущелье. Губы у лошади были в зеленой пене; она без передышки двигала челюстями, как бы помогая хозяину уничтожать сорняки. Когда двор несколько расчистился, под старыми липами показался почти уже сровнявшийся с землей могильный холмик; и это ужаснуло Кайхосро еще больше, чем змея, заплакавшая при его появлении, как коварная, неверная жена.
– Эго сестра Каплана, – пояснил ему отец Зосиме. – До него еще была…
У отца Зосиме были живые светло-карие глаза, как бы освещенные изнутри; поэтому, должно быть, казалось, что он беспрестанно улыбается. Плечи его черной рясы были засыпаны перхотью.
– Да… затерялся Каплан! Родители похоронены во дворе церкви… она одна, бедняга, тут, как ангел очага, осталась… – продолжал он, увидев, что Кайхосро не отрываясь разглядывает могилу.
Слова отца Зосиме встревожили Кайхосро еще больше – теперь он впился глазами в лицо священника. Тот улыбнулся, словно поняв причину этой тревоги.
– Да сейчас уж, наверно, и костей не осталось, – заметил он. – Двухмесячной умерла… от макового отвара, говорят.

Сестру эту Каплан Макабели никогда не упоминал, о существовании ее Кайхосро слышал сейчас впервые, и появление еще одного мертвого родственника привело его в такую растерянность, что священник, казалось, на миг даже усомнился в его принадлежности к семье. Отец Зосиме улыбался, еле заметно шевеля влажными алыми губами, словно сосал корицу.
– Я вам так объясняю, точно вы посторонний… – сказал он.
Медлить было больше нельзя – надлежало немедленно сказать что-то такое, что и рассеяло бы сомнения священника, и в то же время объяснило бы секундное замешательство Кайхосро.
– Ей-богу, не знал! Никто никогда не говорил, что у меня была тетка, – чистосердечно сознался он.
– Упокой ее господь! – заключил отец Зосиме, причмокнув губами.
Дожди, а затем и снег еще больше выровняли оголенный могильный холмик – к весне от него не осталось и следа. Но после этого разговора к Кайхосро привязался дурацкий сон, постоянно снившийся ему до самой смерти и заставлявший его вскакивать с постели в холодном поту: ему снилась двухмесячная девочка с огромными, закрученными, как бараньи рога, усами. Вот и все… но появление этого усатого младенца он почему-то всегда ждал с неописуемым страхом и волнением. Обосноваться здесь, в усадьбе Макабели, означало вторгнуться во владения мертвого ангела; но сейчас отступать было уж поздно – именно тут, на земле, дарованной ему судьбой, он должен был пустить корни, если только мог и хотел сделать это вообще; именно здесь было его место, его поле боя, и сейчас от него одного зависело, кто кого одолеет – он жизнь или она его. Этого хотела судьба, та же судьба, которая, пятилетним ребенком, сорвала его, как листок с родного дерева, или верней, потащила за собой, как семя этого дерева, и кружила в бескрайних просторах до тех пор, пока не бросила в утучненную чужим прахом землю, как бы любопытствуя, что из этого получится, как он приспособится к новой почве, какой принесет плод; да и сможет ли прижиться и зацвести вообще. Ответить на все это могло только время – многое, однако, зависело и от него самого, от того, насколько сильны были его воля к жизни и приспособляемость. То, что не приспособляется, умирает – вот простое правило природы, для которой одно покорное детище, будь то муха или человек, милей тысячи строптивых. Так что Кайхосро оставалось одно: осматриваться и постепенно приноровляться к своей новой среде, к характеру окружающих людей, к расположению дворов, садов и виноградников, к дорогам и тропкам, к капризам реки и погоды. Но не оставались в долгу и сельчане: их тоже весьма интересовал этот чужой человек, появившийся на урукийском небе неожиданно, как новая звезда, и трудившийся с утра до вечера, словно простой крестьянин, в то время как его мундир с блестящими эполетами и пуговицами висел на ближайшем дереве, словно документ, удостоверяющий неотъемлемую исключительность прав своего владельца, – документ, который, подобно знаку зодиака, внешне прост и общепонятен, в действительности же таит в себе и некий другой, более сложный, более значительный и таинственный смысл…
Мундир своего названого отца он надел, лишь вступив на территорию Грузии, – до этого он нес его в сундуке на плечах. Позднее он с этим одеянием уже не расставался: в нем его повсюду встречали с должным почетом, уважением и даже, представьте себе, страхом! Кроме того, мундир ему удивительно шел (это он ясно видел по лицам прислужниц на почтовых станциях и постоялых дворах) – шел так, словно он и мундир были созданы друг для друга с самого начала. Урукийцы же, завидя его, и вовсе рты раскрыли (по-этому-то, видимо, они сразу, без малейших сомнений или колебаний и признали его законным наследником Макабели). В Уруки он появился осенью, перед началом сбора винограда, когда вся деревня поспешно мыла давильни и огромные зарытые в землю кувшины. Сентябрьское солнце, словно уже утоливший страсть любовник, вяло, равнодушно ласкало отяжелевшие виноградники. А Кайхосро не спеша, как бы прогуливаясь, шел по улице; за ним, фыркая и пританцовывая, следовала лошадь с перекинутой через голову уздой; и люди, высовываясь из кувшинов, складывали козырьком свои натруженные, раскрасневшиеся руки, чтобы не ослепнуть от сияния эполет. Но он беспечно шел по улице; и пропотевшая форменная фуражка покоилась на его согнутой в локте руке так, словно он собирался передать ее в дар деревне.
Тут его никто не знал, тут он мог ходить гордо, красуясь собой; да и повседневные мирные хлопоты понемногу заглушали в его душе тоску по казарме, убеждали его в том, что он поступил верно, что его место именно тут, в этой богом забытой глухомани, – потому что лишь тут у него было дело, потому что лишь тут он мог выполнить свой долг. О казарме он, конечно, еще жалел; но сейчас, трудясь на чужих развалинах, он еще ясней понимал, что высшее мужество – не в том, чтоб заигрывать со смертью, а в том, чтоб любой ценой, во что бы то ни стало спастись. Что б там ни говорили, у него были свои обязанности, и от них он не отступит ни на шаг. Ему предстояло закончить собой один род, как точка заканчивает длинную, бессмысленную фразу, и начать другой – да, не продолжить, а именно начать заново род, лишь замаскированный старым именем, в действительности же совершенно новый! Именно поэтому он обязан был вовремя восстановить дом и не дать своей с таким трудом спасенной крови зря состариться. Хозяин усадьбы, да еще в майорском мундире, он был бы желанным зятем в любой семье – и чем, спрашивается, здешние женщины хуже любых других? Конечно, он выбрал бы из них самую лучшую… но тут-то и случилось то, чего сам он от себя никогда не ожидал, что в корне изменило всю его жизнь и мечты. Судьба судьбой – но, видно, и сам он очень уж глуп был, если, запутавшись в шашнях бестолкового нехристя с потаскухой-вдовой, обалдев от запаха бараньего сала в монашеской келье, чуть не стал жертвой собственной бессмысленной, совершенно ничем не оправданной спешки. Но разве он мог предвидеть, что дело так осложнится, дойдет до крови? Он был уверен, что ему, столько в своей жизни потерявшему, от столько-го отказавшемуся, уж в таком-то маленьком удовольствии, если б он вздумал его себе позволить, никто отказать не посмеет. Да, не отказываться, а гордиться им обоим следовало – и ей, и ему тоже, – если б он вправду до них снизошел! Борчалинец мог даже хвастать тем, что затисканной им бабы не отверг и благородный майор, а ей полагалось вообще быть на седьмом небе от счастья, от такой неслыханной чести. Если допустить даже, что понять это оба они неспособны, то им все равно надлежало молча, без возражений исполнять его волю – ведь в той стране, откуда он приехал, одного слова майора было б достаточно, чтоб не какой-то там паршивый басурман, а целый полк в огонь бросился… На первых порах он даже мысленно улыбался, представляя себе этого дурака и нелепо расфранченную вдову, заждавшихся высокого гостя, почувствовавших себя чуть ли не на равных с ним, – он не понимал, что этим лишь растравляет себя, с каждым днем все больше запутываясь в собственной хитроумно сплетенной сети! А ведь плести эту сеть он начал лишь потому, что в его руках случайно оказался маленький обрывок нити – глупый Георга, сын вдовы. Они случайно встретились на улице, и Георга взглянул на него с таким восторгом, почтением, благоговением, что было бы просто глупо повернуться к нему спиной, оставить без внимания этот обнаженный пласт руды, пробивший землю, вышедший на поверхность, сам просивший лишь о том, чтоб его взяли и использовали. Кайхосро именно так и поступил – взял и использовал. Если же результаты не совпали с задуманным, виноват был лишь он сам – его поспешность, его нетерпение… он поленился очистить, переработать эту руду, взялся за дело наобум, не подумав о качестве, слишком уж торопясь поглядеть, что из этой руды выплавится вообще. Задумано же все было очень толково – для такого замысла, как выразился бы их длинноусый ефрейтор, и попотеть стоило б! И сперва-то ведь все пошло очень хорошо, и это еще больше убедило его в верности плана. Сблизиться с ребенком оказалось много проще, чем он ожидал… Впрочем, какой ребенок не спятит с ума от радости, если ему обещают подарить настоящее ружье, и какой ребенок не растрезвонит об этом каждому встречному? Но тогда ведь и борчалинец, если в тыкве у него было хоть что-то вроде мозгов, не мог не обратить внимания на эту детскую болтовню, не сообразить, почему чужой дядя обещает подарить отродью его шлюхи ружье, не догадаться, что это ружье он сам, майор, и есть! «Ха-ха-ха…» – смеялся Кайхосро, представляя себе борчалинца с выпученными от страха глазами, без конца пристающего к ребенку с одним и тем же: почему обещал, как обещал, не ослышался ли он – а может, майор шутил? Всего этого, конечно, не могла не услыхать и вдова – так что и ей было уж пора мыться, чиститься, переодеваться и робко, как невеста, опустив глазки, дожидаться майора… Ребенка он, разумеется, одурачил бы, но ведь не так чтоб уж очень. Дарить этому дурачку ружье он, естественно, не собирался – но только ведь ради него самого, только чтоб он сам себе по дурости вреда какого-нибудь не наделал! А подержать ружье в руках майор ему б иногда давал и потом – отчего ж нет! Главное же – ребенок ведь сам умолял избавить его от напасти, сам совал мать ему в руки, говоря: «Вот-де мама все плачет, все отца зовет; а когда ты ее приласкаешь, когда моим отцом станешь ты, она уж плакать не будет». То есть говорил-то он, конечно, не совсем так, но так оно получалось само собой. Ребенок глуп, ума с него спрашивать нечего, это истинная правда… но это вовсе не значит, что тебе, взрослому, надо смеяться ему в лицо, шлепать его по затылку: «Что это ты, мол, чушь несешь?» – вместо того чтоб выслушать, понять и постараться исполнить его просьбу! Того, что за помощью против волка он обращается к волку еще более крупному, ребенок, конечно, не понимал, а если б и понимал, то, конечно, предпочел бы более крупного! Да и не все ли ему было равно, в конце концов, с кем будет ложиться мать, если уж с кем-нибудь ложиться ей полагалось так или иначе? А это ей именно полагалось: на вдовье окно заглядываются все, на его свет, едва стемнеет, сбегается любая сволочь; ибо человек не настолько уж разумней насекомого, ему тоже кажется, что всякий свет зажигается, исключительно чтобы привлечь и ублажить его! «Ха-ха-ха… – смеялся про себя Кайхосро. – Чересчур уж я добр… ребенку ни в чем отказать не могу! Да если он даже маленького братца или сестренку попросит – тотчас мамку за руку, и бегом на рынок…» Да, тогда он смеялся, но потом ему было уж не до смеха! Стрелять он вовсе не собирался, пистолет взял с собой так, между прочим, просто прихватил его вместе со стеклом для лампы, чтобы чувствовать себя непринужденнее, свободней, тверже… не с борчалинцем, конечно, а с вдовой и сиротой, которым, кроме него, надеяться было не на кого. Вот ему и захотелось перед ними покуражиться! (Он воображал, что с борчалинцем уже покончено, что, наказав изменников, выместив на них всю свою злобу, тот не только на следующий вечер, но и вообще никогда уж в Уруки не вернется.) А стрелять ему доводилось и раньше – за двадцать пять лет он нанюхался пороху вдоволь, но тогда за каждый его выстрел отвечала вся армия, а теперь он был один, и отвечать предстояло ему одному. И все-таки неизбежное произошло– пролилась кровь (к счастью, чужая!); и пролить ее оказалось не так уж трудно: тут соблюдение правил никого не заботило, тут выстреливший первым всегда и побеждал, и был прав. Для него ж и правота и победа эти оказались сущим несчастьем – вражда борчалинца, да еще раненного твоей пулей, была хуже гнева божьего. Борчалинец умрет, но отомстит, умрет, но убьет своего врага; не доберется до живого – выроет из могилы мертвого, мертвого убьет вторично; сам не успеет – завещает сыну, внуку, правнуку… и тогда не один человек, а вся семья, род, племя двинутся в поход, чтоб наполнить свои медные кувшины и кастрюли тремя-четырьмя литрами твоей крови! Тут было другое небо, на нем мерцали другие звезды; тут обязательность существования бога означала и обязательность мщения, и бежать, прятаться от него было бессмысленно, ибо закон мщения с временем и пространством не считался – он существовал, действовал вне времени и пространства…
О вдове и ее ублюдке он и не помнил, пока не нажал на курок, – вспомнил он о них лишь тогда, когда раздался выстрел и между пальцами борчалинца засочилась кровь. Борчалинец не убирал рук с живота, словно поймал на нем какое-то скользкое, слизистое беспозвоночное и боялся, чтоб оно не ускользнуло. Вернуть в ствол вылетевшую из него пулю не смогла б и нечистая сила! Единственное, что могло хоть немного помочь ему в этом новом несчастье, это срочно свалить собственную глупость и слепоту на кого-нибудь другого – поэтому-то в момент выстрела он и вспомнил вдову и этого проклятого молокососа, прятавшихся за его спиной. Но страх и ненависть оглушили, сковали его, отняли у него язык; он ничего не слышал, ничего не чувствовал, кроме страха и ненависти, мучительных, не дававших покоя, словно накопившаяся за долгие годы грязь, которую хочется соскоблить кирпичом, песком, ногтями! Когда он пришел в себя, борчалинца во дворе уже не было, а болваны соседи единодушно восхваляли его за спасение вдовы и сироты. Сперва он рассвирепел и чуть было не замахнулся на них простыней – грязной простыней вдовы, случайно попавшейся ему под руку, когда он вдруг кинулся на помощь к раненому. Но он быстро сообразил, что положение заступника вдовы и сироты все же лучше, чем ничего, что теперь деревня хоть не бросит его в беде, не даст борчалинцу слопать его в одиночку; к тому же это украшало его неким благородным ореолом, в чем его раздраженное самолюбие нуждалось сейчас, как больной в лекарстве. Поэтому-то он в ту ночь не дал себе воли, отложил наказание своих губителей. В своем праве наказывать их он не сомневался: попал-то он в это нечеловеческое испытание только из-за них!
Он долго глядел в непроницаемую тьму, в которой исчез раненый борчалинец. Потом он в недоумении пожал плечами, не сразу сообразив, почему у него в руках кувшин и простыня. Потом кто-то вел его по пустой деревенской улице – под руку, как человека, идущего за гробом ближнего. А потом он сидел один на сундуке в своей палатке, нетерпеливо вслушиваясь в темноту, чтоб услыхать фырканье лошади. Он надеялся только на лошадь – дело оборачивалось так, что следовало немедленно бежать. Но он уже знал, что никуда не убежит.
В ту ночь он и пуговицы на воротнике не расстегнул, и на сундук не прилег, даже как будто и глаз не закрывал – и все-таки умудрился увидеть сон. Он задыхался– воротник мундира сжимал ему горло, словно раскаленный железный обруч. Не выпуская из руки пистолета, ставшего вдруг невероятно тяжким, громоздким, он никак не мог справиться с ним: дуло без конца поворачивалось вверх или вбок, как голова заупрямившегося перед кормушкой осла. «Стреляй скорей, людей стыдно!» – кричала ему вдова, бывшая в то же время и Георгой, и борчалинцем. Потом зашипел порох, повалил белый дым, и дуло пистолета выплюнуло пулю, словно вишневую косточку. «Я – гость!» – пробормотал Кайхосро, показывая свои пустые ладони (пистолет он успел незаметно выбросить себе под ноги). «Тебе надо было убить меня!» – засмеялся прямо ему в лицо борчалинец, бывший вместе с тем и вдовой и Георгой. «Вы что-то путаете… я не майор, я в Тбилиси родился!» – крикнул Кайхосро и побежал вниз по лестнице. Прямо перед ним шел какой-то мужчина, приземистый, с густыми, вьющимися черными волосами. Его голое тело было обернуто, как у банщика, простыней– довольно-таки грязной; короткие, с обваренными пятками ноги были в деревянных сандалиях – тоже как у банщика; сандалии гулко стучали по голому склону холма. «Кто ты такой?» – кричал ему Кайхосро; а мужчина хихикал, и его узкие женские плечи вздрагивали. «Я – Ной, дружок, Ной!» – говорил он в промежутках. Кайхосро успокаивался, словно узнав его, и шел дальше; но вскоре он вновь забывал, кто это, и все начиналось сначала – и тревога Кайхосро, и хихиканье тщедушного мужчины. Внезапно тот задрал простыню и тут же, прямо перед носом Кайхосро, присел на корточки. «Что ты нос воротишь?» – крикнул он снизу. У него были голые, без ресниц, беспокойные, как крылья бабочки, веки. «Брюхо бесстыже, как жизнь, – оно не терпит ни пустоты, ни полноты, его нужно наполнять и опорожнять, наполнять и опорожнять! Оружие выбросил?» – «Выбросил», – ответил Кайхосро. «А шлем?» – «Шлем тоже». – «Вложи в него камень – не то он покатится вниз, много лишнего шуму наделает…» Кайхосро нагнулся, чтобы поднять камень, – и вдруг ему в лицо ударил тбилисский зной. Взглянув вниз, он увидел город рыжего, ящеричного цвета, коварно притаившийся по обоим берегам реки. «Отвяжись!» – злобно крикнул он городу. «Не смотри – голова закружится, пропадешь… – предупредил его мужчина. Он уже встал и снова карабкался вверх; к подошве его сандалии прилип смятый, грязный листок. – Ты же спасся… чего тебе еще, что тебя мучит?» – сказал он Кайхосро. «Спассяиспассяиспас-ся…» – бессмысленно повторял Кайхосро. «Умереть легко, а спастись трудно… это не всякому дано!» – сказал мужчина. «Спассяиспассяиспассяиспасся…» – снова пробормотал Кайхосро (ему хотелось сказать что-то совсем другое, но он не знал, что именно). Мужчина молча шел наверх, и Кайхосро следовал за ним, не спрашивая, куда они идут. В темноте он наткнулся на лошадь. Лошадь вздрогнула – вероятно, спала; потом узнала хозяина и, фыркнув, обдала его запахом своей отрешенной, теплой, сильной жизни. Под открытым небом, с влажными от росы боками, она была в одно и то же время и прохладной, и горячей, и тревожащей, и успокаивающей. В темноте смутно вырисовывалось ее тело – просторное, прочное, непостижимое, как земля…