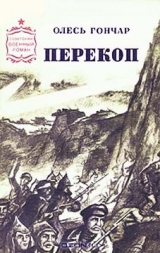
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
– Ох и свекровь же кому-то достанется, – одеваясь, лукаво стрельнула глазами Вутанька. – Живет где-то девушка и не знает, что ее тут ждет! – И, засмеявшись, выскочила из хаты. Через минуту она уже громыхала под окнами, навешивая обмерзшие камышовые маты, которые зимой служили им вместо ставен.
V
Когда Вутанька вернулась от соседей, Данько, уже вымытый, в чистой отцовской рубашке, сидел за столом, склонившись над письмом Леонида.
«Дорогая, горячо любимая жена и подруга моя, Вутанька! – ложились мелкими строчками непривычно откровенные, непривычно нежные в устах комиссара слова. – После того как мы в последний раз обнялись и поцеловались с тобой в конце села…» Это все к нему не относится. Ага, вот и о нем… «Данька оставили в Елисаветградском уезде, у него был тиф, а он долго не признавался. Вместе с другими отправлен в г. Кременчуг…» И дальше – что жалеют о нем в полку… Остальное – почти до самого конца – о сыне. Как растет, да часто ли вспоминает, и – береги, береги, береги…
Сложив письмо, Данько встал и, задумчиво прохаживаясь по комнате, словно ненароком заглянул на печь к Васильку. Мальчонка уже крепко спал, подложив кулачок под щеку, улыбаясь чему-то во сне. Юный Бронников. Где отец, а где сын. Интересно, что сейчас снится мальчику, каким своим немудреным радостям так мечтательно улыбается он? Смотрел, и так вдруг хорошо, светло стало у Данька на душе, будто улыбалось ему его собственное детство с вихром на темени, с холщовой лямочкой через плечо.
Рад был, что вырвался из лазарета. Видно, нет-таки в мире лучшего лекарства, чем материнская ласка, ничто на свете не может сравниться с этим родным теплом, покоем и домашним уютом, от которых он так отвык на бурлацких бездомных дорогах. После суровых лет батрачества и бесконечных боев все его тут как бы ласкало, все ему по-новому нравилось: и заботливая материнская воркотня, и веселая неугомонность Вутаньки, и висячий шкафчик с яркой посудой, и посыпанный свежей золотистой соломой земляной пол. Вот тут, смеясь, отец подбрасывал его под самый потолок… Дубовая матица прогнулась, потемнел от времени, но еще крепко держит всю кровлю на своем кряжистом хребте. Сколько он еще выдержит, сколько проживет?
Ужин был как в сочельник: Данька посадили на почетное место, под образами, мать с Вутанькой сели по бокам. И хотя небогато было на столе, но эта горячая картошка в кожуре и хрустящие, точно с гряды, огурчики из погреба, да и румяные, только что со сковородки гречневые блины с душистым подсолнечным маслом показались Даньку самой вкусной в мире едой.
– Как будто сразу здоровее стал, – признался он после ужина, даже не подозревая, как этим обрадовал мать.
Где же ему постелить?
Мать была за то, чтобы на печи, Вутанька – чтобы на лежанке, а сам Данько остановил свой выбор на широкой деревянной лавке, занимавшей весь угол под жердью для одежды, где когда-то спал отец.
Скоро и улеглись. Потушив каганец, долго еще разговаривали в темноте. Вутанька жадно расспрашивала, где он успел побывать за это время, а мать, узнав, что совсем недавно Данько принимал участие в освобождении Киева, и сама заговорила о Киеве, стала вспоминать, как еще девушкой ходила с односельчанами в Лавру на богомолье. Данько с детства знал этот похожий на сказку рассказ матери о том, как шли они много дней по пыльным дорогам с торбами за спиной и как однажды под вечер далеко впереди, словно в небесах, увидели наконец залитый солнцем златоверхий город на святых надднепровских холмах. При виде его все богомольцы упали на колени и, плача, молились на те горы, на те далекие золотые купола, горевшие в ярком свете заката. Давно это было. А теперь вот, совсем недавно, он – не на коленях, а верхом на коне! – влетел в этот город, саблей прокладывая путь среди золотых его куполов!
Это было уже в конце их многонедельного перехода из таврических степей на север, в район Житомира. Дождливой осенней ночью в пущах Полесья объединенная колонна южан наконец встретилась с регулярными советскими войсками – передовыми частями Двенадцатой армии. Невероятно тяжелый, с бесконечными боями поход остался позади. После такой дороги можно было ожидать и передышки, однако отдыхать не пришлось: Двенадцатая армия готовилась к наступлению на Киев, и Таврийский полк, как один из наиболее испытанных, в ту же ночь получил боевое задание.
Шли лесом, незнакомой дорогой, словно сквозь первобытные дебри, продираясь в сплошной темноте по заданному маршруту. Знали, что в эту же ночь где-то с другой стороны, из черниговских лесов, на Киев ведут наступление черниговские партизаны, славные богунцы.
Темно – ни зги не видно. С храпом проваливаются кони на укрывшейся под валежником мочажине, отовсюду тянет сыростью, терпким духом прелых листьев. А вверху, перекатываясь, как море осеннее, шумит и шумит лес вершинами дубов и сосен.
Хлюпает и хлюпает болото под ногами, бьют в лицо ветки, густой мрак леса окутывает бойцов со всех сторон – такого никто из выросших в степи чабанов-тавричан еще и в жизни не видел. Однако, несмотря на усталость, валившую с седла, на тьму, которая острыми ветками колола глаза, все были исполнены порыва и решимости во что бы то ни стало пробиться к Киеву, овладеть им навсегда.
– В Киев, а там хоть и под коня! – выразил тогда их общую мысль студент Алеша Мазур. Раненный в одном из последних боев, он едва держался в седле.
Сурово, по-осеннему, шумел над головой лес, и в его бескрайнем шуме степнякам слышался то шелест ковыля, то рокот волн у родных морских берегов, оставленных далеко на юге. Для Яресько лес не был диковинкой – все птицы его детства, казалось, дремали в этих чащах, а терпкий запах мокрых листьев, грибов, муравейников и этот суровый лесной шум над головой – то грозный и глухой, когда колышется дуб, то нежный и грустный, когда качают вершинами сосны, – как они тревожили душу после стольких лет разлуки, после того как за свистом степных буранов хлопец начал было уж забывать гомон полтавских рощ… Было в нем, в этом лесном осеннем шуме, что-то родное, что-то от голоса матери, до боли печальное и прекрасное. В ту ночь Данько много думал о матери и о том, как она ходила девушкой в Киев на горькое свое богомолье.
А утром полк вышел на открытую опушку и остановился, пораженный зрелищем невиданной красоты: далеко на горах перед ним распахнулся златоверхий Киев!
Из мглы небосвода, из глубины ненастного осеннего неба выплывали золотые маковки его соборов, сияли навстречу, как огромные, достижимые для человека солнца…
Смотрели на них бойцы-тавричане, смотрели изнуренные кони, смотрели и степные двужильные верблюды, которые дошли сюда из присивашских солончаков и теперь тянулись в сторону незнакомого златоверхого города своими добрыми азиатскими мордами.
Ветер шумел за окном, навевая воспоминания о недавних боях, о товарищах. Грусть все больше охватывала Данька. Сколько друзей растерял по пути: Яноша в колониях похоронил, Алешу-студента где-то в Киеве в госпитале оставил…
А Вутанька с лежанки уже рассказывала ему о чем-то совершенно другом, о здешнем:
– У нас, Данько, скучать не будешь! Как выздоровеешь, мы тебя в артисты запишем, на сцене будешь играть. – И в голосе ее слышалось радостное волнение.
Данько стал расспрашивать, что это за сцена, о которой раньше в Криничках и не слыхивали.
– Решили: жить так жить! – горячо говорила сестра. – В панской экономии Народный дом открыли, сцену построили, там и выступаем. Сначала было как-то чудно, а теперь всем полюбилось, даже и старики не чураются.
– Это какие же старики? – осуждающе отозвалась из темноты мать. – Не дед ли Винник?
– А хотя бы и дед Винник! Он у нас Гришку Распутина играет!
Данько и Вутанька засмеялись, а мать недовольным топом заметила:
– Сам он Распутин, твой дед… третий год не говеет. То все по свадьбам каблуки бил, а теперь уже на комедии перекинулся…
– Что же вы ставите? – спросил Данько.
– «Наталку-Полтавку» чаще всего, а недавно «Марата» ставили, – рассказывала сестра. – Эту пьесу мы красноармейцам показывали, они у нас тут с неделю стояли. Хорошая пьеса, только петь нечего – стрельба; мне там нужно было Грицька Титаря кинжалом закалывать. А на днях вот Нонна, поповна, новую пьесу из Полтавы привезла: «О чем шумел ковыль» называется…
– Не слышал такой…
– В субботу будем роли распределять… Я сама еще не знаю, о чем это и какая там роль мне достанется.
– Будет уже тебе, – остановила мать Вутаньку. – Даньку спать пора. И так заговорились.
Стало тихо. Некоторое время еще слышал Данько, как ветер тормошит за окном камышовые маты, поет в них заунывно, грустно, словно степные ковыли шелестят. И сразу же перед глазами Данька открылась, поплыла, волнуясь ковылями, залитая солнцем таврийская степь, и синеокая девушка, улыбаясь, приближалась к нему, брела по пояс в этих поющих, медленно переливающихся на солнце травах… Это уже был сон.
VI
– Выглянула бы, доченька, не топится ли там у кого-нибудь из соседей, – обратилась утром мать к Вутаньке, умывавшейся у порога. – За огоньком нужно сбегать…
– Как бы по так! – засмеялась Вутанька. – Разживешься у них огня. Они сами ждут, когда мы затопим! – И весело объяснила брату: – Спичек в селе нет, потому-то утром каждый и выжидает, у кого раньше над хатой дымок взовьется…
– Там у меня в кармане кресало должно быть, – вспомнил Данько. – Василько, а ну-ка поищи.
Василько был рад стараться. Нашлись в кармане и кресало, и кремень, и фитиль… Целое богатство! С радостным ожиданием смотрела вся семья на сухие, исхудалые Даньковы руки, готовившиеся добыть огонь при помощи этого нехитрого приспособления. Васильку впервые приходилось видеть вблизи такую штуку, и он дух затаил, неотрывно следя за малейшим движением дядиных рук… Неужели же из этого и в самом деле может быть огонь? А дяди, приладившись, ударил железкой по кремню раз. Ударил два. Подул легонько, потом посильнее, и… появился огонь!
Вскоре веселый дымок – первый на все село – заструился из трубы Яреськовой хаты. Рос, поднимался столбом все выше и выше в морозное утреннее небо.
И тут началось: скрип да скрип, хлоп да хлоп… Одна за другой вбегали с улицы шустрые, как синички, молоденькие соседки, которых Данько, может, и знал когда-то в детстве, но теперь они так повырастали, что и по узнать… В ожидании, пока Яресьчиха нагребала им в черепок вишнево-яркого жара, девчата молча стояли у порога и, сдерживая жгучее любопытство, украдкой поглядывали в сторону молодого Яресько. Суровый с виду, стриженый да худущий лежит, однако ж добыл им этот драгоценный огонь!
Брали свои черепки и, дуя на горящие угли, разбегались с ними по всем окрестным дворам. Данько после того только и знал что расспрашивал, чья да чья.
– Быстроглазая, шустрая – это Семенихина, – объясняла мать, – а та, что с маленьким черепком, – Илькова, а третья – даже и не с нашей улицы забежала, не знаю и чья.
– Прослышали уже, – улыбнувшись, лукаво подмигнула Вутанька брату, – зачуяли жениха. Держись!
И, накинув платок, весело подхватив на руку ведро, ушла хлопотать по хозяйству.
Однако вскоре она снова вбежала в дом, чем-то расстроенная, взволнованная.
– Мамо! Что это за мешки у нас в хлеву, мякиной засыпаны?
Мать словно и не расслышала: как возилась у шестка, так и продолжала возиться, еще глубже подавшись туда, в пылающую печь.
– Стала набивать мякину и вдруг наткнулась на что-то твердое, – взволнованно рассказывала Вутанька, обращаясь теперь больше к брату. – Разгребаю дальше, а там два большущих мешка с зерном.
Мать наконец выпрямилась, не спеша стала вытирать руки о фартук.
– Не дед ли мороз подкинул ночью? – улыбнулась как-то неловко. – Пронюхал, может, что у нас в бочке одни высевки остались, да и подбросил на кутью…
– Ой, что-то здесь не так! – внимательно всматриваясь в лицо матери, воскликнула Вутанька. – Не такой дед-мороз щедрый, чтобы пшеницей разбрасываться! Два таких лантуха, что и с места не сдвинешь!
– Ну чего ты раскричалась, дочка? «Лантухи, лантухи»… Ты же их туда не прятала? Разгребла, увидела, да и снова засыпала бы.
– Прятать? От кого? – вспыхнула Вустя. – От тех, что на фронте? Что на голодных пайках сидят?
– Тише, Вустя! Еще люди услышат…
– Пусть услышат! Пусть знают! В волость продотряд прибыл, за каждое зернышко людей трясут, а здесь… По правде скажите, мамо: откуда это?
– Не бойся, не краденое.
Вутанька с решительным видом шагнула к двери:
– Пойду в ревком! Может, зерну этому давно уже следует быть на станции, в вагонах!
– Погоди, – удержала ее встревоженная мать. – Кидаешься как оглашенная… Сядь.
Дочь отступила к лавке, села. Мать некоторое время стояла посреди хаты, сложив руки на груди, как для молитвы.
– Подумайте: весна придет, земля теперь своя, а чем сеять? Всего и зерна осталось, что узелок гречихи да проса в чулане… А кто даст? Кто займет? – Мать вздохнула. – Сознаюсь вам, дети: мой грех. Никого никогда не обманывала, а тут на старости лет… – Она закрыла лицо руками. – Кто его знает, как оно там дальше будет. Не ради себя… ради вас же, ради Василька грех на душу взяла!
И, перекрестившись на иконы, мать стала рассказывать.
Ночью вышла она с фонарем к корове и уже возвращалась в дом, как вдруг кто-то из-за угла – шмыг! – навстречу. Испугалась, думала, бандит какой-нибудь из леса. Ан нет: «Свои, свои! Не бойся, Мотря». И кто бы вы думали? Огиенко! Митрофан Огиенко! Так и так, говорит, как хочешь, а выручай. Едут из города разверстку выкачивать, хотят весь хлеб выгрести под метелку, так позволь хоть мешок какой-нибудь подбросить к тебе в мякину: ты – беднячка и у тебя искать не будут…
– Стала я отказываться, а он и слушать не хочет, откуда-то из-за хлева тащит с зятем мешки. «Вот, говорит, побереги это, пусть полежит. Придет время – не обижу, знаю, что теперь у тебя едоком больше в доме».
Слова эти, видимо, больно задели Данька, но он все же смолчал. Зато Вутанька была сама не своя от возмущения.
– Кровопийца! Паук! – вскочив с места, взволнованно выкрикивала она. – За нашей спиной укрыться хочет! Опять пособников ищет!
– Так-то оно так, детки, да год трудный…
– Никто не говорит, что легкий, – все больше распалялась Вутанька. – Нам трудно, а рабочим каково! Ленин на восьмушке живет!
Мать задумалась. Она уже и сама, видно, не знала, как ей избавиться от этих мешков.
– Знаете что? – сказала она, обрадовавшись пришедшей в голову мысли. – Побегу-ка я сейчас к нему. Скажу, пускай сегодня же назад забирает. Как стемнеет, так пускай приедет на санях и заберет.
– Чтобы в ямах погноил? – воскликнула Вутанька. – Нет уж, дудки! Раз уж я этот хлеб нашла, то я им и распоряжусь. Мой он теперь!
Мать остолбенела.
– Вустя!
– Да, да! – весело притопнула ногой Вутанька. – Я его, мироеда, научу, как прятать!
Данько не мог удержаться от смеха.
– А ну, научи, научи, – подзадоривал он сестру. – Помоги ему выполнить разверстку!
– Помогу!
По тому, как сверкнули глаза Вутаньки, по тому, как решительно она взялась за щеколду, мать поняла: теперь ее уже ничем не отговоришь, ничем не остановишь… Да и нужно ли останавливать?
VII
Впрягшись в санки, раскрасневшаяся от мороза и напряжения, Вустя тащит вверх по улице тяжеленные мешки. Сзади санки подталкивает соседская девочка, пожелавшая ей помочь, да свой доброволец Василько, еле видный из-за мешков, туго набитых пшеницей. Мальчик так пристал, что отвязаться от него никак было невозможно. А теперь приходится то и дело оглядываться, чтобы мешки случайно не свалились назад да не придавили сына… Честно трудится малыш – слышно, как он пыхтит за санями, спотыкаясь в скользких бабушкиных истоптанных башмаках.
Улочка, которая вела на выгон к общественному амбару, поднималась все круче, тащить было все тяжелее, но чем тяжелее было везти, тем легче, тем радостнее становилось на душе у Вутаньки. Хотелось, чтобы Леонид увидел ее в эту минуту оттуда, издалека. Увидел бы, как вместе с сыном она, не щадя сил, подымает на гору нелегкое свое хлебное счастье в надежде, что оно, быть может, разыщет где-то в походе его, комиссара, и впроголодь воюющих его бойцов… Все тело горит от напряжения, чуть не до земли припадает она в своей упряжке, а на сердце так хорошо-хорошо!
На горе возле настежь открытой двери склада дымят самокрутками мужики, и первый, кого заметил в толпе Вутанькин зоркий глаз, был как раз он, Митрофан Огиенко. Красный, как после чарки, в бекеше, отороченной серой смушкой, он рассказывал мужикам что-то веселое и сам громко хохотал… Увидев еще издали Вутаньку и ее поклажу, он вдруг осекся на полуслове и уже не мог оторвать глаз от огромных, сшитых из новой дерюги мешков, тяжело, как кабаны, развалившихся поперек саней.
– И откуда это у тебя, Вустя, такие запасы? – с удивлением спросил кто-то из мужиков, когда она приблизилась к амбару.
– Везет же молодке – среди зимы уродило!
– И прямо на голодную кутью!
– Или это, может, тот, которого из-под шапки не видать, за себя разверстку приволок?
Подтащив санки к двери, Вутанька не торопясь выпрямилась. Встретилась взглядом с Огиенко и заметила, как тревога заметалась у него в глазах.
– Чего же вы стоите, дядько Митрофан? – обратилась прямо к нему. – Подсобили бы, что ли!
– Да и то правда, – пошел к мешкам Цымбал с заткнутым за ухо огрызком карандаша. – Не женщине же этаких кабанов ворочать. А ну-ка, берись, Митрофан.
Огиенко уже овладел собой.
– А что же, мы не из ленивых, – сказал он и, поплевав на руки, крепко ухватился за мешок.
Долговязый Цымбал сначала едва не выпустил мешка из рук. Пятясь с мешком к помещению, он даже пошатнулся под непривычной тяжестью, а Огиенко только пыхтел и отдувался, по-медвежьи переступая за ним на склад. Никак, видимо, не ожидал он, что придется сегодня тащить через порог свои собственные мешки.
– На такой груз у меня и гирь не хватит, – весело засуетился Цымбал, когда оба мешка горой легли на весы.
Смешно было Вутаньке глядеть, как Цымбал бегал вокруг весов с засунутым за ухо карандашом, как, сгорбившись, чем-то пощелкивал там у себя на весах… Темный да малограмотный, а когда пришлось, так и землю помещичью саженью перемерил и уже у весов вот стоит, как журавль, разверстку принимает…
– Хороша пшеничка, хороша, – причмокивали дядьки, когда хлеб уже был взвешен и отставлен в сторону, к сусекам. – Зернышко к зернышку!
Взял горсть зерна и Огиенко:
– И-да… Как слеза. Будет кто-то кушать паляницы.
– Давайте его сюда, – распорядился Цымбал. – Берись, Митрофан, подсобляй уж до конца.
Полилась в сусеки пшеница – Цымбал старательно вытряхнул мешок, потом и второй…
– Э! Люди добрые! – вдруг удивленно воскликнул он. – Да тут, внутри, и пометка какая-то поставлена… Бублик какой-то, вроде как «о»! А ну-ка смотри, Митрофан, не твое ли это клеймо?
– Нет, не мое, – отвернулся Огиенко.
– А вы лучше, лучше присмотритесь, дядько Митрофан, – сказала Вутанька.
– Ей-же-ей, вроде твое, – не унимался Цымбал и стал выворачивать мешок клеймом кверху.
Огиенко в бешенстве вырвал мешок у него из рук.
– Забирайте, забирайте, дядько. – Вутанька, улыбнувшись, подбросила ему ногой и второй мешок. – Вам в хозяйстве сгодятся, а мне они ни к чему.
– Москва для вас гору фабричных пришлет, – огрызнулся Огиенко. – На всю жизнь хватит!
И, сунув кое-как скомканные мешки под мышку, он пулей вылетел со склада.
Мужики долго хохотали ему вслед. А Цымбал, развернув квитанционную книжку, степенно достал из-за уха свой карандаш.
– На кого же квитанцию выписывать? – обратился он к Вутаньке и, кивнув в сторону Василька, который пошмыгивал носом возле санок, полушутя добавил: – Не на него ли?
Вутанька некоторое время стояла в раздумье.
– А пожалуй, как раз на него, – серьезно произнесла она. – Так и пишите: «От Василька Красной Армии в дар».
VIII
Пока Вутанька сдавала хлеб, мать места себе не находила: никак не могла успокоиться, все ждала, с чем возвратится дочь со склада? Старухе почему-то казалось, что это не может кончиться добром. Она то и дело приникала к окну, выглядывала на улицу, не возвращаются ли, не катит ли внук с горы на санках, сидя на пустых Огиенковых мешках. Если бы все было в порядке, внук, казалось ей, должен бы уже быть здесь.
Так, расстроенная, в тревоге, и села она за прялку у окна. Только села, кто-то мелькнул мимо окон, затопал, оббивая снег у порога. По тому, как топочет, мать поняла – не свои. Не успела она отодвинуть прялку, дверь с силой дернули, и на пороге, взмахнув пустым рукавом, появился Федор Андрияка, председатель ревкома.
При виде его мать почувствовала, что ноги ее не держат и душа замирает от недобрых предчувствий: «За хлеб! На допрос!» И расстегнутый ворот, и заросшее черной густой щетиной лицо Андрияки с разорванной еще в мальчишеских драках губой – все это придавало ему сердитый, даже какой-то грозный вид. Яресьчиха всегда его немного побаивалась – побаивалась даже без всяких оснований, а сейчас…
– Не пугайтесь, тетка Мотря! – громыхнул Федор, и лицо его передернулось в каком-то подобии улыбки. Странная это была улыбка: разорванная губа выглядела так, будто он когда-то прикусил ее в порыве ярости и не отпускает. – Пусть уж меня хуторяне боятся, те, кто разверстку саботирует, а вам-то чего? Вы же свое сдали?
– Да сдали…
– Ну так чего же. Это я зашел вот нашего красного кавалериста проведать.
Матери все еще не верилось. Только тогда отлегло от сердца, когда Федор, с грохотом придвинув ногой табуретку к постели, присел возле Данька.
– Так что ж, к матери на побывку, значит? Товарищ сыпняк, говоришь, выбил из седла?
– Выбил, проклятый.
– Слыхал, слыхал… Наше дело, брат, такое: то на коне, то под конем… Я сам в прошлом году едва не отдал черту душу у Белой Церкви. Видишь вот это? – Он тряхнул пустым рукавом. – Директория оттяпала, оставила с одной пятерней на всю жизнь… Ну да ничего: хватит и пяти пальцев, чтоб брать их, ч-чертей, за жабры!
Буйное, неудержимое чертыханье было для него необходимой разрядкой. Всюду, где он появлялся, только и слышно было: «черти», «чертяки», «чертыбахнуть», «катитесь ко всем ч-чертям»…
– Федор, ты хоть бы в хате этого слова не поминал, – умоляюще промолвила мать из-за прялки.
– Виноват, не буду! – решительно пообещал Федор. – Черт с ними, со всеми чертями! – И, махнув рукой, уже снова обернулся к Яресько: – Ну, рассказывай, по каким краям тебя носило?
– Да по каким же… Почитай, всю Украину с боями прошел. Как сел в прошлом году в Чаплинке на отбитого у кадетов коня, так уж до самого Киева.
– Вот как! До Киева наша Таврия достигла? Ну, а как же Киев?
– Раза три мы его со стороны Брест-Литовского шоссе брали, и снова сдавать приходилось. Потому как не все и там, в Киеве, арсенальцы, – были и такие, что с балконов кипяток на головы лили. Ну, а когда уже подошли богунцы из черниговских лесов, тогда сразу всем нам веселее стало. Богунцы с той стороны, а мы с этой – и Киев наш.
Данько умолк, задумчиво глядя куда-то в потолок.
– А нам тут еще выкуривать да выкуривать, – промолвил Андрияка и, задержавшись взглядом на бледном, исхудалом лице Яресько, вдруг воскликнул с сожалением: – Эх, брат! Был бы ты на ногах, запрягли бы мы тебя с первого дня! Коммоловскую ячейку аккурат создаем в селе, пошел бы, заворачивал там среди них… А то у нас все молодежь необстрелянная – безусые мальцы да девчушки такие, что матери их дома еще и за косы таскают… А время сейчас сам знаешь какое… Без этого, – Федор тряхнул тяжелой кобурой, – за речку в лес не показывайся.
Задумавшись, он помолчал с минутку, затем наклонился над Даньком, таинственно понизив голос:
– Директива пришла, чтобы хуторян всех перешерстить, изъять огнестрельное и холодное оружие…
– Есть еще, значит?
– Есть, есть, – насупился Андрияка. – Да еще и будет.
В наступившей тишине стало слышно, как ровно, пчелой, гудит у окна прялка.
– А кто же у вас там в ячейке? – нарушил молчание Данько.
– Голытьба что ни на есть зеленая! Напористая, рьяная, но куда же с ней – пороху еще не нюхала. А нам, партийцам, ты сам понимаешь, какая сейчас помощь нужна: чтобы зубастые, чтобы как черти были, чтобы и кулацким сынкам при случае могли чертыбахнуть, как следует дать сдачи… Одним словом, тебе этого не миновать!
Мать, придержав рукой колесо прялки, с укоризной взглянула на Андрияку:
– Где только у тебя сердце, Федор? Хлопец еще – одни кости, хаты сам не перейдет, а ты уже заботы на его голову валишь.
– Забот, мамо, я не боюсь, – улыбнулся Данько, поправляя на себе одеяло. – Страшно вот так, бревном лежать…
С шумом, с грохотом открылась дверь – с улицы вбежал Василько, в дядиной папахе, веселый, раскрасневшийся.
– Ух и шапка же у тебя! – восторженным возгласом встретил малыша Андрияка. – Где же это ты раздобыл такую? Не в махновцы ли записался?
– Это дядина, это я, пока он лезит…
– Славная, славная шапка… Ну, рассказывай, брат, где ты бегал, что так запыхался?
Однако рассказать об этом Василько так и не успел. Только было рот открыл, чтобы начать, как бабуся со словами: «Хватит тебе болтать!» – притянула его к себе, стала вытирать ему нос да раздевать, потому что руки у него так закоченели, что и пуговицы расстегнуть сам не мог… Данько тем временем снова заговорил с Федором, спросил, не возвращаются ли с фронтов.
– Мало кто, – покачал своей чубатой головой Федор. – Разве что по чистой, либо по болезни какой… А чтоб густо, так Антанта, брат, еще не пускает. Не унимается, ч-чертова кукла! Вроде уже и поджала было хвост, будто и блокаду обещала снять, а на деле новые козни строит! На нью-йоркской, на лондонской, на парижской биржах словно с ума спятили буржуи: наше, законное, народное добро в распродажу, говорят, пустили! Барышничают! Шахты Донбасса, никопольские рудники, терещенковские сахарные заводы – все это у них, говорят, сейчас там товар, друг у друга оптом покупают и тут же на бирже перепродают…
Мать, которая будто и не прислушивалась к разговору, вдруг настороженно подняла голову:
– И землю?
– Ну да!
– Разве ж они там не знают, что землю у нас люди уже поделили?
– Не хотят они этого за нами признавать, тетка Мотря! Говорят, что не той саженью Цымбал панскую землю размерил.
Мать взволнованно отставила прялку:
– Да неужто ж они снова войной пойдут на нас?
– А то постесняются?! – воскликнул Андрияка. – Это вам, брат, класс на класс… Вырвали передышку, а там, смотри, снова…
Скрипнула дверь – вошла Вутанька.
– Вот он где! – сказала, увидев Андрияку. – А тебя там уже ищут повсюду.
– Кто?
– Продотряд из волости прибыл!
Андрияка поднялся, собираясь уходить.
– Ты уж тут, дружище, поскорее выздоравливай, – кивнул он Даньку. – Жизнь, брат, зовет таких, как ты… Фершала не надо?
– От фершалов сбежал, – улыбнулся парень.
– А то у нас есть тут, за рекой, один коновал. – Оторвав зубами кусок газеты, Федор стал ловко сворачивать одной рукой цигарку. – Днем старикам грыжи вправляет, а ночью тайком мыло варит, думает, что мы не знаем.
– Не мылится его мыло, – раздеваясь, шутя бросила Вутанька.
– А знаешь, почему не мылится? Потому что с петлюровским оно у него душком.
Федор подошел к печи:
– А ну-ка, Вутанька, огоньку.
Вутанька выгребла ему целую пригоршню яркого, как вишня, жару.
Федор прикурил и, не прощаясь, вышел из хаты.
– Напугал же он меня! – с облегчением вздохнула мать. – Чтоб ему пусто было!.. Думала уже, что пришел снимать с бабы допрос.
– Это вам наука, – сказала Вутанька весело и, пряча за икону квитанцию, добавила: – Если Огиенко спросит, чтоб знали, – вот где его хлеб!
IX
Вечером, только зажгли каганец, в дом к Яресько явился Нестор Цымбал, привел на постой бойца-продотрядника. Пока Цымбал оживленно объяснял хозяйкам, что ставит им постояльца непривередливого и к тому же «всего на одну ночь», сам постоялец, темнолицый, с подстриженными усами, пожилой уже человек, щурясь, горбился у порога, видно, неловко чувствуя себя оттого, что его непрошеным гостем навязывают в чужой дом незнакомым людям. Он и кепку не снимал, словно боялся, что его не примут здесь, не снимал и винтовки с плеча, – она висела на нем как-то нестрашно, по-домашнему: прикладом вверх, дулом вниз. Заметив смущение приезжего, Вутанька поспешила к нему.
– Раздевайтесь, пожалуйста! – зазвенел ее приветливый голосок. – Вешайте вот сюда!.. Места хватит.
– Мне подушек не нужно, – криво улыбнулся постоялец, словно оправдываясь. – Я на полу, на соломке.
Осторожно поставил винтовку в угол, повесил кепку на гвоздь и, размотав с шеи старенький шарф домашней вязки, устало присел на лавку. Был он уже седоват, с глубокими впадинами щек на изнуренном продолговатом лице, с большими мозолистыми руками, которые, видно, немало переделали в жизни всякой работы. Сидел, покашливал, молчал.
Цымбал тем временем, перекинувшись несколькими словами с Даньком, шагнул к двери, крепко прижимая локтем свою тощую папку, на которую Данько не мог смотреть без улыбки.
– Поужинал бы с вами, – признался Цымбал, почуяв доносившийся из печи вкусный запах, – но спешу! Дела! Всего доброго!
И, тряхнув на прощание своей козлиной бородкой, нырнул в темные сенцы.
Постоялец все еще сидел молча, отдыхал. Мать, не переставая хлопотать у печи, время от времени посматривала на него. Натрудился, видно, за день человек в поисках хлеба насущного, ломом разбивая мерзлую землю по хуторам у богатеев. Сыт ли, голоден ли – никто у него не спросит.
Ставя ужин на стол, мать приметила, как загорелись у постояльца глаза на горячую еду. А стала приглашать к столу – снова застеснялся, нахмурился, не хотел, должно быть, объедать бедняцкую семью.
– Мы уж там заморили червяка.
И где это они заморили? У тех скопидомов хуторских, у которых и снега зимой по допросишься?
– Садитесь, садитесь, – настойчиво стала приглашать и Вутанька. – Чем богаты, тем и рады!
Сели наконец. За ужином постоялец, разговорившись, неторопливо рассказывал о себе. Екатеринославский рабочий он, слесарь с завода Шодуара. Оставил дома большую семью, не знает, чем она там и живет, а сам второй месяц вот так по волостям мотается, продразверстку из саботажников вытягивает… Нелегко дается каждый пуд: на той неделе четверых из их отряда изрубили бандиты под Лещиновкой. Нелегко, но что ж поделаешь? Не ждать же, чтобы петлей голода республику задушили!
– Нет, этого не будет, – горячо вырвалось у Вутаньки, и, будто застыдившись своей горячности, она спросила екатеринославца: – Много ли сегодня вытрясли в Запселье?
– Да вытрясли кое-что, – ответил он спокойно. – У гражданина Махини – знаете такого? – под настилом в конюшне обнаружили яму не меньше чем в полвагона.
– О, так у вас нынче хороший улов! – обрадовалась Вутанька. – Сегодня полвагона да завтра.








