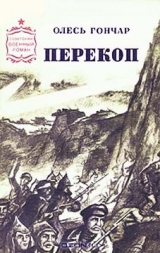
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
XXXII
Передовые части сибиряков и уральцев еще несколько дней назад, преследуя отступающего противника, с ходу атаковали перекопские позиции, пытаясь на плечах белых ворваться в Крым. Атакующие прорвались к самому Перекопскому валу. Было это ночью, местность вокруг незнакомая. Об укреплениях противника никто точного представления не имел, и все же войска с ходу пошли на штурм, настолько велик был их порыв, жажда не дать врагу укрепиться в Крыму на зиму. Однако в ту ночь ворваться на вал не удалось, и, когда стало ясно, что такими силами его не взять, войска, понеся большие потери, вынуждены были отойти назад, в степь.
Санитарные пункты и полевые штабы сбились на хуторе Преображенском, в нескольких верстах от Перекопа, неподалеку от залива. Когда-то здесь была одна из резиденций Фальцфейнов, стоял помещичий дом, окруженный серебристыми тополями; под тяжелыми черепичными крышами горбились саманные батрацкие казармы, за которыми до самого моря расстилались виноградники. Зная, что хутор переполнен красными, противник из Перекопского залива нещадно громил его огнем тяжелых морских орудий. С корнем выворачивало деревья, рушились дома, живьем погребая под развалинами раненых.
Без устали молотила вражеская артиллерия и по городку Перекоп, даром что от него осталась только куча развалин, белеющих в степи перед валом, словно гора перемытых дождями костей… Города нет, все разбито, разрушено дотла, однако артиллерия все бьет и бьет, зная, что и там, в развалинах, скрываются смельчаки разведчики. Из-за кое-где уцелевших печных труб, из-за каждого камня настороженно следит чей-то глаз, изучает мрачные, нависшие над степью вражеские укрепления.
С севера тем временем все прибывают новые красные части, идут пополнения, подтягивается артиллерия. Присивашские села в эти дни забиты войсками. Но не только села наводнили они, и в открытой степи перед Перекопом всюду войска, войска. Одни, оттянутые на север, за сферу артиллерийского огня противника, терпеливо учились брать с ходу проволочные заграждения, резать и рвать колючую проволоку, другие, прижатые огнем вражеской артиллерии к земле, лежали, раскиданные по всей степи, целыми днями не имея возможности поднять голову, и только тысячами зорких глаз следили за ощетинившейся бесчисленным количеством стволов твердыней, которую им предстояло взять.
В один из этих дней красное командование предложило белым войскам сдаться и выслать для переговоров парламентера. В ответ на это белые открыли с Перекопского вала еще более яростный огонь, однако в назначенный для переговоров час огонь вдруг прекратился и с вала в сопровождении солдата-трубача с белым флагом спустился, направляясь в степь, высланный для переговоров офицер.
Это был недавно восстановленный в своем прежнем чине капитан Дьяконов.
Навстречу ему из степи, тоже с трубачом, приближался красный парламентер.
Перед тем его вызвал начдив Блюхер. Объяснив суть дела, откровенно предупредил об опасности:
– Скорее всего, тебя убьют еще на полдороге. Пойдешь?
– Пойду!
Два человека сближаются среди перекопской степи на виду у двух притаившихся, готовых к поединку армий. Два смертельно враждующих стана тысячами глаз следят за каждым их шагом, пока они сходятся на поросшем бурьяном пригорке. Сошлись, остановились друг против друга, трубачи застыли поодаль.
Казалось, ждали от них чего-то сверхъестественного, превышающего человеческие силы. Может, и в самом деле договорятся? И не выть больше снарядам в воздухе, не стонать раненым, перестанет витать смерть над этим полем, не прольется больше человеческая кровь? Разве не может так быть? А вдруг эти трубачи с блестящими трубами только и ждут, чтоб обернуться и возвестить каждый своему войску радостную весть?
Хмурое поле под низко нависшими тучами. Дует резкий ветер Сиваша, развевая белый флаг парламентера.
О чем они там говорят? Говорят или, может быть, остановившись, только разглядывают друг друга?
А они и в самом деле стоят и смотрят. Направляясь сюда, Дьяконов ожидал увидеть грозного комиссара с железной «рабоче-крестьянской» челюстью, а к нему легким шагом приближался худощавый юноша в плохонькой шинельке, в суконном шлеме, с малиновой звездой во весь лоб. Кто он? Латыш или полтавец, вятский или, может, туляк? Что привело его сюда, какая сила втянула в могучий водоворот революции? И какие у него основания, какое право диктовать сейчас свою волю им, последним защитникам белого Арарата?
Плохо, почти по-летнему одетый, в разбитых на маршах ботинках, юноша старается не показать, что ему холодно, но тело, пронизанное стужей, само ежится, лицо до слез нахлестало ветром, и все же веселое оно какое-то, кажется улыбающимся, хотя он и не смеется. Что у него на уме? Что означает эта внутренняя скрытая улыбка – улыбка молодого сфинкса?
– Кто вы?
– Я красный парламентер. А вы?
– Я белый парламентер. Что вы имеете мне передать?
– Вот приказ: гарнизону Перекопа сдаться.
Дьяконов молча взял приказ.
– Мы не кровожадны, – продолжал юноша в шлеме. – Красноармеец страшен врагу в бою, а лежачего мы не бьем. Если сдадитесь, мы обещаем вам жизнь.
Он говорит твердо и убедительно. Лицо у него открытое, вызывающее доверие. Дьяконов ловит себя на том, что в нем растет какой-то почти болезненный интерес к своему противнику. Странная ситуация: за спиной у Дьяконова высятся лучшие в мире укрепления с тысячами бойниц, со стальными блиндажами, укрепления, воплотившие в себе мысль лучших военных инженеров Европы, воплотившие опыт грозного Вердена; а что за ним, какая сила поддерживает его, этого пронизанного ветром красного парламентера? Голая степь за его спиной, никаких укреплений, и все же не Дьяконов ему, а он Дьяконову диктует здесь волю свою и своих войск.
– Не секрет, крови пролито много, но это необходимость заставила нас, большевиков. А сейчас, если сложите оружие, всему шабаш!
Где оно, войско? Ни одной души не видно в степи, хотя из там, Дьяконов знает, без числа. Серые, незаметные, лежат на серых, открытых ураганному огню просторах перекопских равнин. Пока ничем не обнаруживают себя, не поднимают головы под нацеленными на них жерлами орудий и только тысячами глаз сторожко следят за этим своим посланцем, что открыто стоит перед валом, говорит от их имени.
– Революция великодушна. Не война наша цель, а мир, чтобы новую жизнь строить.
Уже можно бы идти, пакет уже был у Дьяконова в кармане, а он все не находил в себе силы двинуться с места. Ему хотелось еще что-нибудь услышать от этого юноши в шлеме и в обтрепанной шинели, хотелось спросить о чем-то очень важном, может быть, самом важном в жизни.
Однако не Дьяконов к нему, а он первый обратился к Дьяконову с этим самым важным:
– А вы? Знаете ли вы, за что воюете?
В страстной его интонации Дьяконов ясно услышал наивное желание тут же, на месте, распропагандировать его, белого парламентера, не ожидая капитуляции Перекопа.
– За что? Ради чьей выгоды кровь свою льете? – горячо повторил он.
– Я не уполномочен говорить с вами на эту тему.
Красный парламентер улыбнулся.
– А я с вами уполномочен говорить обо всем, что подскажет совесть моя большевистская. Побьем мы вас, что бы там ни было, – побьем, если не сдадитесь! – сказал он с гордым и радостным вызовом и, переведя взгляд на вал, прибавил: – На что надеетесь? На укрепления эти? Неприступные, думаете? Нет для нас неприступного!
– Почему? – невольно вырвалось у Дьяконова.
– Народ за нас. Сотня упадет, а поднимется тысяча!
Дьяконов смотрел на него и чувствовал, какая сила, какая необоримая вера бьет ключом в этом юноше. Безоружный, почти босой, полураздетый, один подставил грудь всем бойницам вала, а, видно, чувствует себя тверже тех, кто укрылся там, на валу.
– Можно убить меня, но идею нашу, то, что таится вот здесь, – он стукнул себя в грудь, – не убить никому!
Вечерело, еще ниже стало осеннее небо над Перекопом, когда парламентеры под пение труб двинулись каждый к своим. Шли и, подняв трубы, на ходу трубили трубачи, и напряженно прислушивались к этим звукам войска, пытаясь по тембру угадать, что они вещают. Может, и в самом деле перестанет литься кровь? Не нужны сразу станут ни колючая эта проволока, которой опутано все поле, ни заложенные в землю фугасы, ни жерла орудий, расставленных по всему валу батарей.
Все отдаляются друг от друга парламентеры, все отдаляются, тонут в вечерней мгле трубачи. Уже почти не видно их в ранних осенних сумерках, и звуки труб едва слышны над огромным перекопским полем, где сквозь завывание ветра уже и не разберешь: то ли все еще трубят, расходясь в разные стороны, трубачи, возвещая каждый своему войску свою суровую и тревожную правду, то ли трубит и свищет пронзительный ветер, гоня по степи перекати-поле куда-то в темные бездны Сиваша.
А когда совсем стемнело, ударили огнем батареи с Турецкого вала и мощные прожекторы, рассекая простор, метнули из-под туч свои голубые мечи куда-то в глубину притихшей, заполненной войсками степи.
XXXIII
Седьмого ноября, в третью годовщину Октябрьской революции, во всех присивашских селах, запруженных войсками, и в разбросанных по открытой степи красноармейских частях проходили летучие митинги. Выступающие давали клятву ознаменовать славную годовщину новой победой, водрузить над Крымом Красное знамя. Повсюду в войсках царил такой подъем, так хотелось поскорее покончить с войной одним ударом, что командирам стоило усилий сдерживать бойцов от преждевременного выступления, от немедленной атаки Перекопа.
И хотя не был еще оглашен боевой приказ, каждому бойцу ясна была стратегия и направление основных ударов – одни штурмуют твердыню в лоб, другие бредут в обход через Сиваш. Третьего пути нет.
– Мы это Гнилое море своими телами устелим, а Крым будет наш, – грозя кулаком в сторону Сиваша, возбужденно кричал на митинге в Строгановке молодой боец с забинтованной рукой; он, как и многие другие раненые, отказался идти в лазарет.
После митинга до самого вечера в селе играли гармони, звучали песни, бурлило народное гулянье.
Оленчука с Фрунзе видели в этот день над Сивашом. Сперва стояли на холме у пологой впадины – спуска к Сивашу, а потом подкатила к ним тачанка, они оба уселись и поехали вдоль Сиваша в направлении Владимировки.
О чем мог идти у них разговор, какие были меж ними тайны – между простым таврийским чабаном и известным всей стране полководцем красных войск? Может быть, Оленчук делился со своим собеседником мыслями, рассказывал о своей жизни, убогой радостями, богатой горем, трудной трудовой жизни простого человека. Может быть, наоборот, Фрунзе рассказывал ему, Оленчуку, о себе, о юности, прошедшей на баррикадах да в царских тюрьмах, о бессонных ночах в Николаевском каторжном централе, о ссылке и побеге потом через дремучую тайгу.
Фрунзе был одним из тех новых народных полководцев, выдвинутых революцией, которые, оказавшись на высших постах, всегда помнили, что каждый из них прежде всего коммунист, революционер. Свою военную работу Фрунзе не представлял себе без теснейшего контакта с трудовым населением тех мест, где приходилось действовать его войскам, в трудные минуты он искал поддержки именно здесь, в самой гуще народа. Так было на Восточном, когда в критический момент все трудовое население окрестных губерний было поднято на защиту Волги. Так было в Туркестане. Так и здесь. Именно эта черта, свойственная не столько полководцам, сколько революционерам, и свела его в присивашском селе с Оленчуком.
Едут они в тачанке вдоль осеннего Сиваша и, не думая о разнице в званиях и чинах, об условном расстоянии, которое, казалось бы, должно было отделять крестьянина от полководца, чувствуют себя просто – два равных человека, и серьезная, вдумчивая идет меж ними беседа.
Рассказывал Оленчук, а Фрунзе больше слушал, лишь изредка прерывая вопросом то о том, то о другом неторопливую Оленчукову исповедь.
– С детства мы, бывало, растем, как трава, мрет нас половина, а когда подымемся, царь с радостью забривает нас в солдаты, и мы становимся тогда пластунами, гусарами, артиллеристами, кавалеристами… Нам не жалеют «Георгиев», нам не жалеют похвал, но самого дорогого – воли, свободы жалеют: для ярма наши шеи, говорят, больно подходящие… Так, бывало, задергают, так взнуздают, что уже и пашут на тебе, а ты только сопишь, словно и не человек ты. А потом разогнешься, оглянешься – да нет, человек все-таки!
А вышли мы, строгановские, из казаков Сечи Запорожской. Как раздавала земли Катерина, нам Гнилое это море отдала, и мы назвали его Сивашами, потому все оно от соли сивое, когда ветер из него воду сгонит. Вот тут и живем. Хату мою вы видели – из лебеды да глины, ни дать ни взять чабанский курень на берегу Сиваша. Так и живем из рода в род здесь, на юру, над Гнилым морем. Ветром одеваемся, небом укрываемся…
Как песня, как дума тоскливая, течет рассказ, а Фрунзе слушает, и уже не полководец армий он в эти минуты, а рядовой боец великой ленинской партии, революционер, что жизнь посвятил борьбе за счастье народное. Тюрьмы, ссылки, каторжные централы – все ради этого. Вспомнил последнюю свою встречу с Ильичем в Кремле. Столкнулись на лестнице, Ильич как раз куда-то спешил. «Значит, едете, молодой комфронта? Счастливо! Счастливо!» – и крепко пожал руку на прощание. Уже спускаясь по лестнице, еще раз обернулся, прищурился: «Советуйтесь с народом! Прошу вас, советуйтесь как можно чаще…»
Глубоко запали в душу эти слова, запечатлелись в ней, как памятка: советуйтесь с народом.
– А что у нас была за жизнь, товарищ Фрунзе… Повезешь, бывало, соль в Чаплинку или в Каховку, продашь, напьешься – набьешь кому-нибудь морду или тебе набьют… Только всего и было нашей радости. И овец пас по имениям, и колодцы пробивал, и соль собирал. Из лета в лето ноги в язвах: бродишь босой по соленым лиманам…
– Соляные промыслы были здесь, что ли?
– Главные промыслы это там, дальше, их крымские купцы арендовали. А мы здесь, у себя, больше ночами да тайком, потому и за соль стражники ловили… Каторжный промысел. В жару рапа, как в чане, кипит. Ноги тебе разъест, руки разъест, а ты все бродишь, лазишь по кипящим лиманам, потому как это твой хлеб.
Льется и льется печальная дума Оленчукова, и в ответ ей отзывается в душе у Фрунзе все пережитое в тюрьмах, выношенное на этапах, передуманное в ссылке. Никогда не бывал в этих краях, не видел, как жили здесь, собирая соль, эти люди – изгнанники на родной земле, но, кажется, и не зная их, не раз уже думал о них, о горькой их доле…
«Советуйтесь, чаще советуйтесь с народом…»
Уже здесь, на Южном, получил от Ленина телеграмму: «Помните, что надо во что бы то ни стало на плечах противника войти в Крым. Готовьтесь обстоятельнее, проверьте – изучены ли все переходы вброд для взятия Крыма». Ленин, вождь мирового пролетариата, среди бесчисленных важнейших дел находит время подумать о том, изучены ли броды через Сиваш… Одной красноармейской храбрости, готовности идти через топи и болота Сиваша здесь недостаточно. Здесь надо поставить на службу революции всю силу народной мудрости, весь житейский опыт таких вот, как он. Фрунзе взглянул на Оленчука.
– А во Владимировке, в других селах, как вы думаете, удастся найти нам проводников?
– Насчет этого не сомневайтесь, Михаил Васильевич. Для Красной Армии проводники везде у нас найдутся, от Чонгара и до Перекопа. Это кабы для белых довелось, так для них у нас – нету. Прошлый год, еще как только начали французы первые укрепления возводить на перешейке, интересовались ихние спецы Сивашами тоже. Расспрашивали мужиков: не замерзает ли, мол, зимой да есть ли надежные броды, по которым можно было бы войскам пройти… Так толком ни до чего и не допытались.
– Не выдали, значит, тайну? – улыбнулся Фрунзе.
– Для сынков своих, для своего, для народного войска люди тайну берегли.
– Многие, выходит, знают?
– Старые люди рассказывают, что броды эти сивашские еще запорожцам известны были. От них, должно, и нам в наследство перешло. Из колена в колено передавалось, пока не дошло до сего дня, чтобы сынам нашим, чтоб войску народному послужить… Так что в проводниках, Михаил Васильевич, недостатка не будет.
– Но мы в проводники не каждого возьмем. Тут нам нужны люди особо надежные. – И, близко наклонившись к Оленчуку, Фрунзе спросил: – Знаете, кого поведете?
Оленчук пожал плечами:
– Бойцов, известно.
– Не просто бойцов. Доверяем вам самое дорогое, что у нас есть, – цвет Красной Армии. Лучших из лучших поведете, штурмовую колонну коммунистов.
– Что ж, товарищ Фрунзе, – сказал после паузы Оленчук, – что вам дорого, то и нам дорого. Как и вы, мы тоже твердо за Ленина стоим. Впервой, можно сказать, родную власть узнали и «владеть землей имеем право», как это в «Интернационале» поется.
Все дальше и дальше катится степью вдоль Сиваша тачанка. Вода спала, и Гнилое море оголило дно, сереет, покрытое соляным налетом, под которым застыла вязкая крутая топь. Слушая Оленчука, Фрунзе в то же время не отрывает взгляда от просторов Гнилого моря, в которых чудится ему что-то тревожное. Бескрайнее поле неразгаданных загадок и нераскрытых тайн, до самого горизонта раскинулось оно. По зыбкому, гнилому дну этого моря должны пройти его дивизии на ту сторону, а что там? В живом воображении Фрунзе уже встают берега мертвого полуострова, опутанные проволокой, все лето укреплявшиеся противником; подымаются высокие земляные брустверы, и, повернув жерла, целятся со всех этих далеких крымских холмов и круч навстречу его штурмовикам мощные батареи…
XXXIV
К вечеру Оленчук вернулся домой. Вошел в хату и, глядя на жену, первым делом спросил:
– Где дети?
Жена рылась в сундуке. Обернулась удивленная, насторожилась:
– А что?
– Да так… Ничего.
По голосу его, глуховатому, суровому, жена сразу догадалась: что-то случилось. Что-то важное на сердце принес. Допытываться, однако, не стала.
– Побежали к соседям на гармошку, – ответила и, оставив открытый сундук, стала собирать ужин.
Иван, скинув кожушок, опустился на лавку.
– А постояльцы где?
– Тоже там… Веселятся, аж хата ходуном ходит.
Подав ужин, жена снова занялась сундуком.
– Будет и у нас лазарет, Иван.
– Лазарет? – Спрашивая, он, видимо, думал о чем-то своем. – Какой лазарет?
– Прибегал Вдовченко из ревкома, сказал, чтоб готовили хату… Так вот я на холст гляжу. Как думаешь, Иван, сгодится на бинты?
Стоя у сундука, жена перекинула через плечо сувой домотканого небеленого холста.
– Собиралась детям сорочки к пасхе пошить, да когда еще та пасха? А их же надо будет чем-то перевязывать. Правда, толстое, грубое, да зато чистое…
В суровой задумчивости смотрел Оленчук на холст в руках жены, с которой столько лет делил радость и горе. Не знаешь еще ты, Харитина, кого будешь перевязывать… Может, обовьешь чистым полотном и самого хозяина, пробитого пулями, изрешеченного картечью… А может, и вовсе останешься с детьми на старости лет вдовою…
– Ты что ж молчишь, Иван? – подошла к нему жена. – Вчера молчал и сегодня сидишь, как туча! Чего они хотят от тебя там, в штабе? Отчего ты такой?
Иван точно пробудился от сна, улыбнулся каким-то своим мыслям.
– Не-ет, не знает еще фон барон Оленчука, – заговорил как бы сам с собой. – Думает, верно, что Оленчукова спина – это ему доска грифельная… чтоб по ней вечно шомполами писать… А может, хватит? – И прибавил, бодро потирая руки: – Давай-ка ужинать, Харитина…
Он и не заметил, что кулеш давно уже стынет перед ним на столе.
Мигал каганец. Стекла дребезжали под ветром. Тоскливо пела в трубе осень.
Только взялся за ложку, как с грохотом отворилась дверь, и веселой толпой вместе с постояльцами ввалилась в хату детвора своя и соседская.
– Тату, а мы стих знаем! – подлетел к столу Мишко, средненький:
Ми стали волі на сторожі,
Ii не зрадимо ніде!
А Кирилко, младший, вынырнув из толпы красноармейцев, живо добавил:
Тремтіть, недобитки ворожі,
Червона Армія іде!
Смеялись постояльцы, смеялась и мать у печи, переводя взгляд с одного звонкоголосого вояки на другого: они так и летали по хате в своих крылатых лохмотьях.
Не успел Оленчук и несколькими словами перекинуться с постояльцами, как в окно кто-то громко, настойчиво постучал.
– Кто там? В хату заходи!
Вбежал штабной посыльный, бойкий парнишка с карабином на плече.
– Пошли, батя! Ждут вас.
Все, примолкнув, недоуменно и уважительно следили за хозяином. Не спеша поднявшись, Оленчук надел кожушок, натянул шапку, взял в углу посох.
Дети, почуяв что-то, облепили его:
– Тату, куда вы?
Он положил ладонь на голову младшему.
– Не закудакивайте.
Уже с порога обернулся еще раз, встретился взглядом с женой. Она, все поняв, молча перекрестила его на дорогу.
У Сиваша уже стояла штурмовая колонна. Шелестело в темноте развернутое знамя. Вверху над головами бойцов темнели длинные, с пучками камыша на концах, еще днем заготовленные вехи.
Было около десяти вечера. Сиваш потонул в густом холодном тумане. Секла лицо, била в глаза острая, как осколки стекла, ледяная крупа. Кое-где в сплошной стене штурмовиков – конца ей не видно – тлели огоньки самокруток, время от времени освещая строгое худое лицо, поднятый воротник, натянутый на уши шлем.
– Товарищ комиссар! – звонко доложил посыльный. – Проводник прибыл.
– Здравствуйте, товарищ Оленчук… Вот мы и опять встретились. Не узнаете?
– А вы кто?
– Я – Бронников Леонид, старший колонны. Вы готовы?
– Готов.
Комиссар повернулся к бойцам.
– Бросайте курить, товарищи. Передайте по колонне: двигаться будем без огня, без шума. Проверить все на себе. Поправить ножницы, гранаты, чтоб ничто не стукнуло, но брякнуло… – И, обращаясь к Оленчуку, скомандовал: – Проводник, вперед!
Оленчук двинулся вперед. Слышал, как где-то совсем над его головой хлопает по ветру знамя. Слышал, как вдруг глухо и мощно, точно из-под земли, возник, нарастая, знакомый торжественный мотив…
Это есть наш последний
И решительный бо-ой…
Под это пение колонна стала спускаться с берега на дно Сиваша.
XXXV
Сколько раз доводилось Леониду Бронникову слышать «Интернационал», но сейчас, когда его, отправляясь на Сиваш, запела в темноте хриплыми, простуженными голосами штурмовая колонна коммунистов, пролетарский гимн прозвучал для Леонида как-то особенно проникновенно и взволновал его, как никогда.
С ним, с «Интернационалом», с самых юных лет связал Леонид неспокойную свою судьбу. От подпольной матросской группы на корабле с ночными тайными беседами в кубрике; от дружбы с хорлянскими портовиками, которые спасли его от неминуемой каторги, отправив своего юного друга в далекое плавание, откуда он, очаковский паренек, беглый военный матрос Леонид Бойко, вернулся уже профессиональным революционером Леонидом Бронниковым; через скитания кочегаром на иностранных лайбах; через водяные стачки в фальцфейновских степях; через революцию и фронты – до этого последнего решительного штурма. Нет, если бы ему пришлось начинать жизнь сначала, он снова начал бы ее так же!
Отзвучала песня, и слышно уже, как шуршат на ходу шинели, как глухо шаркают в темноте тысячи ног по подсушенному морозом морскому дну.
– Тут и артиллерия пройдет, – говорит кто-то из идущих вперед. – Твердь.
– Покуда твердь, – отзывается на голос проводник, – а там захлюпает.
– Рыбачили?
– Рыба здесь не живет, товарищ. Соль собирал. Ничто не выдерживает, одна соль только и родит. А уж как и она не уродит, да как хлеба не наменяешь, тогда зубы на полку.
– Нелегко, видать, и вам здесь кусок хлеба доставался.
– Ой, нелегко, товарищ. А вы сами откуда будете?
– Я питерский. Путиловец.
– Давно, верно, дома не бывали?
– Третий год, как не видел семьи.
– Теперь уже скоро…
– Нужно, чтоб скоро. Как можно скорее нужно. – Собеседник Оленчука, наклонясь на ходу, глухо, простуженно кашляет. – Сегодня письмо получил, товарищи с завода пишут: «Ждем к зиме тебя домой, товарищ Капитонов» (это фамилия моя Капитонов). К зиме… Тут, брат, догадывайся сам. Разруха, блокада, а если сверх этого тяготы еще одной военной зимы… Нет, пора кончать!
«Пора, пора!» – откликается и в душе Леонида. Это чувство, которым живет здесь каждый в колонне, было самым пылким желанием и его, Леонида, ибо знал, что за этим последним боем откроется совсем новая жизнь, вольно вздохнут люди, и там, если он доживет до тех дней, можно будет жить только радостью мирного труда, там можно будет ему больше никогда не разлучаться с женой и сыном… Кринички! Весенние, в вишневом цвете Кринички, как далеки они отсюда, от этого осеннего, тревожного, чавкающего под ногами Сиваша.
Все меньше кажутся далекие огни костров, разложенных на оставленном берегу. Это маяки. Знает Бронников, что их разожгла армия специально для них, для красных своих авангардов, чтобы легче им было ориентироваться в Сиваше. Знает, что не одной строгановской колонне светят этой ночью маяки, зажжены они и в соседних селах, так как кроме штурмовой колонны, вышедшей только что из Строгановки, параллельно ей движутся сейчас во тьме Сиваша штурмовики других красных дивизий, и впереди, палкой прощупывая дно, идут такие же, как Оленчук, проводники из местных жителей. Промелькнули в памяти Леонида трагические картины прошлогоднего херсонского отступления, разобранные колонистами пути, недовольный гул и брожение среди бурлящих повстанческих масс. Мог ли думать тогда этот самый Оленчук, трясясь незаметным обозным в отступающих войсках, что пройдет год – и станет он проводником железных регулярных частей и первый пойдет с ними через Сиваш.
Шагая впереди, Оленчук все чаще останавливается, чтобы сориентироваться. Потом, словно оправдываясь, говорит, обращаясь к Бронникову:
– Верите ли, товарищ комиссар, никогда еще так не боялся ошибиться, потерять дорогу, как в этот раз… Сам заблудишься, так сам и пропадешь, а заблудиться с вами, когда тебе доверено такую силу вести, – не простят тебе промаха ни дети, ни внуки, весь народ тебя проклянет.
Уже растаяли, скрылись в тумане строгановские костры-маяки, холодный мрак окутал колонну со всех сторон. Под ногами все сильнее чавкает, дно прогибается, точно дышит Сиваш.
Треть пути прошли они почти по твердому грунту, и только здесь началось то, за что, собственно, Сиваш и назван Гнилым морем. Илистое дно запружинило под ногами, со всхлипом уходит верхний пласт в гнилые подгрунтовые впадины и снова подымается. Дышит трясина. Захлюпала мертвая, никогда не замерзающая топь; густо раскинулись по серому дну черные как деготь таинственные омуты чаклаков.
– Берегись! – бросает то и дело Оленчук, петляя между чаклаками и прощупывая палкой дно, и его «берегись!», глухо повторенное за ним, передается дальше по всей колонне.
Двигаются теперь значительно медленнее, забирая то влево, то вправо. Ноги все чаще проваливаются, вязнут по колено в густой холодной грязи. Чавкает и чавкает без конца зыбкая, засасывающая топь. Каждый шаг дается с трудом, все тело напряжено. Бронников чувствует, что в сапогах у него уже полно ледяной воды, грязи. Натруженные, потертые ноги нестерпимо щемят от соляной рапы. Штаны и шинель – все уже мокрое, тяжелое, липкая рапа ползет по телу все выше, даже волосы уже слиплись на голове.
На холод, на мороз, от которого колом становится одежда, уже никто не обращает внимания. Бойцы расстегнулись, бредут, обливаясь потом, тяжело, надрывно дыша. По двое, по трое несут на руках пулеметы.
Через каждые сто шагов ставят веху. Все меньше вех в колонне, все больше остается их на пройденном пути. Вехи – это для тех, кто вскоре двинется через Сиваш следом за ними, за высланной вперед штурмовой колонной, где собраны самые отборные, выдержанные бойцы, гранатометчики и резальщики проволочных заграждений, которые должны, пусть ценой жизни, проложить проходы для главных сил. Бронников мысленно видит за собой все вехи, расставленные по дну Сиваша, представляет, как пойдут по ним – а может быть, и идут! – артиллерия, конница, массы войск, запрудившие Строгановку и другие присивашские села. Сознание того, что он со своими товарищами сейчас прокладывает путь для целой армии, держит Бронникова все время в возбуждении, в состоянии крайнего напряжения и предельного подъема всех физических и душевных сил.
Впереди неизвестность, опутанный колючей проволокой полуостров, ливень огня, под которым, может быть, и сложат они свои головы, все эти идущие первыми, но сильнее смерти, сильнее всех тревог, навеянных мрачным видением вражеского берега, было чувство гордости за товарищей по колонне, за роль, что выпала на их долю в эту историческую ночь. Это все идут товарищи его по партии, идут те, у кого есть нечто более дорогое, нежели собственная жизнь. Бывшие каторжане, подпольщики, пролетарии, крестьяне, матросы, они посвятили себя одному делу – добыть счастье народу. Отсюда их бесстрашие, отсюда готовность, презирая смерть, брести этим ночным болотистым, непроходимым Сивашом. Все лето бились в степях, и страшны были врагам их штыки, но еще страшнее – их вера, целеустремленность, боевой порыв их сердец!
– Товарищи, яма!
– Тону!
– Затягивает!
– Руку, товарищи!
Кого-то вытаскивают, до кого-то уже не дотянуться. Стоит лишь сбиться в сторону на несколько шагов, и человек проваливается по самую шею. Пришлось взяться за руки и двигаться дальше плотными рядами, поддерживая друг друга.
Внезапно где-то справа зловеще мелькнул в тумане голубой невесомый луч прожектора. Коснулся тучи и сразу погас. После этого окружающий мрак стал еще гуще.
Вскоре прожекторы прорезали тьму сразу в нескольких местах, слева и справа, нервно перебегая в тумане, шаря по самому дну Сиваша.
Штурмовики были к этому готовы. Мгновенно присели, замерли группами, кто где стоял. И когда один из прожекторов, блуждая, добрался сюда, прощупывая, нет ли живого человека на Сиваше, кучки бойцов в его жутком свете можно было принять за островки камыша да темные пятна чаклаков.
Прожектор переметнулся в сторону, и снова из уст в уста побежала команда:
– Вперед!
Неожиданно наступило безветрие, но, кроме Оленчука, никто этого не заметил. Проводника затишье встревожило. «Не повернул бы после этого ветер, не погнало бы воду с Азова…»
Было уже за полночь, когда колонна, миновав полосу трясины и чаклаков, измученная, облепленная грязью, выбралась наконец снова на более надежный, прочный грунт.
Двинулись почти бегом с винтовками наперевес.
– Да скоро ли, наконец? – в нетерпении спрашивали Оленчука.
– Уже близко…
И вдруг, словно при вспышке молнии в воробьиную ночь, людей на миг ослепило сияние прожекторов, наведенных откуда-то прямо на них – бледных, заросших, забрызганных сивашской грязью. Темнота расступилась, открыв справа и слева контуры береговых круч и совсем близко густой частокол бесчисленных проволочных заграждений, покрывавших все побережье. Это уже был Крым.








