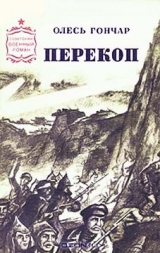
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Откинувшись в кресле, с жадностью принялся читать этот долгожданный проект. Но чем дальше читает, тем больше хмурится; под сухой темной кожей лица нервно ходят желваки. Какое-то место совсем вывело его из себя. Ударил папкой по столу, нажал кнопку звонка.
В дверях появился дежурный офицер в английском, с иголочки френче, вытянулся, ожидая распоряжений.
– Сенатора Глинку!
Щелкнули каблуки.
Оставшись один, Врангель встал, нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. Тупицы! Несчастные идиоты! Так они дают. Дают, но из рук не выпускают! Он, Врангель, в этот решающий момент идет на все, не колеблясь бросает на алтарь отечества фамильные имения своей жены – дочери известного таврического магната Иваненко, а они? Кретины! Бестии! Позор Новороссийска, видимо, ничему их не научил! Стоя на краю пропасти, рискуя потерять Россию, они все еще не могут расстаться со своими латифундиями! Немедля же он разгонит комиссию! На гауптвахту посадит их, пускай там вырабатывают земельный закон! А не сумеют, мужика, «чумазого лендлорда», позовет из волостей – пусть хоть он научит их уму-разуму!
Бесшумно открылась дверь, вкатился, выпятив круглое брюшко, сенатор Глинка – запыхавшийся, растерянный, руки трясутся… Государственный муж!
Когда сенатор приблизился, Врангель хлопнул по столу бархатной папкой.
– Изволите шутить, господа?
– Я вас не понимаю, ваше прево…
– Зато я вас хорошо понимаю! Даете и из рук не выпускаете!
– Ваше превосхо…
– Молчать! Вы что? За кого вы меня принимаете, господа? Не за вождя ли тех помещичьих сынков, которые доходили с Деникиным лишь до своего имения, а потом, плюнув на святую Русь, оставались дома пороть крестьян?
Как кролик на удава, смотрел сенатор на разъяренного генерала. А тот уже широко зашагал по кабинету.
– Не ваши зажиревшие аграрии, а мужики, миллионы крепких мужиков необходимы мне для армии, которую я создаю, вы это понимаете? И что же вы им сулите? Чем надеетесь привлечь их под мои знамена? Не только дать – вы даже пообещать не умеете! Я поражен, я возмущен вашей беспечностью и нерадивостью, господа!
Сенатор наконец собрался с духом:
– Ваше превосходительство, разрешите доложить… Мы с графом Апраксиным настаивали… Но господин Налбандов принципиальный сторонник крупного землевладения.
– Выгнать вон Налбандова. Завтра же пополнить комиссию мужиками!
– Ваше превосходительство, поблизости нет мужиков, одни татары.
– Вызовите из уездов волостных старост. Три дня срока на все.
– Слушаю.
Взяв папку, сенатор попятился от стола, но у порога снова в нерешительности остановился.
– Ваше превосходительство, мне хотелось бы еще кое-что уточнить…
– Уточняйте.
– Насколько более левыми вы желали бы видеть основные наши положения?
Врангель остановился посреди кабинета. Глубокомысленно хмурясь, уставился в потолок, и на всю его долговязую фигуру как бы легла печать некоего государственного величия.
– Я ведь тоже против крайностей, – наконец сказал он. – Ориентируйтесь на золотую середину. Так, чтобы левее правых эсеров и… правее левых эсеров.
В глазах сенатора мелькнуло нечто похожее на скрытую усмешку, но сразу же исчезло. Пятясь, он так и вышел из кабинета, сохраняя на лице уважительное и серьезное выражение.
Врангель подошел к окну, рывком распахнул обе створки. Влажным ветром хлестнуло с моря, приятно освежило.
Море, ветер, мрак!
Сквозь ночную тьму, словно чьи-то недремлющие очи, кроваво пламенеют сигнальные огни на кораблях. Стильной горой возвышается «Гальвестон», за ним виднеются силуэты дредноутов «Мальборо», «Бенбоу», «Эмперор оф Индиа»… У самой пристани притаился английский крейсер, тот самый исторический крейсер, на борту которого он, Врангель, прибыл сюда из Константинополя.
Вспомнились высокие берега Босфора и константинопольские минареты, вспомнилась жена, оставленная где-то там, за морем, на турецком берегу. Как она сейчас? Спит уже, верно, в этот поздний час и в золотых своих снах видит отцовскую милую Тавриду. Степи, степи, безбрежные украинские прерии, как часто они являются ей в роскошных ее грезах! Между тем степные эти имения, в которых проходило ее девичество, сожжены и разграблены, а фамильные богатые земли голытьба делит между собой. Но черт с ними, с этими землями! Скорее бы ему власть, власть – полную, венценосную! Все решит поход. Дочь некогда воинственного рода, из разбогатевшей украинской шляхты, она, его жена, тоже хочет делить с ним все трудности предстоящего похода, просит разрешения приехать сюда, к нему, к «зятю Украины», как в шутку называли его когда-то в семье. Почему же он не разрешает ей приехать, почему? Неужели и впрямь не хочет подвергать ее трудностям походной жизни, или, может, где-то в глубине души он сам не вполне уверен в счастливом завершении того дела, что предначертала ему судьба?
XXI
Чаплинская площадь – что маковое поле: цветет яркими платками, чабанскими папахами, красноармейскими фуражками… Раз праздник – так праздник для всех: пришли хозяева, пришли и постояльцы их – бойцы латышской части, которая из-под Перекопа отведена в Чаплинку на отдых.
Гудит, радостно клокочет площадь. Шутка сказать – будут делить землю! Правда, еще неизвестно как: кто говорит – на едоков, а кто – по дворам. Раскрасневшиеся женщины-солдатки, прослышав, что землю будут нарезать на едоков, решительно протискиваются со своими детьми вперед, держа самых маленьких на руках так, чтобы они были на глазах у комиссии. Пусть комиссия видит этих едоков, пусть не забудет и им нарезать ленинский надел!
Тут же, на виду у всех, перед самым крыльцом, выстроились полукругом те, что уже туговаты на ухо – древние сухопарые деды, чаплинские патриархи, которые держатся с удивительной для их лет выправкой, объясняющейся главным образом тем, что после деникинских шомполов старики до сих пор еще не могут согнуться. Некоторые из них сегодня впервые после экзекуции явились на площадь, чтобы личным присутствием напомнить комиссии о себе.
Секретарь волревкома – глазастый юноша в студенческой тужурке – с крыльца громко читает декрет. Слушают его деды, слушают, опершись на костыли, фронтовики, жадно ловят каждое слово облепленные детьми солдатки… Этот закон по душе Чаплинке, ничего не скажешь.
Не по нутру пришелся новый закон лишь хуторянам, которые, слетевшись на сходку из своих степных гнезд – столыпинских делянок, расположились на возах и беговых дрожках в конце базара неподалеку от амбаров.
Старик Гаркуша приехал сюда вместе со своей батрачкой: было у него намерение заодно сбить из подсолнуха масло. Глядя со стороны на хозяина и его молодую работницу, можно было подумать, что и на Гаркушином хуторе произошел переворот, что теперь там заправляет уже не Кирилл Гаркуша, а эта вот стройная, синеглазая наймичка Наталка. Сам хозяин вышел на люди в какой-то арестантской сермяге и в перемазанных навозом опорках, а батрачку вырядил в сапожки и в белый пуховый платок, какие носят лишь богатые колонистки. Как только приехали на площадь, Гаркуша отпустил Наталку к стоявшим в толпе ее чаплинским подругам, а сам, оставшись у воза, обернулся своим хрящеватым ухом к волостному крыльцу, на котором студент читал тот новый, советский закон. Пока речь шла о судьбе помещичьих да монастырских земель, Гаркуша лишь равнодушно помахивал кнутом, но, когда коснулось и таких, как он, темная кровь ударила Гаркуше в лицо: что же это творится? Выходит, что и его, Гаркушин, пай переполовинят?
Рука невольно потянулась, чтобы почесать затылок.
– Чешетесь, Кирилл Остапович? – проходя мимо, насмешливо бросил какой-то чаплинский голяк. – Хотят и вам хвост укоротить, а?
Гаркуша промолчал, угрюмо опустив голову. Ох, укоротят, видно, по самую репицу подрежут! Сегодня их сила – что хотят, то и делают. Давай разверстку, езжай с подводой, а теперь уже и кусок хотят отхватить, до земли, до земли добираются! Как от них защититься, к кому податься, откуда накликать гром на их головы? Где хотя бы Савка со своей Украиной? Мечется от одних к другим, у всех уже перебывал, но так до сих пор и не угадает, под чью руку стать… Хорошо тем сербам да французам из села Британы – они сумели устроиться – как бишь это? – «иностранноподданными», им теперь только на регистрацию ходить еженедельно… Ах, если бы и ему, Гаркуше, заполучить какое-нибудь подданство! Хоть под турка, хоть под грека, хоть под черта лысого, только бы не под голытьбу чаплинскую!
А может, еще и не отрежут? Может, признают и его за трудовой элемент? По клочочку, по лоскутику ведь собирал поле к полю, горбом своим да кровавыми мозолями наживал! Обрабатывал лучше фейнов, лучше колонистов, был сам себе агроном, грамоту от департамента земледелия получил за племенного бугая. А теперь вот дожил. Вот тебе и сбил масло! Тут сейчас так, брат, бьют, так советский пресс завинчивают, что из тебя самого скоро масло потечет! Все им мало, этим голодранцам, уже им и Гаркушин хутор поперек горла стал! Пропади вы пропадом!
Душа его взрывалась протестом, лютой, убежденной в своей правоте ненавистью. Хотелось стать, вывернуть ладони всей площади напоказ – гляньте: в мозолях они, потрескавшиеся, черные, как подошва!.. Батрачку держит? Еще этим осмелятся колоть ему глаза? За то, что пригрел ее, чаплинскую нищую девку, за то, что от слащевских насильников у себя на хуторе спас? Сам явился сюда в лохмотьях, а ее, как куколку, привез – в сапожках, в дочерниной – во всю спину – шали…
– Наталка!
Стоит среди подруг, будто и не слышит. Тоже, видно, на землю разлакомилась, вместе со всеми вытянула шею туда, вперед… Там уже читают списки. Много же оказалось их, счастливцев, которым земля сама плывет сегодня в руки. Читают и читают… Даже со стороны нетрудно угадать в толпе того, чью фамилию называют в эту минуту: лицо его сразу становится светлее – ведь теперь он уже не бедняк, а хозяин!
– Наталка! – Приблизившись к толпе, старик нетерпеливо ткнул девушку в спину кнутовищем.
Наталка досадливо обернулась к нему:
– Чего вам?
– Что ж ты стоишь?
– А что же мне – танцевать?
Подруги, окружившие ее, засмеялись.
– Чего без толку скалите зубы? – крикнул Гаркуша на девушек и сердито дернул Наталку за руку. – Пошли!
– Куда вы меня тянете? – со смехом и возмущением оттолкнула она старика.
Гаркуша взбеленился.
– Дура ты! – захрипел он в неистовстве. – Так и будешь стоять? Это же только раз в жизни случается! Ступай же скорее, кричи, требуй! Разве ты не едок? Разве тебе не надо? Ты же чаплинская, сроду безземельная, у тебя мать нищенкой померла на ярмарке! Твое право! Пошли, вырвем, а то замотают!
– Да уймитесь вы, хозяин! – весело перебила его одна из девушек, догадавшись наконец, отчего беснуется старик. – Вы про Наталкин надел? Так ее ведь уже называли.
Гаркуша остолбенел:
– Тебя называли?
– Ну да! Наталка Троян – это ж она и есть!
– Разве ты Троян? Вот те и раз!
– Дед думал, что у Наталки и фамилии своей нет, – захохотали девушки.
– Думал, и в списки не внесут! Еще, может, от вашей и нарежут!
Сыпались шутки, хохот стоял, как вдруг откуда-то с конца площади раздался пронзительный детский крик:
– Яроплан!
Все, умолкнув, повернулись в сторону Перекопа. Темный крестик двигался в небе. Вскоре оттуда донесся отдаленный дребезжащий рокот.
Сходку пришлось прервать, однако люди не расходились; разбившись на кучки, напряженно следили за небом, за приближением рокочущей железной птицы.
– На Каховку, видно, летит, туда они часто летают!..
– Переправы разведывают!
– Вишь, нашел себе дорогу – через наши головы напрямик…
Аэроплан тем временем уже дребезжал над селом, медленно описывая круг в поднебесье и словно любуясь оттуда залитой солнцем Чаплинкой, ее белыми мазанками и яркими платками чаплинских девчат… Сейчас, когда аэроплан мирно плыл по небу, пронося над головами людей свои неподвижные колеса, мало кто из чаплинцев верил страшным слухам о том, что будто бы заграница прислала генерал лам в Крым какие-то новые летательные машины, которые уничтожают людей не пулями, не бомбами, а таинственными фиолетовыми лучами… Но когда аэроплан, неожиданно взревев, коршуном ринулся сверху прямо на толпу, устремив на нее быстролетный, сверкающий и все разрастающийся вихрь пропеллера, не один из чаплипцев подумал, что это как раз они и сверкают, убийственные фиолетовые лучи!
– Спасайтесь! Кар-раул!
Черный грохот среди бела дня всколыхнул Чаплинку.
XXII
Обезумевший от взрыва бомбы, Гаркуша опомнился лишь в доброй версте от села, куда он успел ускакать на своей таратайке. Остановился в придорожных бурьянах, обалдело оглянулся на Чаплинку. Удирая, он потерял шапку, и теперь кобыла пугливо косилась на старика, то ли не узнавая его без шапки, то ли просто удивляясь странному кустику седого, развеваемого ветром ковыля на Гаркушином черепе.
Где-то в центре села, в том месте, где обрушилась бомба, поднимался дым, что-то горело. На околице группа красноармейцев стоя била из винтовок по удаляющемуся в направлении Крыма уже еле заметному аэроплану.
Гаркушу охватило какое-то мальчишеское, радостное неистовство.
– Ага, поделили? Поделили? – приплясывая у воза, размахивал он обломком измочаленного о спину кобылы кнутовища. – Списки написали, а печать пристукнуть забыли? Вот он вам и припечатал!
Вскоре на дороге появилась Наталка. Ожидая ее, Гаркуша подошел к кобыле и, стиснув зубы, принялся покрепче затягивать рассупонившийся хомут.
Наталка прибежала сердитая, запыхавшаяся.
– Нате! – бросила деду шапку, подобранную по дороге. – Бежали так, что и голову потеряли.
– А куда ж это ты запропастилась? – виновато молвил старик, так как, удирая с площади, слышал, как Наталка звала его.
– А вы будто и не знаете… Свою шкуру скорее спасать, а меня так бросили, пускай бомбой разорвет.
– Здорово, здорово ахнуло. Куда попало? – напяливая шапку, оживленно расспрашивал хозяин. – Волость, кажется, горит?
– Это мешки ваши с семечками горят. Целились в волость, да в маслобойню попали…
Гаркуша, видимо, был несколько разочарован этой вестью.
– А из тех никого и не зацепило?
– Кого – тех?
– Да тех же, которые делят?
– Живехоньки! – сказала Наталка радостно и, поправив шаль, уселась на возу.
Гаркуша тронул вожжи.
– Но забыл, не забыл Слащев о вас, наведывается в гости, – оборачиваясь в сторону Чаплинки, снова забубнил он. – В прошлом году штаны шомполами посек, а теперь как придет, то посечет вам, граждане, и подштанники… Заранее нашивайте на задницу лемехи!
Потянулись поля. Ветер веял с моря, и, возбужденная только что пережитым, Наталка подставила ему свои раскрасневшиеся щеки. Дым над Чаплинкой рассеивается, пожар уже, верно, потушили, не видно и того заморского коршуна в небе: вспугнув сходку, он снова ушел куда-то в сторону Крыма. До каких пор они будут тут летать? Когда же дадут людям покой и мир? Теперь бы, кажется, жить да жить: и бедноте счастье улыбнулось – права дают, землю будут нарезать…
Земля со всех сторон подступает к Наталке непаханая, незасеянная, в курае да чертополохе и все же до боли родная, ближе, дороже, чем когда бы то ни было… Натерпелась и земля за последние годы! Кто только не разгуливал по этим бескрайним просторам! Вдоль и поперек истоптана степь копытами, изрыта снарядами! Куда ни глянь – дикие бурьяны шелестят; солнце все выше и выше, скоро обогреет всю эту степь по-весеннему – зазеленеешь, зацветешь ты из края в край!
Где же ей, Наталке, выпадет среди этих просторов надел? Там ли, где лиса рыжим клубком метнулась, исчезая в кураях, или, может, как раз над ее нивой отзывается сейчас жаворонок с высоты?
– Так-так… Выходит, и ты, Наталка, теперь с землей, – примирительно кашлянул, нарушив молчание, хозяин. – Только как же ты думаешь обрабатывать свой пай?
– Да уж как-нибудь обработаю.
– А чем?
– Говорят, что армия поможет тяглом.
– Ну, с теми много хлеба соберете. А то, может, и собирать не, придется. Ненадолго этот дележ, вот попомнишь мое слово… Не дольше ваша власть, как до пятницы.
– Долгой будет наша пятница…
– А вот увидим.
– Увидим.
Вдали уже показался Гаркушин ветряк. Ободранный, искалеченный войной, одиноко торчит он в открытой степи, подняв кверху обломок крыла, напрасно ожидая ветров, которые вдохнули бы в него жизнь. Хуторские заунывные ветры, как они опостылели девушке в зимние жуткие ночи! Всеми голосами завывали, протяжно скулили в трубе, с грохотом рвали проржавевшую кровлю. Собаки спущены, двери на запоре, в хате тревожный мрак. В углу шепчет молитвы монашка Минодора, Гаркушина свояченица, которая, бежав из разгромленного монастыря, осела на хуторе. У окна всю ночь караулит хозяин с топором, всю ночь ему чудится конский топот экспроприаторов-лопатников, которые будто бы имеют обычай, подъехав к самому окну, требовать: «Подавай, хозяин, деньги на лопате»…
А с утра хозяина гонят в обоз, монашка садится за святое писание, и все хозяйство остается на ее, Наталкиных, плечах. Надо напоить, почистить коров и свиней, сделать все по дому. Так иной раз целый день ничего, кроме хрюканья свиней, не услышишь.
По праздникам к Минодоре вороньем слетаются такие же попрятавшиеся по хуторам монашки, приносят разные слухи, шушукаются о приходе антихриста, который якобы сейчас тайно живет в Париже под охраной тридцати юнкеров Керенского.
Тоска, одиночество. Не с кем словом перемолвиться, за зиму смеяться разучилась. И вот теперь снова туда же? После воли и солнца чаплинской сходки – снова в свинарники, чуланы, амбары? Работай и работай, а что заработала? Даже эту шаль и то хозяин дает ей лишь тогда, когда на люди посылает, потом снова прячет в сундук, запирает на ключ. Но не вечная же она у него пленница, ведь когда-нибудь должен наступить всему этому конец! Знакомые девчата говорили уже сегодня о каком-то новом союзе, который будто бы объединит всех батраков и батрачек, объединит и будет защищать их права.
– Так-так… С землей, значит, – снова заговорил хозяин, которому Наталкина земля, видно, не давала покоя. – А может, со мной в супрягу? С половины, а? Или ты уже, может, на стороне сеяльщика себе заприметила?
– Может, и заприметила…
Отвернувшись, она улыбнулась своим мыслям. О, как часто он приходит к ней в мечтах, певучий, веселый ее сеяльщик! Вечером раскинет монашка карты – нет его, а ночью он уже является Наталке – живой, смеющийся, душа нараспашку…
«Нет, не убит я, Наталка, не убит. Нельзя меня убить».
Чаще всего видит ого таким, каким был он в ту прощальную лунную ночь в Чаплинке, когда, разгоряченный ласками, обнял ее, а потом, легко вскочив на коня, в последний раз оглянулся, в последний раз подарил ей свою белозубую мальчишескую улыбку. Все ждет его, все верит, что рано или поздно он вернется и вызволит ее из Гаркушиной неволи. Его, ее веселого Данька, – вот кого бы ей сеяльщиком на свою ниву! И, словно наяву, видит она уже, как идет и идет он полем – до самого края земли, и сеет, сеет… Без конца, до горизонта тянется, разворачивается их радостная нива!
Все ближе ветряк. Поднял в небо торчок недоломанного крыла, будто грозит оттуда Наталке, будто подает какой-то тайный знак недобрым крымским ветрам.
XXIII
Кто это мерным шагом идет вдоль вспаханного, весенним солнцем пригретого поля и так старательно, со всего размаху бросает зерно?
Рано на зорьке, в одно время с опытными криничанскими хлеборобами, вышел Яресько засевать материнскую ниву. Будто и нехитрое дело, а меж тем сперва не давалось, пока дядьки-соседи, посмеявшись над ним, не подошли да не показали кавалеристу, как нужно становиться да как руку держать, чтобы ровно ложилось зерно.
Данько сеет, сестра боронует.
И борону и коня пришлось занять у зятя. Славно идет работа, нравится она Даньку. Взмах сюда, взмах туда, полукругом ложатся в теплую влажную землю семена, остаются на пройденном сеяльщиком пути, чтобы потом подняться здесь, зашуметь тяжелым обильным колосом…
Людей в поле – муравейник. На сходках все кричали, что нечего в землю бросить, а пришла весна – каждый откуда-то наскреб кто проса, кто гречихи, а кто и пшеницы. Снуют и снуют в дымке по полям, вдоль большака, у опушки леса. Кажется, никогда еще не работали криничане с таким жаром, как в эту весну: впервые на собственной, отвоеванной у господ земле. Женщины, проходящие дорогой с завтраком в узелке для своих тружеников, издалека кричат Яресько:
– Бог в помочь!
И дальше, через все поле, катится вдоль леса это веселое, радостное приветствие:
– …По-мо-очь!..
В свежевыстиранной расстегнутой гимнастерке, с мешком зерна через плечо, идет и идет Данько вдоль нивы, ступая размеренно, торжественно, будто каждым шагом, каждым взмахом руки совершает какое-то священнодействие.
Вот засеет матери ниву, и тогда… На днях ходил с комсомольцами на собрание в волость и встретился там с бывшим военкомом Левченко, который после внезапного понижения в должности стал начальником всевобуча. Разговорились. Яресько расспрашивал о своем полке. Выяснилось, что его Таврийский повстанческий полк давно уже переформирован в бригаду и переброшен куда-то на запад против белополяков, но куда именно, об этом и военкомату точно неизвестно. Узнав, что парню не терпится снова сесть на коня, Левченко одобрил это намерение, но тут же и охладил: пока, мол, не рыпайся. Когда нужно будет – позовем…
Вот и сидит. А тут еще секретарем комсомольской ячейки избрали, циркуляры уже поступают к нему на тонкой папиросной бумаге, на такой тонкой, что даже махорки не держит. Раскуривает с хлопцами циркуляры да, как застоявшийся конь, ждет боевого сигнала. А может, его и не будет? Может, вот так и замирение наступит на фронтах, и уже на другие, на трудовые дела революция позовет?
Все легче становится мешок – все меньше в нем зерна, зато все больше семян ложится в плодородную землю. Сколько ни идет, все слышит, как звенит и звенит жаворонок где-то вверху, над ним: он такой же неутомимый, такой же голосистый, как и тот, которого они в прошлом году слушали в Чаплинке вместе с Наталкой. Дух перехватывает при воспоминании о ней. Не забыла ли о нем? Дождется ли его возвращения?
Дойдя до опушки, Данько снимает мешок с плеча и садится передохнуть. Солнце пригревает, всюду на опушке кучками лежит зимняя крестьянская одежда – в одних рубашках ходят по полю сеяльщики. Пашня сверху быстро подсыхает, за Вутанькиной бороной-скоропашкой уже поднимается легкий клубочек пыли. Приблизившись к брату, Вутанька остановила коня, выбрала из зубьев бороны бурьян да комья земли и, выбросив все это на межу, подошла к Даньку.
– Устал?
– Только во вкус вошел, – закуривая, пошутил брат. – Свое засею и другим помогать пойду.
Вутанька тоже присела на меже и, в задумчивости ломая в пальцах сухой стебелек травы, загляделась на подернутые дымкой хутора, разбросанные далеко по ту сторону большака.
– Встревожили меня, Данько, вчера эти песенки зареченские… Как ты думаешь, кто бы это мог быть?
Данько молча попыхивал цигаркой. Понятна была ему озабоченность сестры. Вчера поздно вечером целой гурьбой вышли они из Народного дома. Возбужденные после репетиции, с шутками и смехом перешли запруду, выгон и остановились у самого обрыва над Пселом, там, где, как говорил дед Харитон, была для них «каша закопана». Светила луна, внизу тихо плескалась речка. Нонна-поповна, прислонившись к плечу Данька, стала медленно, нараспев читать стихи. Так хорошо было вокруг, что и по домам не хотелось расходиться. Стояли, притихнув, на берегу, как вдруг там, за речкой, за лесом, кто-то раскатисто запел в лугах:
Ой, яблучко,
Та-ех! – із листочками —
Прийде батько Махно
Із сыночками…
Голос был незнакомый, басистый, сильный; издалека докатываясь до села, он, казалось, похвалялся силой, угрожал криничанам своей песней.
Яресько не остался в долгу. Набрав полную грудь воздуха, он ответил ему за речку тем же «Яблочком», только куда звонче:
Ех, яблучко,
Куди котишся?
Попадешся в руки к нам —
Не воротишся!
Потом снова спел тот, а Яресько снова ему ответил – звонко, задорно, голосисто! – так и перестреливались они песней через речку, через лес, пока тот не умолк. Долго потом Нонна хохотала, восхищаясь этим песенным поединком. Вчера все это казалось шуткой, а вот теперь Вутанька почему-то вдруг вспомнила, заговорила об этом с затаенной тревогой в голосе. В самом деле, кто б это мог быть? Чей это голос?
Данько не хотел придавать этому значения.
– Пустяки. Стоит ли беспокоиться, – вставая, махнул он рукой. – Просто кто-то из хуторских глотку драл.
– Хорошо, если просто.
Вутанька тоже встала. Только она шагнула к коню, как по всему полю поднялась непонятная тревога: дядьки засуетились, забегали, те, кто был с лошадьми, поспешно отцепляли постромки и опрометью бежали к лесу.
«Банда!» – мелькнула у Вутаньки мысль, и в тот же миг прокатилось над полем:
– Банда! Банда!
Данько, забыв о своем мешке с зерном, стоял, напряженно вытянувшись на меже, и смотрел куда-то в сторону большака. Там, версты за две от них, из лесу галопом вылетал на дорогу отряд с черным развевающимся флагом на передней тачанке.
XXIV
Теперь уже было не до работы: оставив недосеянные поля, люди со всех ног бросились по домам. Заторопилась домой и семья Яресько.
На полпути встретила их мать, запыхавшаяся, бледная.
– Я уже думаю, не стряслось ли, помилуй бог, чего. Да еще Данько в этом галихве… Банда ж была!
– Чья? – насупился Данько.
– Да чья же… Ганнины головорезы.
Немного отдышавшись, мать повернула вместе с детьми, стала на ходу рассказывать. Налетели внезапно откуда-то, уж не с Буняковых ли хуторов, нежданной бедой свалились людям на голову. Не иначе кто-то указал им, потому как, нигде не останавливаясь, галопом пролетели прямо к амбарам, где в это время брали хлеб продотрядовцы, троих изрубили на месте, а их товарищей под саблями стали принуждать, чтоб зерно из сусеков, как из корыт, ели. Однако не захотели те, наотрез отказались. «Вы, – говорят, – сякие-перетакие бандюги», – и по матери их!.. Возле амбаров как раз лежал ворох пустых мешков, свежих, новеньких, их продотрядовцы только что со станции привезли. «Это Москва столько для нашего хлеба нашила? – накинулись на них Сердюки. – Это вы вместо манухвактуры нам привезли? – и кричат своим: – А ну-ка, в мешки их, как котов!» Еще и глумиться над сердешными стали: «Говори „паляныця“»! Который, дескать, вымолвит «паляныця», того отпустим, а у кого «паланица» получается, тому тут и аминь: в мешок – и в воду… Всех до единого казнили, всех в Псел покидали.
– А Ганна? – волнуясь, спросила Вутанька. – Она… тоже?
– Ох, эта Ганна… Дивчина была как дивчина, а до чего дошла, во что превратилась! В шапке кубанской, с плеткой в руке, нечесаная, пьяная… Разлеглась в тачанке, непотребно ругается, родную мать едва узнала. – Яресьчиха на ходу утерла глаза фартуком. – Теперь Лавренчиха там волосы на себе рвет, на все село плачет да причитает, говорит: «Кабы знала, малой бы в зыбке удушила!»
Данько, шагая рядом с матерью, стал расспрашивать, чем вооружены бандиты да много ли среди них здешних, хуторских.
– Сердюки, Сердюки наши там, больше всех орудовали, – рассказывала мать. – Кооперацию разграбили, в сельсовете все вверх дном перевернули, все Андрияку искали. – Оглянувшись, мать вдруг понизила голос: – У попа, говорят, пересидел!
– Да неужто они и Федора могли бы зарубить? – невольно вырвалось у Вутаньки. – Забыли уже, как вместе на каховском шляху ноги били? Как в одном курене над Днепром ютились?
– На людей уже не похожи: морды пораспухли, глаза кровью заплыли. «Всех коммунистов, – орут, – посечем, одну чистую Советскую власть оставим!»
Но больше всего потрясли Вустю не Сердюки, а то, что она услышала от матери о Ганне. До чего же докатилась! Пьяная, окруженная головорезами, в бандитской махновской тачанке… Та самая Ганна, с которой они вместе росли, с которой когда-то делили и горе и радость. О таинственной, воспетой кулаками «банде Ганнуси» Вутанька слыхала и прежде, однако до сегодняшнего дня тень какого-то сомнения – может быть, это вовсе не та Ганна – еще жила в сердце Вутаньки. Не хотелось верить слухам, не укладывалось в сознании, что криничанская певунья, ее ровесница, и таинственная бандитка Ганна – это один и тот же человек. Теперь не оставалось места сомнениям: «Ганнуся» сама заявилась в Кринички родной матери на позор и людям на горе. До чего же ты, Ганна, дошла, с кем свою долю связала? Кажется, еще совсем недавно рядом с Вутанькой в церковном хоре чистым сопрано заливалась, а теперь, видно, и голос пропила, охрипла от кулацких вонючих самогонов…
– Та́к вот, ни за что людей замучить, – убивалась мать. – Где-то там дома, на заводах, их с хлебом святым ждут, а они и сами домой не вернутся…
Всех продотрядников Вутанька знала в лицо, еще вчера в Нардоме видела их – веселых, дружных, в фабричных кепках, и вот теперь их уже нет. Просто не верилось, что лежат они зарубленные, завязанные в мешки и брошенные на дно речки. И все это Ганна? Такой грех не побоялась на душу взять? Свалилась как снег на голову, принесла столько горя и вновь канула неведомо куда, подхваченная темными махновскими вихрями!..
Уже у самого седа встретил их зять Прокоп.
– А я за конем, – сказал он, вытирая рукой обильный пот, выступивший на лбу. – Коли не догадаются, думаю, спрятать в лесу – амба! В Буняках вон, говорят, махновцы всех коней у хуторян забрали.
– Да они сами поотдавали, – буркнул Данько.
– Ну, не видал – так не говори, – предостерег Прокоп, взяв у Вутаньки повод. – А то теперь брякнешь вот так что-нибудь, а потом…
– Что – потом? – ощетинился вдруг Данько.
– Ты не кричи. Ты как себе знаешь, – расставаясь с ними на перекрестке, бросил Прокоп, – а я в политику не мешаюсь: у меня грыжа.
Все село еще клокотало, взбудораженное налетом. Где-то голосили женщины, по берегу ходили мужики с длинными баграми, прощупывали дно, искали убитых.
– Теперь найдешь их, – печально сказала мать. – Выплывут, может, где-нибудь аж в Потоках.
Не доходя до дому, разошлись: Вутанька с матерью направились к хате, а Данько, передав им мешок с оставшимися семенами, повернул к реке.
Подойдя к сгрудившимся над обрывом и молча орудовавшим баграми мужикам, Данько некоторое время угрюмо наблюдал за их работой. Потом, взяв у одного из них багор, стал сам прощупывать дно возле кручи. Вытаскивал какие-то водоросли, ворочал под водой корневища вербы, шаг за шагом продвигаясь дальше: утопленных нигде не было.
А за спиной шел гомон:
– Вот вам и Ганна… Кто бы мог подумать, а?
– Ганна у них там, говорят, больше за куклу в отряде, а всем верховодит, сказывают, тот, который в хренче.
– Полюбовник он ей или кто?
– Кой там черт полюбовник… Просто петлюровский офицер, от шляхты к банде подосланный.








