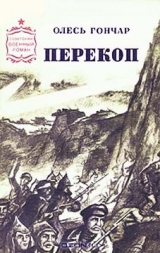
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Громкая, молодецкая, точно буйный посвист в степи, она, его жизнь, обрела и славу, и всемирную ценность, она сейчас позарез нужна массам таких… таких, как кто?
– Кушайте, кушайте, Нестор Иванович.
Кто это? Снова этот коршун, этот подводчик со своим жареным поросенком на тарелке, с сальной улыбкой на губах…
– Брысь!
– Кому это вы?
– Тебе говорю: брысь!!!
Гады, подумать не дают! Им веселье, а кому-нибудь, может, уже и похмелье. Почему-то очень не по себе; может, вместо актрисы-чекистки кто-нибудь другой сегодня уже подсыпал ему яду? Каким словом вспомнит о нем Украина, когда погибнет он, пропадет? Или, может, жизнь его, как черный метеор, как эта лакированная черная тачанка, что степью промчится – и ветер за ней пыль развеет? Во дворе бубен гудит, дрожит земля – гуляют его «сыночки». Перед этим сто двадцать верст отмахали, чтоб только поспеть домой к воскресенью. Это так уж у них повелось: где бы ни были, в каких бы краях ни рыскали, а на праздник, на воскресенье – хоть гром с неба – хлопцы его должны быть в Гуляй-Поле. Вражеские заставы прорвут, коней загонят, только бы примчаться в субботу вечером под сень родных садов – кто к девушкам, кто к женкам, а кто к гуляй-польским проституткам… А к кому сам он мчится сюда, к кому спешит?
Душно становится жить, ох, как душно!.. Куда ни мчится на своей тачанке, всюду преследуют его призраки тех, кого зарубили топорами его «сыночки», кому повыворачивали руки, повыкалывали вилками глаза… Вопиют замученные дети, обесчещенные девушки, незаможники и продагенты с распоротыми животами, в которые «сыночки» насыпали зерно… Бои, грабежи, разгул… Всю весну и лето в рейдах, кочует, как половец; и сам никогда не знает, где будет ночевать, куда двинется завтра и послезавтра его буйная республика на тачанках. Раньше хоть в гуляй-польских оргиях находил забвение, теперь ему уже тоскливо и здесь. На чужой свадьбе гуляет, чужую водку пьет… Нет ни родных, ни близких. Пустырем стоит тот двор, где он родился, на том месте, где когда-то стояла отцовская халупа, теперь одна лишь крапива растет, выше него, Махно, вытянулась!
Пальцы впиваются в длинные космы, в горле застревает горячий клубок… Однако ко всем чертям эти терзания! Махно не сдастся, вам понятно? Да! С грохотом сбрасывая посуду, встает и, твердо ступая, чтобы не покачнуться, выходит из хаты. Солнце так и слепит. Пьяные морды, мокрые чубы, рушники на плечах. Разноцветные ленты в косах девчат.
– Батьку, просим!
– Для батька играй!
А он, не обращая внимания ка музыкантов, уже встретился взглядом с седым худущим волкодавом, который лежит у амбара на цепи. Пес, а глаза умные, как у человека, кажется, хочет что-то сказать батьку. Махно неторопливо идет на него.
– Батьку, порвет!
Умолкла музыка, замер весь двор.
– Батьку, это не шутки! Не подходите!
– Он такой – человека растерзает!
А Махно словно не слышит предупреждений. Заложив руки за спину, шаг за шагом приближается к амбару. Присел перед псом, и так сидели они какое-то мгновение друг против друга, будто молча советовались о чем-то. И пес, который другого порвал бы в клочки, горло перегрыз, тут даже не зарычал. Притих, как загипнотизированный… Махно не спеша спустил его с цепи, взял за ошейник и, ни на кого не глядя, повел в дом.
Посадил его за столом рядом с собой.
– Угощай, хозяин, и его: я для вас свободу стерегу, а он – амбары.
Так и сидели мрачно вдвоем – он и тощий цепной пес, пока вдруг не раздался за окнами топот – въехали во двор тачанки.
XVI
Там, где только что плясали, где земля гудела под каблуками, уже стоят несколько запыленных тачанок с пулеметами, направленными во все стороны, даже в окна хозяина. Загорелые хлопцы из полевого дозора выволакивают из передней тачанки опутанного вожжами офицера. Грузный, бритоголовый, глаза завязаны, рот заткнут какой-то портянкой… На плечах сверкают полковничьи погоны. Плотной толпой окружили его гуляющие махновцы. Что за птица? Каким ветром занесло его сюда? Разве не слыхал он, что в Гуляй-Поле погоны таким, как он, гвоздями к плечам прибивают? Махновская республика без погон живет!
Так, с завязанными глазами, и вытолкнули его в круг.
– Танцуй!
Офицер упирается.
– О, да он еще и не желает, – поддает ему коленкой под зад кто-то из махновцев. – Спотыкаешься? Подкуем!
– Гвоздями пристегните ему погоны к плечам, тогда сразу затанцует.
Из хаты неторопливо вышел Махно.
Старший из дозорных – рыжебровый матрос с вылинявшей, едва заметной надписью на бескозырке «Дерзкий», схватив офицера за рукав, потащил его к Махно.
– Гостя вам, батьку, привезли! Посланец от черного барона.
Рот заткнут – не приказал освободить. Глаза завязаны – не велел развязать.
– Чего он хочет?
– Врангель, говорит, союз предлагает с Гуляй-Полем заключить. Украину, говорит, вам отдаст.
– Нам дареной не нужно, – обозлился Махно. – Она и так наша.
– Не к лицу нам, батьку, с беляками союзиться, – загудели в толпе. – Не раз уже видели мы, что они с Украиной творят.
– С генералами пойдем – мужики от нас отвернутся!
Отвернутся – это он хорошо понимает. Пока шел против Деникина, его войско словно на дрожжах росло, а как только повернул против красных, сразу растаяло, один этот гуляй-польский «гордый район» верным ему остается…
– Батьку, может, глотку ему откупорить? Может, послушать желаете?
– А что мне его слушать? – Махно сердито встряхнул своими маслеными жесткими космами. – С Григорьевым в союзе был, с Петлюрой был, с красными был! А с беляками не был и не буду!
– Верно, верно! – вырвалось из крепких глоток «сыночков». – Не желаем за барона свою грудь под пули красным подставлять!
Схватив вожжи, которыми офицер был связан, Дерзкий посмотрел на Махно.
– Куда прикажете, батьку?
Махно резким движением руки показал вверх, на толстый сук.
– Туда!
Махновцы захохотали.
– Наверх! Поближе к пророку Илье, что по небу на своей тачанке раскатывает!
Через минуту во дворе уже снова ударили бубны: свадьба продолжалась…
XVII
В степи близ Каховки тысячи людей под палящими лучами солнца копают землю, строят плацдарм.
С каждым днем все больше в степи становится разрытой земли, все гуще колючая проволока, которой опоясывают этот клочок отвоеванной у врага земли.
Внешняя лилия обороны тянется степью верст на сорок, глубина плацдарма – от внешней его линии до Днепра – достигает двенадцати верст. Вся эта отбитая у белых территория с селами Софиевкой, Любимовкой, Большой и Малой Каховкой, с нивами и приднепровскими виноградниками, степными курганами и разбросанными по полю копнами хлеба называется теперь плацдарм. Все это нужно защитить, удержать, отстоять во что бы то ни стало. Как только перестрелка затихнет или отодвинется дальше в степь, сразу же закипает работа – роют окопы, траншеи, волчьи ямы для танков, подвозят колючую проволоку, затесывают ивовые колья, срубленные в плавнях. От широкой днепровской синевы, над которой возводятся дополнительные переправы, от душных плавней, где рубят дерево для плацдарма, и до просторов сухой, знойной степи – везде напряженно трудятся люди. Работают бойцы, работают командиры, все население приднепровских сел поднято на ноги и тоже брошено на строительство оборонных укреплений красного плацдарма. Идя по степи сквозь этот кишащий людской муравейник, уже и не разберешь, где здесь бойцы, а где местные крестьяне; одинаково сверкают, лоснятся потом обнаженные спины, одинаково энергично орудуют лопатами огрубелые, натруженные руки. Мужчины роют землю, женщины разносят еду, и даже детвора весь день таскает вдоль окопов ведра с водой.
Все пьют, пьют, пьют…
– Ну как: «Кую и пою»? – подтрунивал Данько над Левком Цымбалом, который, покрякивая, прокладывал рядом траншею в сухой, словно зацементированной земле. – Не угрызешь? Тут, брат, земелька твердая: это мы с твоим отцом когда-то ее так утоптали… Вон по той дороге Гаркуша гнал нас из Каховки на Асканию.
Не разгибаясь, орудует лопатой молодой Цымбал. Кажется, всю свою ненависть к мировой буржуазии и ее черному барону он вкладывает в эту работу.
– До воды докопаешься, пока выроешь «для стрельбы стоя со дна окопа», – подпускают хлопцы шпильки в адрес Левка, намекая на его огромный рост.
Растет парень как на дрожжах: давно ли, кажется, из дому, а уже рукава коротки и из штанов вырос – едва колени прикрывают. А ноги… Товарищи дразнят, что на такую лапу, как у Левка, во всей Красной Армии обутки не сыщешь. Не раз уже земляки подзуживали, чтобы он померился силой с латышами, которые любят в свободное время заняться французской борьбой, собирая вокруг себя толпу зрителей.
Левко все глубже вгрызается в землю. Только тогда и оторвался он от работы, только тогда и разрешил себе выпрямить спину, когда услышал веселые голоса каховских молодок, которые с кошелками приблизились к окопам.
– Латыш, кваску хочешь? – обратилась к Левку одна из них – чернявая, бойкая – и первому подает ему кружку с холодным квасом. Она почему-то принимает Левка за латыша, видно, потому, что рослый такой да суровый.
Хлопцы шутят:
– У нашего латыша только зубы да душа!..
– А что еще нужно? – защищает молодка Левка. – Лишь бы душа, лишь бы сердце… «Хоть под лебедою – абы, сердце, с тобою», – и так улыбается парню, что у того даже уши краснеют.
Разговорившись, хлопцы узнали, что молодица эта – вдова, сама и хлеб косила; вон там вдали, по ту сторону дороги, ее копны стоят… Жалуется, что не с кем перевезти и смолоть этот хлеб.
– Вот как плацдарм достроим, тогда поможем и вам, – обещает ей Яресько.
– Хорошо, буду ждать, – говорит она, снова улыбаясь Левку.
– Ей-же-ей, у нее на нашего Левка виды, – переговариваются хлопцы, оставшись одни. – Чего доброго, еще и красную свадьбу здесь на плацдарме сыграем.
Данько в краткие минуты перекура задумчиво поглядывает в степь: отсюда ведь рукой подать до Наталки. А она там и не догадывается, что он так близко, что он уже под Каховкой – день хода от Чаплинки – землю долбит, оборонные позиции против врага возводит. Это здесь он впервые и увидел когда-то Наталку среди каховских песчаных кучугур, на краю ярмарки, когда она, худенькая, грустная, сидела с кружкой воды у изголовья умирающей матери. Как давно все это было!
Даже и не верится – было ли на самом деле. Конечно, трудно и сейчас, но как-то совсем по-другому трудно, так как теперь ты знаешь, ради чего приходится переносить все лишения, знаешь, что скоро им конец и совсем другая жизнь ждет тебя завтра…
Однажды Даньку пришлось присутствовать на большом красноармейском собрании, которое устроено было как раз на том месте, где когда-то происходили каховские «людские» ярмарки. Присев с хлопцами на песчаном холме, Яресько внимательно слушал оратора. Перед красноармейцами выступал Леонид Бронников. Говорил он о прошлом этого края, о тысячах и тысячах батраков-сезонников, которые ежегодно весной шли сюда на каховские ярмарки продавать помещикам свои мозолистые руки. О черных бурях говорил. О летучих песках, которые на своем пути сметают все живое… О том, как паны грабили народ трудовой. В те времена ни во что не ставили трудящихся – их уделом были надругательства, бесправие, издевка. Не захотел народ больше жить такой жизнью, поднялся против неправды, и ничто теперь не может остановить его, а народ этот – вы!
Данько радостно вздрогнул при этих словах, оглянулся на товарищей: «Мы!»
Словно другими глазами смотрел он теперь на своих боевых друзей, расположившихся по холмам, словно иначе посмотрел и на себя: «Мы! Никакая сила уже не вернет нас к старому! Станем новыми людьми, как сказал Леонид».
– И хотя гремят еще в степи бои и рвутся снаряды, но, думая о завтрашнем дне, мы уже и тут, на плацдарме, должны учиться. Революции нужны сознательные бойцы, революция – это не только освобождение из-под классового гнета, это великий свет для трудового человека, и потому сегодня мы бросаем клич: «Террор темноте!»
«Террор темноте!» Под этим лозунгом в ближайшие же дни была развернута на плацдарме среди красноармейцев работа по ликвидации неграмотности. Не хватало тетрадей, не было грифельных досок – писали мелом на лопатах. Объявил террор своей темнота и Левко Цымбал. В детстве не во что ему было обуться, и потому он не мог зимой бегать в школу. Как почти все в его семье, даже фамилии не умел нацарапать. Зато сейчас на плацдарме Левко набросился на азбуку с голодной, ненасытной жадностью.
– Не я буду, если не избавлюсь от своей темноты!
Он оказался одним из лучших учеников в том кружке, которым стала руководить молодая учительница Светлана.
Мурашко, недавно прибывшая на плацдарм с херсонской агиткультбригадой. Не обычные были перед ней ученики.
– Учите нас, учите! – требовали настойчиво. – Хоть линейкой по ушам, только бы выучили! К черту темноту! Грамотными хотим ворваться в Крым!
– Штыками распишемся на спине барона!
Нелегко давалась хлопцам наука, нелегко было им зубрить азбуку в этой беспокойной степи, где шальные пули жужжат во время занятий и боевым тревогам нет конца… Учиться в этих условиях удавалось только урывками. Однако не бросали – с охотой учились красные бойцы. Вгрызались в азбуку так же настойчиво, как вгрызались в твердую, неподатливую землю плацдарма. И, наверное, самым счастливым в жизни учительницы Светланы Ивановны был тот день, когда, подходя к своему «классу», она увидела поднятые над окопами лопаты, и на каждой из них была жирно выведенная мелом буква, из которых слагалось: «Мы не рабы!»
XVIII
Артиллерия бьет под Каховкой, а на Гаркушином хуторе стекла звенят. Все лето на хуторе толкутся разные штабы. Одни со двора, другие во двор. Однако, несмотря на войну, которая гремит вокруг, несмотря на то, что неясно еще, чья возьмет, привычная работа на хуторе не прекращается. Целыми днями старик с Наталкой молотят хлеб на току. Хлебом-солью встречал Гаркуша кадетскую власть. На самую вершину ветряка взбирался, выглядывая крымчаков из-за Перекопа. Но когда они пришли и, не удовольствовавшись хлебом и солью, съели кабана и всех индеек, заплатив за это какими-то ничего не стоящими бумажками, старик заметно охладел к ним. «Видно, правду говорит Савка: не наша это власть… Пока не будет своей Украины, будут обдирать хутор как липку».
Хотели было назначить Гаркушу волостным старостой, но он отказался, сославшись на немощность: уже, мол, ноги не носят. На самом же деле к тому были другие причины: не доверяет он этой кадетской власти, какой-то непрочной, недолговечной кажется она ему. «Болтают о Москве, а сами Каховку под боком не могут взять».
– Когда уже вы с этой каховской болячкой разделаетесь? – не раз с упреком обращался он к штабистам, имея в виду плацдарм. – Офицерские полки, а с какими-то голодранцами не можете справиться.
Штабной писарь, которому известно, что Гаркушины сыновья тоже скрываются где-то от кадетской мобилизации, не упускает случая уколоть старика:
– А сыны ваши где? Пусть уж голытьба бойкотирует, но вы же столыпинцы! На ваших сыновей, можно сказать, вождь все надежды возлагал…
И тут же нудно и пространно начинает перечислять все, чем белый вождь облагодетельствовал и еще облагодетельствует таких, как Гаркуша. Дает им и то и се…
– А Украину он нам даст?
– Украину? – Врангелевец начинает рассказывать, что из Парижа в Крым на днях по приглашению главнокомандующего прибыли представители какого-то «Украинского комитета» и что будто бы вождь сам лично ведет с ними переговоры…
– И на чем же они там сторговались?
– Ну, об этом еще рано…
«Ну, а ежели рано, ежели Украину не даете, то и я не дам же вам ни сыновей, ни коня, ни сала!»
И стал Гаркуша припрятывать от них, не хуже чем от красной продразверстки прятал. Что днем смолотит на току, ночью закопает. Где-то позакапывал и Наталкин хлеб, выросший на ее ревкомовском наделе.
– Твой? А зачем он тебе? У меня будешь жить, у меня и есть будешь. – А заметив, что батрачка недовольна, добавил с издевкой: – Или, может, побежишь в батрацкий союз жаловаться на меня?
Не к кому было бежать девушке. Далеко тот, что мог бы ее защитить от Гаркушиных обид… Вот уже больше года о Даньке ни слуху ни духу. Ворожея, раскидывая карты, говорит, что его нет уже в живых, однако девушка не хочет верить этой черной, зловещей Минодоре, девичье сердце не хочет мириться с тем, что «кости его – видишь – ужа белеют где-то в степи!».
А когда стало известно, что красные, переправившись через Днепр, закрепились на этом берегу под Каховкой и врангелевцы никак не могут сбить их назад, Наталка словно ожила – только и прислушивалась, что на той стороне. Как загремит под Каховкой, как зазвенят на хуторе стекла, девушке кажется, что это он, Данько, ей оттуда весточку подает: приду, мол, приду. По настроению штабистов она безошибочно угадывала, что происходит на плацдарме. Как переболела у нее душа, когда однажды в небо поднялись аэростаты, а по тракту на Каховку помчались броневики и штаб с хутора быстро направился на конях и в легковых автомобилях туда же. «Завтра, папаша, будем в Каховке, – на прощание заверили хозяина беляки. – Большевистскими трупами запрудим Днепр». А вскорости они стали возвращаться оттуда не похожими на самих себя. Туда шли, как на прогулку, – в английских новеньких френчах и французских галифе, а оттуда возвращались поникшие, растрепанные, покрытые пылью и кровью… Хорошенько, видно, всыпали там! Все на сибиряков валили. Якобы тьма-тьмущая прибыла их в подкрепление плацдарма.
– Вы бы газов на них попросили из-за границы, – советовал белякам Гаркуша, которому слухи о бесстрашных сибиряках тоже теперь не давали покоя.
Бои под Каховкой не прекращались. Тучами шла туда конница, с желтыми ленточками наискосок на кубанках, шли броневики, артиллерия… Разные слухи доходили с плацдарма: то красные белых разобьют, разгонят, размечут по степи, то, наоборот, беляки окружат красную пехоту где-нибудь на открытом месте и изрубят саблями, броневиками передавят.
Случалось, приводили на хутор захваченных в плен красных бойцов, жестоко истязали их, допрашивая, ножами до кости вырезали звезды на лбах. А ночью выводили в степь (хозяин просил, чтобы во дворе не расстреливали), и тогда доносились оттуда далекие предсмертные возгласы расстреливаемых: «За нас отомстят! Да здравствует коммунизм!»
Однажды, когда уже совсем стемнело, на хутор привели десятка полтора захваченных в бою раненых бойцов. Несмотря на то что они едва держались на ногах, беляки выстроили их под окнами штаба.
Конвоиры говорили, что среди пленных будто бы есть важный комиссар, только не знают, который именно.
Молодой однорукий генерал-осетин, появившись перед строем, скомандовал:
– Кто из вас комиссар, три шага вперед!
И после какой-то минуты раздумья шеренга вдруг качнулась и одновременно вся сделала три шага вперед.
На ночь их бросили в сарай, так как сейчас офицерам было не до них. В доме в эту ночь шла попойка, офицеры обмывали чин, только что полученный одним из их компании. Удостоенный нового звания, герой (товарищи называли его бронегероем) сидел за столом на почетном месте, рядом с одноруким генералом. Курчавый бронегерой был еще совсем молод, с его пучеглазого лица все время не сходило напряженное, торжественное выражение, будто он вот-вот рявкнет «ура» и прямо из-за стола бросится в атаку. Был тут среди офицеров и полковой священник, краснощекий здоровяк в рясе, над которым офицеры всегда подтрунивали; правда, он не сердился на них за это и перед боем давал каждому из них целовать руку. Сейчас эта рука привычно и умело разливала по стаканам игристое крымское вино, которое специально для обмывания чина привез только что прибывший из Крыма вояка; он, кажется, в боях еще и не бывал, но вел себя тут как человек обстрелянный и с весом. Лысоватый, с неприятным, следовательским прищуром глаз, он и за столом только то и делал, что набрасывался на каждого присутствующего с неизменным вопросом: «Как мужики? Главное, как мужики к нам относятся?»
Подавая на стол, Наталка незаметно, но внимательно прислушивалась к их разговорам, хотя и не все в них понимала. Священник, подвыпив, говорил о каком-то чуде, которое якобы должно произойти по воле всевышнего в помощь белому воинству. Прибывший из Крыма рассказывал о том, что там, к сожалению, неспокойно, рабочие в севастопольском порту взорвали склады с американским снаряжением, а двум американцам средь бела дня на Графской пристани какие-то матросы побили морду. Представ потом перед военным судом, они оправдывались тем, что избили этих двоих по ошибке, якобы приняв американцев за англичан, хотя, впрочем, они вовсе не жалели о своей оплошности.
Когда было уже изрядно выпито и охмелевший священник затянул старинную казацкую песню, а бронегерой вступил в горячий спор с военным прокурором о новом, только что введенном Врангелем ордене Николая чудотворца, к столу пригласили и Гаркушу. Пригласил его лысоватый, чтобы, как он выразился, услышать от старика «мудрый голос самого населения». Больше всего крымчака интересовало, как проводится в этих местах врангелевский земельный закон.
– Закон? Это вы так величаете тот книксен, который сделал наш вождь в сторону крестьян? – с улыбкой заметил однорукий генерал.
Крымчак ждал ответа Гаркуши. Старик же, хотя и хорошо знал, с каким возмущением Чаплинка встретила врангелевское покушение на ее земельные наделы, решил быть поосторожнее.
– Об этом нам еще рано разговаривать, – ответил он крымчаку теми же словами, которыми отвечал ему штабной писарь на вопрос об Украине. – Вот вы, как бывалый человек, лучше скажите мне: можно ли простому хуторянину, такому, скажем, как я, податься в какое-нибудь иностранное подданство? К примеру, как вон то колонисты живут на нашей земле, а законы над ними то наши…
– Вишь, куда загнул старик, – засмеялся, наполняя стаканы, молоденький офицер с тоненькими усиками. – А в какое же вы подданство хотели бы?
– Да нам в какое угодно, – сказал Гаркуша, – только бы не в чаплинское да не в каховское.
– Отец Пансофий! – обратился вдруг из угла к полковому священнику мрачный, уже, видно, совсем опьяневший офицер. – Вы хорошо помните апокалипсис?
– Помню…
– Не правда ли, там весьма точно определена наша судьба? – Офицер встал и глубоким, каким-то нутряным голосом произнес: – Приидут с севера сонмы варваров и загонят вас на полуостров, подобный Синайскому, и будет то конец всему, конец двухтысячелетнему царствию Христа…
– Этого нет в апокалипсисе!
– Нет? – удивился офицер. – А могло бы быть! – И он как-то через силу захохотал.
Речь зашла о красных, защищающих плацдарм, о каком-то мистическом экстазе, которым они якобы охвачены, о распространенном в красных войсках удивительном пристрастии к самопожертвованию во имя своей коммунистической идеи.
– Лежит разрубленный надвое, – рассказывал бронегерой, – станешь ему на грудь ногой, а он тебе: «За революцию умираю! Рад умереть за нее…» Вы понимаете, рад!
– А с этими, которые в сарае, – улучив момент, осторожно напомнил Гаркуша, – вы их в Крым отправите или как?
– Так у вас тут добыча есть? – сорвался с места лысоватый.
– Да еще и не простая: комиссары…
– Прикажите привести кого-нибудь… Хочу на живого комиссара вблизи посмотреть!
По приказу генерала в комнату ввели одного из пленных. Высокий, немолодой уже, с сединой на висках. Видно, рабочий. Сутулясь, остановился возле печи. Наталка с ужасом смотрела из сеней на его руки, безжалостно скрученные за спиной колючей проволокой, черные от запекшейся крови…
Лысоватый выскочил вперед:
– Ты кто?
Пленный молчал.
– Кто среди вас комиссар?
Измученное лицо пленного было непроницаемо.
– Молчишь? – истерично выкрикнул лысоватый. – Но ты еще не знаешь, какую мы цену предложим тебе!
Пересохшие, воспаленные жаждой губы пленного тронула едва уловимая усмешка.
– Какую?
– Жизнь! Разве мало, а?
Пленный выпрямился, мотнул головой.
– Жизнь коммуниста не покупается и не продается. Она принадлежит не ему.
– А кому? – с любопытством подошел к допрашиваемому священник.
Пленный обвел взглядом присутствующих.
– Тем, кто восстал против вас. Кто разобьет вас!
Лысоватый выхватил револьвер, но генерал не разрешил стрелять.
– Уведите! Мы еще с ним поговорим. Он еще начертит нам схему каховских укреплений.
Однако утром им поговорить так и не пришлось…
Офицеры спали в эту ночь как убитые. Спали, где кого сон свалил: тот на лавке, тот склонившись на стол, кто-то храпел и под столом.
А тем временем из чулана исчезли две кварты хозяйского самогона.
– Старшие пьют да гуляют, а вы чем хуже? – говорила Наталка, угощая самогоном часовых у сарая.
Часовые попались не из тех, кто отказывается от угощения. Немного прошло времени, как они уже пьяно храпели, обняв свои винтовки, а из потихоньку открытой двери сарая осторожно выходили арестованные, переступали через уснувших стражей и бесшумно исчезали один за другим в степи. Утром старый Гаркуша нашел возле ветряка лишь обрывки окровавленной колючей проволоки, которой скручены были их руки…
В тот же день конные конвоиры погнали степью на Чаплинку Гаркушину батрачку, на которую пало подозрение, что она ночью выпустила из сарая пленных.
XIX
Как морские валы во время шторма разбиваются о скалы, так одна за другой разбивались белогвардейские атаки о неприступный Каховский плацдарм. На других участках фронта – от Донецкого бассейна и до Днепра – бои шли с переменным успехом; можно было даже представить их перед союзниками как незаурядные победы: был взят Александровск, на несколько дней захвачено Синельниково, передовые врангелевские разъезды с высоких курганов уже видели трубы екатеринославских заводов.
И только этот каховский тет-де-пон висел на Врангеле, как проклятье. Врангель болезненно переживал неудачу атак на плацдарм. Он сам ревниво следил за всем, что там происходило. В штабном поезде не раз врывался он ночью к телеграфистам, оглушая их своим громовым:
– Что в Каховке?
После неудачных атак на плацдарм и понесенных тяжелых потерь настроение в белых полках было подавленное. Не одному белому рыцарю эта широкая украинская степь с древними скифскими могилами казалась в эти дни тем последним полем боя, откуда им не уйти.
Чтобы поддержать упавший дух своих войск, Врангель учредил новый орден Николая чудотворца и первыми удостоил этой награды «ратных орлов своих» – корниловцев. По этому поводу решено было устроить парад корниловских полков. Местом для парада командование избрало большое прифронтовое село Чаплинку.
Корниловцы знали, что Врангель благоволит к ним: он сам с гордостью носит звание почетного корниловца, но для чего понадобился ему этот парад – парад измученных, оборванных на каховских заграждениях героев? Чтобы поддержать дух поредевших офицерских рот? Или, может быть, у вождя есть какие-то другие, свои, тайные, соображения и расчеты? Судя по всему, парад должен был быть торжественным, помпезным. Ходили слухи, что вместе с главнокомандующим сюда прибудут высшие чины ставки и постоянно находящиеся в Крыму представители военных миссий Америки, Англии, Франции, Сербии, Японии, Польши…
– Инспектировать едут? – с озлоблением говорили в полках участники каховских атак. – Что же, покажемся им, пускай увидят, чего нам стоила Каховка.
В полку, где после помилования служили разжалованные в рядовые Дьяконов и Лобатый, весть о параде была принята как насмешка.
– Пойдем, покажемся твоему Цезарю, – говорил Лобатый Дьяконову, зная, что он, Дьяконов, после того как Врангель отменил ему смертный приговор, стал с еще большей преданностью служить своему кумиру.
Их полк в упорных неоднократных попытках овладеть Каховским плацдармом поредел едва ли не на половину. Не раз и не два бросались офицерские роты на всё укреплявшиеся позиции ненавистного тет-де-пона и, ничего не достигнув, обливаясь кровью, откатывались назад. Многих потеряли навсегда; были случаи, когда не успевали подбирать раненых, и они потом версты ползли степью по направлению к Перекопу. Наконец эти бесплодные, выматывающие атаки были прекращены. В полку в связи с этим поговаривали, что Врангель якобы решил подождать прибытия танков.
– Давно бы пора, – сказал на это Васько Лобатый. – А то уж больно дешевы стали под Каховкой ландскнехты ее величества Антанты.
Был он в эти дни не в духе, обзывал себя и всех батраками Антанты, и, когда поредевший в боях полк, заняв позиции в степи, начал окапываться, Васька хоть и взял лопату в руки, однако больше сбивал ею головки подсолнухов и, лузгая семечки, мрачно издевался над теми, кто неумело и упрямо вгонял непривычными руками лопату в затвердевшую за лето таврийскую землю.
– Ройте, ройте, ваши благородия, – насмешливо бросил он Дьяконову и другим. – Только долго ли будете вы здесь владеть и княжить?
Дьяконов предпочел бы не слушать его мрачных пророчеств, ибо, как это ни странно, Васька Лобатый, этот пьяница, скандалист и циник, не раз уже оказывался прав, как оказался он прав еще тогда, когда, находясь под арестом в Ново-Алексеевском пакгаузе, уверял Дьяконова, что Врангель неминуемо выпустит их, так как ему без них не обойтись: «Мы ведь лошадки для его колесницы!»
И верно, немного времени пришлось им ждать, оба они оказались – не важно, что без офицерских чинов, не важно, что рядовыми в пехоте, но зато в каком! – в «первом из первых», в овеянном славой белом корниловском полку!
Теперь вот должны вывести их на парад. По правде говоря, после непрерывных боев их полк своим внешним видом меньше всего подходил для того, чтобы маршировать по плацу. Однако, когда специально прибывшие интенданты попытались ради такого случая по возможности принарядить белых героев, Васька Лобатый наотрез отказался менять свои боевые рубища на что-либо иное.
– Пусть видит вождь, как общипали под Каховкой ратных его орлов!
И даже обычно сдержанный, Дьяконов присоединился к недовольным:
– Без комедий! Какие есть.
– Только так, в чем есть, – поддержали и командиры. – Пусть видит ее величество Антанта все наши дыры и прорехи!
– Не нам краснеть за них!
И когда настал этот день, корниловцы, прямо из окопов, появились на чаплинской площади такими же, какими были и там, в боях: оборванные, грязные, заросшие щетиной, озлобленные на всех и вся. В своих изодранных на колючей каховской проволоке мундирах они были не похожи на самих себя, однако шли четким строем, с высоко поднятыми головами, которые они с достоинством несли напоказ своему вождю и иностранным миссиям… К месту парада корниловцы прибыли точно в назначенное время – к четырем часам дня, но здесь им пришлось ждать: главнокомандующий с гостями был еще где-то в пути. Впрочем, всех предупредили, что он может появиться с минуты на минуту, и выстроенные полки, не расходясь, ожидали его приезда на чаплинской ярмарочной площади.








