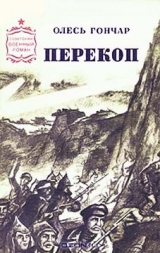
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
– Тпру!.. Стой!.. Кого это ты тут выглядываешь, дивчино?
Покраснев, лукаво повела бровью:
– Весну!
– Ну и как?
– Идет.
Данько закинул голову, прислушивается:
– Н-да… Голосистый какой-то поднялся…
Дивчина тоже прислушалась:
– Жаворонок!..
Вот они уже его разглядели в светлой ясной высоте. Свежая яркая синева и он, пока еще один на все огромное небо. Трепещущей чуть заметной точкой медленно движется куда-то над Чаплинкой. Будто угадав, как радостно слушать его внизу Даньку и Наталке, залился еще задорней, еще звонче.
Тюи!.. Тюи!.. Тюи!..
Далеким перезвоном кузнечных молотов отвечает ему расцвеченная солнцем, охрусталенная Чаплинка.
С жаворонка девушка снова перевела взгляд на Данька:
– Ты это откуда?
– В кузне был. – Данько помахал, позвенел в воздухе связкой запасных подков.
– Все еще куете?
– Одному – перековать, а другому – заново подковать. Тот заказывает зимнюю ковку, а тот – летнюю, а мне, говорю, – весеннюю сделайте! – засмеялся он.
Небо над ними уже снова звенело песней.
– Из всех птиц я почему-то жаворонка больше всего люблю… А ты, Данько?
Парень загляделся в небо: любит ли он жаворонка, эту первую весеннюю, самую радостную пташку? Да если б мог, в сердце бы у себя ее укрыл, чтоб всегда она там пела!
Сквозь нежную песню жаворонка до их слуха вдруг долетел с севера, из-за горизонта, далекий орудийный гул.
Оба удивленно переглянулись.
– Наши, видно, наступают, – догадался Яресько. – Красная Армия идет! Распинался Хлопешка, что не удержаться нам до ее прихода – брешет, удержимся!
– А сам-то Хлопешка – ты слышал? – исчез, говорят, ночью… В алешковские плавни, верно, к Гаркуше подался.
– Туда ему и дорога… Только недолго им там казаковать. Вот как разольется Днепр, их тогда, как крыс, из плавней повыгоняет!
Черноземной брагой пахнут поля. Звенит небо. Скачет улицей знакомый чабанок из маячанских.
– Айда к волости! – кричит он Яресько. – Сбор играют! Из Херсона нарочный прибыл!
Яресько, повернув коня, еще на какой-то миг задержался взглядом на девушке.
Стала сразу серьезна, а глаза еще искрятся смехом, и губы невольно трепещут, точно сами хотят поцеловать.
IX
Когда Яресько примчался на площадь, повстанческое войско было уже в сборе.
С крыльца волости, где стояли члены штаба, как раз говорил какой-то незнакомец, с виду рабочий, в кепке, в порыжелой, потертой кожанке. Лицо землистое, измученное, только глаза обжигают толпу болезненным огнем да голос звонким эхом разносится вокруг.
– Не одни вы – вся Украина сейчас поднимается на крыльях восстания, народной войной идет на интервентов, – гремит далеко над площадью его голос. – Из Херсона мы их выгнали, теперь они в Хорлы перебрались. А почему? Чем привлек их этот заброшенный степной порт? База – вот чем. Любой ценой хотят зацепиться за наш берег! Для того и нужны им Хорлы, чтоб, получив передышку, развернуть оттуда вторую оккупацию Причерноморья, еще раз попробовать углубиться на север, в степи!
– Привязались же! – возмущенно гудит толпа. – Ты их в дверь, а они в окно!
– Осиные гнезда! Пора уже выкурить их с наших берегов!
– Выкуришь, когда четырнадцать держав за ними!
– В открытой степи от них мокрое место бы осталось! А они из-под крыла своих дредноутов не вылазят!
– Есть сведения, – продолжал херсонский посланец, – что греки сейчас берут хлеб в Хорлах, дочиста решили все вымести, как сделали уже это у нас, в Херсонском порту. Товарищи повстанцы! Херсонский Совет рабочих депутатов обращается к вам с братским революционным призывом: не дайте интервентам вывезти хлеб из Хорлов! Это ваш хлеб! Лучше бедноте раздать его, чем позволить вывезти интервентам.
– Флот бы нам! – крикнул из толпы Дерзкий. – Мы б тогда с ними померились!
– Да где же быть флоту в нашей Чаплинке? – завопил Кулик. – Спокон века сухопутная она!
– Флота и у нас нет, – объяснил херсонский товарищ. – Все, какие были, суда те же грабители увели, погнали за море с народным добром… Что же касается нашей красной артиллерии, то она тоже прикована к суше. Провожала их сколько могла, с днепровского лимана выгнала, ну а дальше…
– А дальше, – громко подхватил Килигей, обращаясь к запруженной повстанцами площади, – это уже наша с вами забота. Херсонцы их в хвост, а мы – в гриву! Они их выперли из порта и из лимана, а наше дело – выкурить из Хорлов!
– Конницей на дредноуты? – весело, недоверчиво спросил кто-то из толпы.
– Революция не спрашивает, чем и на кого! – желчно выкрикнул из кучки штабистов Баржак. – Ждать, что ли, будем, пока здесь под окнами ослы Антанты заревут?
– Гнать их в три шеи! – заволновались хлопцы.
– На добром коне грека и в море переймешь!
– Даешь Хорлы!
– Дае-о-ошь!
X
И вот уже мчатся они на рассвете по степному приволью, мчатся атаковать море, голыми саблями рубить бронированные военные корабли.
Было безумием идти в такой рейд, было сумасбродством с такими силами выступать на Хорлы – отрядом легкой конницы при двух пулеметных тачанках атаковать военные корабли интервентов. Конницей на корабли! Не укладывалось это ни в какие уставы, противоречило всем тактикам и стратегиям, и если вчерашний прапорщик Килигей пошел на такое вопиющее нарушение военной науки, то только потому, что твердо верил в счастливую революционную звезду свою и своих хлопцев.
Вечером, перед тем как выступить в поход, Килигей построил на площади все повстанческое войско.
– Перед нами не простой рейд, – обратился он к бойцам. – На Антанту идем, на гибель, может, идем, потому надо, чтобы дисциплина в наших рядах была железная. Я никого не принуждаю, все мы добровольцы, но если кто встал уже под наше знамя, так не фордыбачь, выполняй свой революционный долг до конца. Пока еще не вышли – предупреждаю всех, что у меня, если кто отстанет в бою хоть на шаг, тому – смерть. За случай невыстрела – позор и изгнание из отряда. Мародеров я ликвидирую на месте. Если кто к такой дисциплине не готовый или, может, чует в душе страх перед дредноутами, такой лучше пускай сразу скажет, чтоб потом паники нам не разводил.
Он помолчал, послушал.
– Ну, коли кто есть – говори. Отпущу. Все равно коней на всех не хватит.
Воцарилась тишина.
– А ничего за это не будет? – послышалось вдруг из рядов.
– Ничего!
Качнулась шеренга, и по всей форме – три шага вперед – выступил подпоясанный путом, с герлыгой вместо винтовки… Мефодий Кулик!
– Люди добрые! Пытал тут Дмитро, кто чует страх на душе. Я чую страх на душе. Ну куда я с этой вот герлыгою да против их дредноутов? У них же там орудия такие, что и человек в стволище пролезет! Как ахнет, как шарахнет…
– Довольно, – оборвал его Килигей. – Оставайся, высиживай дома цыплят к весне… Больше охотников нету?
– Не-ету! Не-ету! – весело, стоголосо раскатилось в ответ.
Килигей подал команду на перекличку.
– Первый! Второй! Третий! – громко, отрывисто стам выкрикивать с правого фланга фронтовики.
Килигей стоял перед строем и с затаенной радостью слушал расчет: десятый… двадцатый… сотый… двухсотый! Это уже сила! Пускай еще плохо вооружены, пускай даже по одной на каждого не хватает тяжелых, окованных белой херсонской жестью гранат, которые повстанцы назвали уже «гусаками», пускай! Зато есть руки, что сами рвутся в бой, есть сердца, пылающие революционным огнем, жгучей жаждой очистить родную землю от интервентов!
Светает, светает над степью…
Грозно топочет по тракту конница, покачиваются в предрассветной мгле серые солдатские шапки да косматые чабанские папахи – по три в ряд.
С детства знаком этот путь Килигею. Когда-то шел этим шляхом в неволе, батрацкими ногами месил он здесь горячую пыль, а сейчас возвращается мстителем, борцом за свободу, командиром повстанческого отряда.
Рядом едет Баржак, едут в первых рядах хорлянские ревкомовцы, больше все бывшие грузчики, все те, с кем проходила его молодость на портовых фальцфейновских эстакадах… Эстакады, тяжелые ковши, пот заливает глаза… Даже в такую пору, перед рассветом, когда, обессиленные после целой ночи работы, они падали с ног под тяжестью груза, в Морском саду пани Софьи еще, бывало, гремит оркестр, парусные яхты катают по заливу гостей, безудержно бушует пьяная оргия. Пили там французские вина, а закусывали живыми хорлянскими устрицами, которые пани Софья специально разводила неподалеку от порта на собственном так называемом устричном заводе.
Вспомнилось, как собирались они, рабочие порта, на тайные сходки, как спасли однажды совсем юного матроса, бежавшего с военного корабля… По обычаю грузчиков, пустили шапку по кругу и на собранные деньги подкупили капитана английского судна, как раз бравшего в порту хлеб; так отправили тогда своего юного друга Леню Бойко за границу. Иначе каторга бы ему или петля. Позже слышал, что матрос тот перед самой войной снова объявился в степи, на далеких таборах машинистом у паровика работал.
Все светлее небо, все шире горизонт.
Хорлов еще не видно, только верхушки тополей показались на светлом фоне неба. Что там сейчас? Вряд ли дети и жена ожидают его сегодня. Нелегко будет овладеть Хорлами. Только смелый, безудержно смелый удар может обеспечить успех. Победа их ждет или, может быть, смерть?
А в степи – весна… И уж ветер навстречу, что девичья ласка, и уже не один, а тысячи жаворонков звенят над Яресько, что скачет с товарищами в головном дозоре, прямо в утреннюю зарю, на тополиный порт.
Все выше встают далекие тополя на горизонте. Даньку не приходилось еще бывать в Хорлах, и сейчас, когда он впервые увидел перед собой стайку одиноких задумчивых тополей там, далеко, на грани земли и неба, взволновался так, точно встретил вдруг в незнакомом краю кого-то сызмала близкого, кого-то родного до боли – мать или сестер. Такие же тополя стояли в его родных Криничках на Полтавщине, гнулись и шумели над его далеким детством.
Уже пахло морем: вот-вот покажется оно из-за горизонта.
Данько, вырвавшись с хлопцами далеко вперед, был в это утро в числе тех, кто первым увидел море, у кого восходящее солнце раньше всех заиграло косыми лучами на белом, притороченном к седлу «гусаке».
Где-то у самого небосклона дымил чужой корабль. Один на всем горизонте, темный, мрачный, как призрак… Хлопцы переглянулись между собой:
– Дредноут!
– Как монастырь на море!
– Чей же он?
Яресько стало не по себе. Словно только теперь заметил он неуловимую настороженность, царившую вокруг. И утренняя, прорезанная лиманами степь, и открытое небо над ней, и по-девичьи беззащитные тополя – все точно замерло в ожидании беды, точно оцепенело под жерлами наведенных с моря орудий… Внезапно появившийся на море чужак и впрямь напоминал мрачный монастырь… Вместо куполов – башни, вместо крестов – жерла орудий. Данько чувствовал, как поднимается в нем ярость к пришельцам, явившимся из-за моря разбойничать на его родной земле. По какому праву вторглись они сюда, в этот степной беззащитный порт? Чего они пришли сюда, что им здесь надо? Было что-то глубоко оскорбительное в самом их присутствии здесь, у берегов земли, никогда им не принадлежавшей, под высокими тополями, что, как сестры Данька, стоят над морем!
Щемило в груди, сердце жаждало боя, ноги сами пришпоривали коня.
XI
Припав к гривам лошадей, повстанцы с топотом перелетели через узкий перешеек на косу и, чтоб враг не заметил их в свои бинокли, сбились во рву, под защитой колючих маслин, полосой тянувшихся вдоль запущенного помещичьего сада.
Здесь Килигея уже поджидали представители местных жителей: несколько угрюмых рыбаков в зюйдвестках да инвалид-фронтовик на деревяшке, подвижный, быстрый – минуты не мог устоять на месте.
– Дмитро, Дмитро! – возбужденно кинулся он к Килигею, как только тот соскочил с коня. – Скорей разворачивай своих! Грек перепился. Аккурат самое время его глушить!
– Не пори горячку, Степан, – осадил его Килигей. – Толком докладывай: где, сколько?
– До гибели, до черта! – затанцевал перед ним фронтовик на своей деревянной ноге. Оглядевшись по сторонам, почему-то вдруг перешел на шепот: – Как раз берут хлеб на третьей эстакаде под охраной двух миноносок!.. А там дальше еще баржа, бронекатера, а еще дальше – ты, может, видал – флагман дремлет на рейде!
– Есть, значит, с кем воевать, – нахмурился Килигей.
– Есть, есть, – заплясал фронтовик. – Мы уже и факелы приготовили! И бомбы найдутся, только действуй!
– Вы сперва на устричный завод ударьте, – степенно вступил в разговор пожилой рабочий атаман. – Всю ночь там их офицерня гуляла, еще до сих пор оттуда пьяные крики слыхать…
– Распоясались, – процедил сквозь зубы Баржак. – Видно, не ждали они нас?
– Дозорный у них был на этой стороне, – басовито заговорил молодой рыбак в брезентовой куртке. – Глаз со степи не сводил, да только дело такое… валяется он уже во рву с перерезанным горлом.
Килигей молча бросил взгляд в ту сторону, куда указал рыбак, и, отвернувшись, тут же стал распределять боевые задания: Баржак с частью отряда атакует устричный завод, а остальных повстанцев Килигей сам ведет в атаку на причалы.
Прозвучала команда – взять факелы.
– Все, кто с «гусаками», – вперед!
Теперь уже сколько угодно могли смотреть на них интервенты в бинокли, вволю мог любоваться ими с внешнего рейда адмирал Яникоста, столбенея при виде того, как среди бела дня, не таясь, вылетает из-за колючих маслин степная конница и, вздымая в воздух сверкающие клинки, вихрем несется прямо в море, на жерластые его корабли!
Чего-чего, а налета отсюда адмирал Яникоста совсем не ожидал: ведь ему доподлинно было известно, что в пустынном этом районе красных войск не значится… Правда, доходили слухи, что не так давно взбунтовались здесь села, подняли мятеж чабаны и какой-то прапорщик царской службы формирует, собирает в отряд недовольную голытьбу. Но разве ж это сила? Можно ли было принимать всерьез этот полумифический чабанский отряд таврийской вольницы? Что они значили для него? Не могли ж они голыми своими клинками достать с берега его флот, его бронированные корабли!
И вот на тебе: летят, летят, летят!
Земля не кончилась для них крутыми обрывами берега, как на крыльях вынесло коней прямо на железные эстакады, и уже падают оттуда, сверкая на солнце, большие белые птицы прямо на палубы его судов! Слышно, как душераздирающе взревели в порту сирены, сзывая с берега команду; видно в бинокль ему, как лихорадочно матросы рубят швартовы, а с круч берега и с эстакад все падают и падают на них эти загадочные белые птицы и один за другим вспыхивают на палубах огненные фонтаны взрывов, обволакивая дымом суда… Уходить! Скорее уходить! А то, пожалуй, не от их степных партизанских бомб взлетишь на воздух, а от взрыва своих собственных, начиненных боеприпасами трюмов!
Словно ветром вынесло Яресько в первых рядах атакующих на высокую гулкую эстакаду, и, с грохотом промчавшись по ней, конь его встал на самом краю.
Так бы и мчался дальше, но дальше было море, по-весеннему сияющее, голубое!
Оглянулся – в порту уже кипит бой. Всадники, сгрудившись и на эстакадах, и на обрывистой круче берега, дружно бомбят оттуда лимонками и «гусаками» палубы зажатых внизу судов. Яресько сорвал с пояса и своего «гусака» и, размахнувшись что есть силы, швырнул туда, в дым, в крики, в самую гущу чужих матросов, метавшихся по палубе… Грохнул взрыв, и конь под Яресько, вздыбившись, подался назад. Взрывы, вой сирены, стрельба – сущий ад… В клубах огня и дыма матросы остервенело рубят канаты, с паническими воплями втаскивают в люки раненых. Наконец вспенилась вода, заработали машины. Повернув коня к берегу, Яресько вдруг заметил слева от эстакады еще какое-то судно, неуклюжее, пузатое, с горой пшеницы прямо на палубе…
«Хлебное!» – мелькнуло в голове.
На судне ни души, только сияет над ним огромный круглый прожектор, направленный сюда – на Яресько, на степь. Бьет в глаза, слепит, наведенный прямо на него, круглый, яркий, как солнце.
Выхватив из-за плеча карабин, Яресько прицелился и в упоении выстрелил в это проклятое заморское солнце.
XII
В паническом беспорядке – с обрубленными концами, с поредевшими командами – суда интервентов покидали порт. Долго еще им будут чудиться белые эти «гусаки», что, как живые, со злобным шипением летели на них с эстакад и с крутых берегов, долго еще будет слышаться им отчаянный клич «пали!» и вслед за ним – клубки огня, клубки пылающей смолы, которая падает, льется прямо на головы! Под градом бомб содрогались палубы, вспыхивали от смолы пожары – выход оставался один: поскорее рубить концы и бежать без оглядки, бросая на произвол судьбы тех, что, загуляв, разбрелись по берегу. А оставшиеся, которых так надрывно сзывали сирены, лежали уже зарубленные у лимана, возле устричных бассейнов, или как раз в это время подымали свои офицерские, в перстнях, руки перед обнаженными – сама смерть – саблями повстанцев. В черных беретах, носатые, с блестящими морскими кортиками на боку… Сверкая исподлобья белками, ломаным языком угрюмо просили пощады, а хлопцы, отбирая у них кортики и обыскивая, так крепко встряхивали их заморские души, что устрицы, которых они наглотались, – ей-же-ей – попискивали у них внутри.
В качестве трофеев повстанцам досталось несколько бронекатеров с совершенно исправными английскими пулеметами, баржа с шерстью да груженный пшеницей океанский транспорт, который так и не успел развести пары.
Просторнее стало в порту после боя, облегченно вздохнул, поднявшись на знакомую эстакаду, Килигей.
Выгнали!
Удар конницы был настолько внезапным и ошеломляющим, что ни одно из вражеских судов, поспешно отступая, не попробовало даже огрызнуться, хотя повстанцы, насколько могли достать, провожали их с берега пулеметным огнем с тачанки.
Очутившись на внешнем рейде и только здесь наконец опомнившись от столбняка, интервенты, чтобы хоть как-нибудь отомстить за позорную свою ретираду, стали беспорядочно обстреливать Хорлы из корабельной артиллерии. Да не было еще, видно, ни у Антанты, ни у самого черта таких снарядов, которые могли бы выковырять хлопцев, укрывшихся на родной земле в портовых подвалах и погребах! Бей, сади себе сколько хочешь, если снарядов не жалко!
Через какой-нибудь час-два обстрел прекратился, и повстанцы снова высыпали на берег, покуривая да поплевывая в синее море, наперебой разглядывая в трофейные цейсы незадачливую Яникостову флотилию, заякорившуюся на горизонте. Жаль, что не было у них таких коней, чтоб морем проскакали, чтобы туда добрались!
Под вечер в небе застрекотал гидроплан и, покружив над Хорлами, сбросил в пакете, похожем на воздушного змея, подписанный адмиралом Яникостой ультиматум.
Ультиматум был адресован командиру, но читали его вслух всем.
«Командиру степной партизанской вольницы
Милостивый государь!
Вы с отрядом своей конницы имели дерзость напасть сегодня на мои корабли, пребывающие здесь с высокого соизволения держав Антанты. Вы неслыханно оскорбили флаг, который я имею честь защищать и который я готов защитить всей мощью находящихся в моем распоряжении средств – пушками, гидропланами, а если угодно, то и десантными войсками. Меня не испугают таинственные просторы ваших степей. Я разрушу дотла все села, на базе и в районе которых вы действуете.
Однако должен оговориться: я пришел сюда не как враг, и я не хотел бы никому причинять зла, в том числе – рабочим и крестьянам, которых считаю полезным элементом для страны. Вот почему, если вы желаете поддерживать со мной корректные отношения, я предлагаю вам и требую: а) немедленно освободить лиц, захваченных вами на берегу, находящихся под защитой моего флага; б) немедленно вывести свой отряд с территории порта Хорлы, назначенного местом стоянки моих судов.
Жду вашего ответа до завтрашнего утра в Бакале.
Командующий Яникоста».
– Ну не сукин ли сын? – зашумели бойцы, выслушав ультиматум.
– Он еще и грозится!
Весь берег, усыпанный народом, забурлил, заволновался.
– И кто ему назначил в наших Хорлах стоянку?
– У кого он спрашивал?
– Еще и пугает, шкура!
– Эй, а ну скубента сюда!
Вытолкнули вперед долговязого парня в студенческой тужурке – Алешу Мазура, дружка Яресько по Аскании.
– Накатай этому сукину сыну ответ.
Кто-то подал Алеше листок из конторской книги, кто-то ткнул огрызок карандаша:
– Послюни и пиши!
– Пиши: калимера – это по-ихнему «здравствуй»…
Студент пристроился на эстакаде, свесив ноги.
– Куда же писать?
– Вот еще! Не знает куда!.. Адрес известный? Украина – Черное море – крейсер «Отчаливай»!
– «Отчаливай»! Ого-го!..
– Написал «Отчаливай»? Ну, катай дальше!
– Катаю, по что?
– Калимера, Яникоста…
– Нет! Ты ему таким манером, как запорожцы турецкому султану когда-то! Забыл?
– Пускай Дерзкий подскажет! Он то письмо наизусть заместо «отче наш» заучил!
– Дерзкий, а ну!
Прокашлялся Дерзкий, поправил бескозырку над рыжей бровью, обернулся с серьезным видом к морю, посмотрел в сторону чуть видного на горизонте вражеского флагмана.
– Ты, шайтан турецкий, – начал он таким тоном, точно адмирал Яникоста и в самом деле мог его слышать в этот момент, – проклятого черта брат и самого Люцифера секретарь! Какой из тебя рыцарь, если ты голою той самой ежа не убьешь?! Вавилонский ты кухарь, – произносил он чем дальше, тем все энергичнее, в нарастающем темпе, – македонский колесник, иерусалимский пивовар, александрийский козолуп, великого и малого Египта свинарь, татарский сагайдак, херсонский кат, Антантин подлипала, самого аспида внук и всего земного и подземного царства скоморох! Никогда тебе нас под себя не согнуть: и сушей и водою будем биться с тобою! Вот так тебе красные повстанцы отвечают! Числа не знаем, потому – календаря не читаем, месяц в небе, год в книге, а день у нас, что и у вас, – поцелуй за это вот куда нас!
Дерзкий, отвернувшись от моря, показал Яннкосте куда.
Бойцы хохотали до упаду.
– Ох и начитается же, ха-ха-ха!
– Ты ничего там не пропустил, Алеша?
– Адмирал – он любит чины!
– Там, где козолуп, еще и жабоеда добавь!
– Верно, он же из тех, что головастиков глотают!
– Что для тебя головастик, то для пана устрица.
– Так и пиши: македонский ты жабоед, херсонский катюга, английской королевы холуй, мирового капитала прихвостень!
– Отчаливай, пока не поздно! – неслись веселые угрозы в море. – Катись колбасою за горизонт!
– А день у нас, что и у вас…
– Месяц в небе – ха-ха!..
– Год в книге – го-го!
До самого вечера шумел берег, гремел над причалами раскатистый хохот степовиков. Наконец письмо было составлено, и Алеша-студент вывел под ним официальный титул: «Дмитро Килигей, командир повстанческого отряда имени Т. Г. Шевченко, со своими бойцами».
Для передачи ответа Яникосте решено было использовать захваченных греков. Отобрав несколько греческих матросов, повстанцы выделили им старый рыбачий баркас и, пожелав в другой раз не попадаться, с миром отпустили в море, к своим. Когда они отплывали, Килигей, стоя на эстакаде, нарочито громко отдавал Житченку приказ – в течение ночи подкатить из Каланчака артиллерию и до утра установить ее на косе Джарылгач с тем, чтобы закрыть завтра флоту Яникосты выход в море.
Никакой, конечно, артиллерии в Каланчаке не было, однако из могучей глотки Житченка только и вылетало:
– Есть подкатить! Есть установить!
Упоминание о мифической партизанской артиллерии – это своего рода дополнение к письменному ответу на ультиматум, – видно, подействовало кое на кого из отплывающих именно так, как и рассчитывали повстанцы: утром кораблей на рейде уже не было.
XIII
Слух о том, что отряд Килигея, выгнав из тополиного порта интервентов, отбил при этом большие запасы хлеба и шерсти, быстро разнесся по южным селам и хуторам, и уже на следующий день на хорлянскую косу спешили из степи брички, возы, фургоны. Ошалевшие от жадности подводчики, больше всё бородатые хуторяне в чумарках, не видя ничего вокруг, наперегонки гнали лошадей прямо к причалам.
– Стой! – перехватывали их бойцы. – Куда разогнались?
– Как это – куда? – тяжело переводили дух подводчики. – А за хлебом, за шерстью! Разве уже растащили?
– Нет, вас поджидаем: как же без вас?
– Вы не шутите! Скорее надо разбирать, а то еще вернутся! Думаете, вы их далеко отогнали? Давайте делить скорее!
– Грабь награбленное, так, что ли? Нет, этот номер не пройдет!..
Насчет этого у Килигея было строго. После захвата порта, пока они с Баржаком огляделись, пока Килигей сходил проведать семью, вернулся, повстанцев уже не узнать: все в новеньких шинелях табачного цвета, все переоделись в греческое обмундирование.
– А ну снять! – накинулся на них Килигей. – Чтоб ни на ком не видел! В холсте и ситце армия моя будет!
Такова она и сейчас – в холсте да в ситце.
Все захваченное зерно Килигей приказал взять на учет, и затем сам с командирами занялся его распределением. В первую очередь из полученных запасов выделено было зерно полупролетарскому населению Хорлов, которое дружно помогало отряду выкуривать интервентов. В числе прочих получила свою долю и Килигеева жена, получила не больше и не меньше, чем семьи других фронтовиков. Решено было также оказать помощь бедноте Чаплинки, Каланчака и других сел, проследив за тем, чтобы помощь эта попала кому следует: вдовам, да сиротам, да многодетным и неимущим селянам, которым, может, и посеять нечего.
Среди них к Килигею явился… – кто бы мог подумать? – Мефодий Кулик! Притопал пешком из самой Чаплинки, в задравших полозьями носы постолах, с порожней сумой через плечо, как у сеятеля.
Можно было ожидать, что после недавнего случая на чаплинской площади, когда он при всем честном народе объявил себя трусом и выбыл из отряда, Кулик будет чувствовать себя перед Килигеем смущенно, что посовестится Он смотреть в глаза тем, кто без него выкуривал здесь осиное гнездо интервентов и отбивал у них народное добро.
Однако Кулик, видно, был твердо убежден, что из только что отвоеванного хлеба и ему по праву принадлежит соответствующая часть. Здороваясь на ходу с односельчанам я, он разыскал на далекой эстакаде командира отряда и, в двух словах доложив ему, что в чаплинских тылах все в порядке, тут же скинул свою облезлую баранью шапку я вытащил оттуда засаленную, сложенную вчетверо депешу.
– На, разбирай, Дмитро.
– Вот пошли меморандумы, – взяв бумажку, сказал Килигей. – Тот – от Яникосты, а этот от кого же?
– А это лично-персонально от меня, от чаплинского гражданина Кулика.
– Что же ты тут нацарапал?
– Ты читай, читай…
Килигей неторопливо развернул густо исписанный закорючками листок.
«Начальнику побережья Черного моря,
защитнику труда, тов. Килигею
С детства мыкаясь по наймам, много лет проработав на собственницу-помещицу, называемую в народе Фейншею, я хоть в жизни не пил и не мотал, однако остался и поныне в великом убожестве. Нарожденный в степи, в кибитке чабана, работая сызмала пастушком-верблюжатником и сильно забитый и задерганный со всех сторон панскими холуями, не имел я в сердце львиной отваги, чтобы героически выступить в рядах красных повстанцев на бой с душительницей Антантой.
Однако есть хочется каждому, голодных ртов полна хата, дети малые, они ни в чем не повинны, а как вырастут, так еще послужат революции достойно. Так что я прошу красную державу рабочих и крестьян помочь мне посевным зерном, которое с лихвою при первой возможности верну.
Проситель Кулик».
– Вот так закрутил, – сказал Килигей вполголоса, прочитав Куликов меморандум. – И складно и жалобно… Кто ж это тебе так, не к дьяку ли ходил за помощью?
– Своим умом живу.
Килигей, улыбнувшись, обратился к бойцам, которые как раз перетаскивали зерно с парохода на берег:
– Ну как, хлопцы, дадим Кулику на посев?
– Оно после всего и не следовало бы, – зашумели в толпе. – Как-никак выбыл из наших рядов… За печкой отсиживался…
– А дети есть? – спросил дед – вожак хорлянских рыбаков.
Кулик выпрямился:
– Если говорить по правде, так больше, чем у меня, потомков ни у кого в Чаплинке нет! Целая босая команда в хате! Иван Кулик, Демьян Кулик, Петро Кулик, Федор Кулик!.. Мал мала меньше! Есть еще и такие, что в люльке.
Бойцы засмеялись.
– В летах дядько, а потомков, вишь, нажил…
– Да так уж случилось, – словно оправдываясь, заговорил Кулик. – Это как при севе бывает: один выйдет рано, до рассвета, сюда горсть, туда горсть, до обеда, глядишь, уж и отсеялся. А я, хлопцы, – голос его как-то жалостно дрогнул, – из-за бурлацкой своей жизни поздно вышел, когда солнце юности моей к закату уже повернуло…
– Не журись, – хлопнул его по плечу Житченко. – Поздно посеял, да густо взошло.
– Что густо, то густо, – усмехнулся Кулик в свою полынно-кураевую бороду. – Днем и не видно, а вечером как сбегутся к миске, так и не разберешь, все ли мои или соседских еще половина… А ну, стройся на перекличку! По порядку номеров! Иван! Демьян! Федько! Петько!.. Проверишь – выходит, что все свои, всех кормить надо.
– Да пусть растут на здоровье, – весело зашумели бойцы. – Еще нам солдаты во как понадобятся!
Дали Кулику зерна. Даже закряхтел Мефодий, вытаскивая из трюма пятипудовую свою долю на берег.
Килигей тем временем приказал снарядить красный обоз с зерном в подарок бедноте Чаплинки и других сел. Закипела работа! Насыпали мешки по самую завязку, наскоро надписывали на них, кто кому посылает, а потом, взяв за углы, кидали с размаху в кулацкие возы, так что они только поскрипывали и стонали, оседая под этой тяжестью. Кидали пожилые фронтовики, кидала молодежь, кинул, захваченный общим настроением, и Яресько вместе со своим другом Яношем. Подводчику, старому Гаркуше, хлопец долго и строго наказывал, куда, под чье окно доставить.
– А мне? – жадно обводил глазами мешки Гаркуша. – Добудь что-нибудь и на мою долю, а?
– Наша, дед, пшеница у вас не взойдет, – ответил Яресько.
– Ишь ты! Это почему?
– Сорт такой. Пролетарский!
– Ну где же это правда на свете! Не дали ни зернышка, да еще и фурманов из нас сделали, – никак не мог успокоиться Гаркуша. – Хоть шерсти тюк под задницу деду дайте, чтоб мягче в дороге сиделось!
– Кому это здесь шерсти занадобилось? – грозно спросил Килигей, появляясь из-за возов.
Гаркуша угодливо засуетился:
– Это мы, фурманы… Нам и шерсть годна, абы кишка полна.
– На вашу кишку вовек не напасешься, – нахмурился Килигей. – Сын и по сю пору петлюровской мотнею Украину метет?
– Да что ж сын…
– Отчаливайте, обоз уже двинулся!
Тронулись, поскрипывая, возы; задумчиво смотрел вслед им Килигей. Впервые с тех пор, как существует этот тополиный порт, обозы с хлебом идут не из степи, а в степь, не в темные трюмы чужих судов таврийское льется зерно, нет, оно подымается из трюмов на-гора к солнцу, к весне, снова возвращаясь к тем, кто его вырастил, кто его посеет…
Подошел Баржак, стал рядом и тоже засмотрелся:
– Что же, сбылось, Дмитро?








