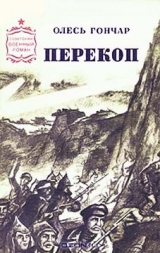
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Во всем будет чувствовать дивизия нехватку, но только не в людских резервах. Пойдет по Уралу – и пополнится уральцами; пойдет по Сибири – пополнится сибиряками – смелыми таежными партизанами. Суровый край, где человек с малых лет привыкает к трудностям, с детства приучается выслеживать зверя и воевать с природой, весь этот край станет для дивизии неистощимым резервом.
После разгрома Колчака дивизия получит передышку. Отложив винтовки, бойцы примутся за учебу. Будут ремонтировать разрушенное полотно Сибирской железной дороги. Станут добывать уголь в Черемховских копях…
Оттуда, из вечных сумерек тайги, из шахтных подземелий, – прямо в край слепящего, невиданной силы солнца! После суровой природы Прибайкалья, после полутьмы теплушек такой блеск, такая роскошь, такая ослепительная мощь украинского лета! Все, что открывается вокруг, вызывает любопытство и удивление. Белые хаты? Тополя? Сады? А почему эти сады в красном, словно в запекшейся крови?
Были среди северян и такие, которые отродясь не видывали арбуза, не пробовали на вкус спелой вишни. После уральских горных «увалов» и вечной тайги для них необычными были и просторы украинской степи, и степное яркое небо, что так и горит над тобой от разлива света, необычными были тут и ночи – мягкие, бархатные, исполненные невыразимого очарования…
На паровозах, на крышах вагонов еще видны неубранные пулеметы – последние сутки эшелоны двигались при усиленных дозорах: были предупреждения о возможных налетах банд.
Станция бурлит народом. Всюду гомон, суета, пробегают озабоченные политруки с пачками свежих листовок, спешат бойцы, позвякивая котелками, кого-то разыскивают вестовые.
У куба с кипяченой водой – толчея, столпотворение, не пробьешься. Яресько со своей полубосой командой тоже тут. Чтобы напиться, нужно хорошенько поработать локтями и плечами. Самым пробивным из их команды оказался Левко Цымбал: не успели хлопцы оглянуться, как он – ну совсем верблюд, со своей деревенской торбой на спине – уже протиснулся в самую гущу, уже с кем-то сцепился там; на него набросились со всех сторон:
– Куда прешь, махновец?
Зажатый в толпе, потряхивая давно не стриженным чубом, он пытается что-то объяснить, но это только поддает жару:
– Он еще и огрызается!
– Заткните ему глотку прикладом!
Увидев, что товарищ попал в такой переплет, Яресько опрометью бросился ему на выручку, полез в самую гущу.
– Что вы на своего навалились? Для беляков приклады приберегите!
Когда выяснилось, что перед ними свой, из полтавских красных добровольцев, сибиряки сразу стали добрее, развеселились.
– Не серчай, дружок, – успокаивали они Левка Цымбала. – Это нас чуб твой подвел: уж больно на махновский смахивает.
– Да ведь и Гуляй-Поле где-то здесь, сказывают, рядом.
А через каких-нибудь полчаса они уже все вместе – и сибиряки и полтавчане – сидели гурьбой в тени пристанционных тополей, дружно угощались душистыми дынями-скороспелками, которые принес взводный Старков – живой, разбитной синеглазый парень.
– Ешьте, ребятки! – вывалил он дыни прямо в кружок. – Поправляйтесь!
Весело было здесь. Не умели сибиряки дыни есть, и Яресько, смеясь, учил их, как это делается:
– Семечки вычищайте, шкурку выбрасывайте – у нас этого не едят…
Среди тех, кто угощался дынями, с особенным аппетитом уплетал их здоровенный круглолицый детина, над которым все время посмеивались товарищи, называя его земляком Гришки Распутина.
Полтавчане посмотрели на него с интересом.
– Ну да, – не стал возражать боец. – Мы с ним из одного села, из Покровского, это на тракте от Тюмени к Тобольску… Только у меня с тем «святым старцем» программа в корне разная. Еще сызмальства я натуральной контрой считал и его, и матушку царицу, которая к нему приезжала…
– Ну а ты, Ткаченко, почему перед земляками не признаешься? – весело подзуживал взводный другого своего бойца, неразговорчивого, задумчивого и уже пожилого мужика. – Расскажи им про свой курень, а?
Ткаченко, поглаживая усы, сдержанно усмехнулся. Что же, было. По милости адмирала Колчака пришлось и ему надеть английскую шинель: сразу же после тифа был мобилизован и зачислен в 1-й украинский «имени Тараса Шевченко» курень… В курене собрались стреляные хлопцы: фронтовики, пленные красноармейцы, – одним словом, люди, которые не раз до того под красными знаменами ходили…
– Было это, помнится, – спокойно рассказывал Ткаченко, – в пасхальные дни в селе Кузькино Самарской губернии. Как раз на кладбище крестьяне поминки справляли, и наши хлопцы, забежав сюда, стали, как цыгане, хватать у теток из рук куличики и крашеные яйца. Пришлось выставить часовых с винтовками для охраны порядка на кладбище. За эту услугу поп выделил из панихидных калачей и для наших часовых кое-что, да только они, начав дележку, не помирились между собой и подняли такую ругань в бога и Христа, что поп бежал с кладбища, оставив все свои куличи. Вот смеху-то было!.. А вечером офицеры велят нам занимать позицию – позицию против красных, которые стояли в соседнем татарском селе. Вот тут и показал себя наш имени Тараса Григорьевича курень! По своим стрелять? Не будем! Все сотни разом взбунтовались, офицеров, которые лютее, подняли на штыки, а сами – шагом арш! – с красными знаменами туда, к своим.
– Так что и на консерву ихно не позарились? – смеялись бойцы.
А взводный Старков, наклонившись к Яресько, объяснил:
– Это Колчак все заманивал нас к себе американской консервой. Бывало, как сыпанет на головы с аэропланов листовок да банок с консервами: у вас там, дескать, голодуха, «и-го-го» едите, а у меня, мол, жизнь райская… А мы консерву поедим, листовку скурим и снова: «Марш, марш вперед, рабочий народ!..»
Яресько уже знает о Старкове, кто он такой и откуда: пока тот бегал за дынями, товарищи рассказали о нем. Сын шахтера и сам шахтер с кизеловских шахт, тех самых, где дивизия зарождалась. Еще подростком бросился «в кипящий котел революции». Рассказывали, как он, этот невидный собой Старков, во время одного тяжелого боя в сибирских болотах выручил целый батальон, добровольно вызвавшись прикрывать его пулеметом… Яресько, глядя на него, думал: «Хорошо бы иметь такого товарища в бою». По всему видно, любят его во взводе. Даже старшие по возрасту безоговорочно слушаются его, но слушаются, чувствуется, не только потому, что он командир над ними – дружат они между собой, взводный и его подчиненные. Для каждого из них Старков – и командир, и близкий человек. Если надо по делу кого послать, то прикрикнет и поторопит, а если нужно, то и сам за дынями для товарищей сбегает… Ростом невысок, но такой живой, такой ловкий крепыш, что вряд ли и двое с ним справятся – выскользнет, увернется из рук. Лицо худощавое, глаза синие, как у девушки. Просто удивительно, как это у человека, выросшего на шахтах, под землей могут быть такие нежные, такие небесно-синие глаза…
– У вас тут житуха!.. – доверительно говорит Старков, обращаясь к Яресько. – Вишни вон там ведрами продают. Дынь, абрикосов, фрукты всякой – горы… Все растет, все вызревает: юг!.. А я, поверишь ли, – голос его дрогнул, – вырос и не видел, как это сад цветет… Только из песен и звал.
– Так зато ж у вас тайга!
– О, тайга у нас могучая, это верно. Когда гнали Колчака, в лесных чащобах на такие селения натыкались, что тамошние не знали, какая и власть на свете…
Но перрону торопливым шагом идет группа военных. По особой подтянутости, по суровой напряженности озабоченных лиц можно догадаться, что это командиры. В центре уверенно шагает крепко сложенный мужчина среднего роста, с коротко подстриженными усами, в военной фуражке, посаженной плотно, по-рабочему. Он на ходу что-то говорит товарищам, то и дело взмахивая рукой. На груди у него, на простой солдатской гимнастерке, издали видно пламенеющее, яркое пятно.
– Что это у него на груди краснеется?
– Орден Красного Знамени… Первым в республике его начдив наш получил.
– Так это начдив? – приблизившись к группе красноармейцев, спрашивает местный железнодорожник в замасленной робе. – А это правда, будто он бывший офицер немецкого генерального штаба?
Старков смеется.
– Это везде про него такие басни распускают, потому что фамилия у него вроде немецкая: Блюхер. А на деле рабочий он, металлист, весь красный Урал его знает… – на телеграф завернул…
– Может, с Ильичем будут разговаривать?
– Сказывают, потому и задержали нас, что нового распоряжения ждем.
Некоторое время бойцы посматривают на эшелоны, застывшие на рельсах.
– Куда все же отсюда наша путь-дороженька ляжет? – озабоченно произносит Старков, не отрывая глаз от сверкающих на солнце рельсов. – От суровых берегов Байкала и до… до?..
Он перевел взгляд на только что подошедший эшелон, украшенный ветками сибирских елей, с плакатами на вагонах, где смешивают с землей шляхту и пана Пилсудского.
– Не придется ли нам с этими плакатами да в другую сторону поворачивать? – замечает Ткаченко.
Раскаленные на солнце рельсы, паровозы, платформы – все пышет зноем. Дремлет на платформах артиллерия. Низкорослые сибирские лошади тоскливо ржут в вагонах, почуяв поблизости, за станцией, настоянную травами степь, и волю, и простор…
IX
Вскоре и в вагонах запахло степью…
Пока паровозы набирали коду и перекликались, маневрируя где-то на стрелках, в эшелонах устроили нечто вроде летучего субботника. Пример подали синельниковские девчата, пришедшие вечерком к эшелонам с вениками, ведрами и охапками свежей степной травы.
– А ну, шахтеры, – смеясь, подступали к вагонам девчата, – как вы тут поживаете? Давайте мы приубраться вам поможем ради субботы!
– Чтоб нас вспоминали да злее панов били!
– Ну что ж, убираться так убираться, – обратился к своим взводный Старков, во всю ширь раздвинув дверь вагона. – Верно, ребята? – Вылинявшая фуражка уже сидела на нем как-то залихватски. – А ну, давай сюда швабру да кипяток! Смерть блохам и шляхте!
И, засучив рукава, он первым принялся скрести и мыть пол в своем вагоне. Это всех разохотило. Глядя на взвод разведчиков, взялись и соседи-артиллеристы, закипело дело у саперов, и через каких-нибудь полчаса по всем эшелонам уже шла уборка, мелькали веники в руках раскрасневшихся бойцов и девчат. Всюду стоял незатихающий гомон, шутки, смех.
Еще не погасла в степи вечерняя заря, а вагонов уже не узнать: полы вымыты, прошпарены кипятком и, как в доме у хорошей хозяйки, посыпаны свежей степной травой.
Под высокими тополями пристанционного скверика в этот вечер на все лады заливалась голосистая гармонь. То полтавскими напевами, то уральскими страданиями будоражила она сердца чувствительных синельниковских девчат, мечтательно склонившихся друг другу на плечо. Бойцы и командиры, те, что шли на шляхту, и те, что на Врангеля, – все смешались тут. За спиной гармониста, словно охраняя его со всеми его думами и страданиями, выстроились только что прибывшие московские курсанты.
Когда же гармонист неожиданно ударил «казачка», из толпы в центр круга откуда ни возьмись вихрем вылетел гибкий и на диво легкий паренек из добровольцев. Рукой придерживая фуражку, он чертом пошел по кругу.
– Шире круг!
И толпа качнулась, раздвинулась.
– Еще шире!
И круг стал еще шире.
Было здесь на что заглядеться и синельниковским девчатам, и крепким сибирякам, из которых не один в эту минуту чувствовал себя увальнем. Тут и впрямь сам черт шел по кругу! Земли не касался, а дымилась земля, сам по воздуху плыл, а из-под ног пыль столбом. По чабанской сыромятной обуви его можно было принять за степняка, а по упругости и легкости он больше походил на горца. Кто такой? Толпа затаила дыхание.
– Ух, сатана! – наблюдая за танцором, негромко переговаривались бойцы.
– Этот докажет!
А танцор, доказав свое, тряхнул чубом и уже снова стоял в группе товарищей, разгоряченный, веселый, и было слышно, как взводный Старков удивленно-радостно обращается к нему:
– Ну, брат Яресько, не знал я, что ты такой мастак… Не «казачок» – огонь!
Железнодорожник, который недавно расспрашивал о начдиве, тоже с любопытством смотрел на Яресько, будто не ожидал, что тот так ловок плясать.
– Да ты, брат, любого махновца переплясал бы!
– А вы что, дядьку, видели махновца?
– Что махновцев – самого «батька» ихнего видел, как вот тебя.
– Где же это вас с ним судьба свела?
– Да здесь же, на станции. Еще когда в красных комбригах ходил.
Заинтересованные сибиряки окружили железнодорожника.
– А каков же он из себя, этот Махно?
– Да такой… Крутой… Наши рабочие и телеграфисты как раз несколько месяцев без жалованья сидели. Семьи голодают, пайков никто не выдает. Железной дорогой все пользуются, а рабочим платить некому. Давай, думаем, обратимся еще к Махно. Послали к нему целую депутацию с жалобой: «Батьку, помоги! Распорядись выдать харчишек, что ли. Вся железная дорога голодает…»
– Ну и как, выдал?
– Держи карман шире!.. «Мы не большевики, – говорит – чтобы кормить вас от государства…» – «Но ведь дороги, – говорим, – телеграф…» – «Ну так вы с тех и требуйте, кому служат ваши дороги да ваш телеграф. А мне ваши дороги ни к чему: мои тачанки и без рельсов пройдут, куда захочу…»
Где-то поблизости запахло офицерским табаком.
– Славный табачок… Крымский! – повел носом Яресько. – У кого это там?
Молодой красноармеец с забинтованной головой охотно угостил Данька своим ароматным табачком. По всему было видно, что боец из тех, кто уже понюхал врангелевского пороха. Таких тут было немало. С лазаретами или по какой-либо другой оказии прибыв с юга, они принесли с собой горячее дыхание близких боев; курили они офицерское курево, их даже узнавали по запаху дыма: не едкой батрацкой махоркой дымили, а небрежно попыхивали через губу легким дымом дорогих крымских табаков.
Яресько разговорился с этим раненым. Сладко затягиваясь, Данько все расспрашивал, в каких тот бывал боях, где ранен, что там и как там. Хотя и смешно было надеяться, но сердце все-таки ждало: а вдруг удастся услышать что-нибудь о знакомых степных местах, о близких людях и о той, которая милее и ближе всех, – о его синеокой любви… Однако у бойца только и было на языке что атаки, броневики, аэропланы, отступления да наступления…
– То мы от них бежим, то они от нас. Под Ореховом по двенадцать раз в день ходили мы в атаки на них. Броневиков у них тьма! Конницы – черньм-черно! Да еще французские аэропланы с неба помогают… Под Мелитополем, говорят, нашим кавалеристам крыльями головы сбивали…
Невеселые вещи рассказывал раненый, и, хотя не всему верили бойцы, все же чувствовалось, что там и впрямь ад.
И хотя там был ад, и все небо в шрапнели, и смерть подстерегала на каждом шагу, никто, однако, не думал о смерти, наоборот, все рвались именно туда, где она разгуливала, где вся степь охвачена огнем атак. И когда поздней ночью подали наконец эшелон в ту сторону, красные добровольцы бросились брать его штурмом.
Яресько со своими хлопцами раздобыл себе «плацкарту» под звездами, под открытым небом – на крыше вагона.
– Вы не очень скучайте там по нас! – бросил ему снизу Старков, стоявший на перроне в толпе провожающих. – Вы одной дорогой, мы другой, а там, глядишь, где-нибудь еще и встретимся.
По боевому маршруту идет эшелон, боевой клич бросают в темноту паровозы. И уже новую, услышанную от уральцев, песню заводят пулеметчики, пристроившиеся на тендере:
Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон…
Ветер свистит в ушах, врассыпную разбегаются деревья, и уже, подхваченная всем эшелоном, песня мощно бьется под звездным небом, все дальше врываясь в степные просторы:
…От тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней!..
X
На крышах вагонов в эту ночь никто не спал. То пели, то гуторили, то дремали беспокойно, все время опасаясь, чтобы, уснув, не вылететь, как говорится, за борт.
Чем дальше продвигались в степь, тем все тревожнее становилось вокруг: эшелон шел по махновским краям. На одном из перегонов из степной темени неожиданно вынырнул отряд конницы и, не отставая от эшелона, вскачь помчался наперегонки с поездом – не приближаясь и не отдаляясь. Кто они, эти черные далекие всадники, летящие на горизонте? Махновцы? Или, может, местная батрацкая молодежь, которая тоже поднялась в поход и на кулацких реквизированных лошадях мчится теперь бить барона? На всякий случай по эшелону была выставлена усиленная охрана. Московские курсанты, ехавшие на той же крыше, что и Яресько со своими полтавчанами, все время не отрывали глаз от степи – они залегли у пулеметов, как перед боем.
Высокими снопами искр поезд пробивает тьму, и все дальше в степь летят за огненным столбом темные вагоны с кучками людей на крышах и далекие неизвестные всадники, растянувшиеся по горизонту в том же направлении, что и эшелон. Глубокая ночь, ничуть не похожая на те белые, напоминающие рассвет петроградские ночи, которые Яресько недавно видел, когда привез питерцам эшелон с хлебом. Сейчас, хотя степь была окутана тьмой, где-то там, впереди, уже чувствовался еще не родившийся, но уже трепещущий рассвет.
На зорьке повеяло прохладой, и люди, чтобы согреться, еще плотнее прижались друг к другу. Левко Цымбал полами своей свитки прикрыл сразу несколько соседей, пустившихся в дорогу в одних рубашках.
Рядом с Яресько, натянув кепку до самых ушей, горбится в пальто сухощавый человек преклонных лет – один из тех гражданских, которых при посадке в Синельникове хлопцы приняли было за мешочников и едва не спустили с крыши. Уже тут, в дороге, выяснилось, что эти пассажиры вовсе не мешочники, а столичные инженеры, которые с мандатом Ленина едут в Александровск обследовать Днепр и его пороги. Странно было среди курсантской и добровольческой молодежи видеть этих сугубо гражданских, мирно настроенных и погруженных в себя людей, которые от самой Москвы пробираются всеми способами до порожистого Днепра искать и обмеривать место для будущей электростанции.
Глядя на инженеров, нахохлившихся в темноте, Яресько почему-то вспомнил екатеринославца-продотрядника, который зимой ночевал у них в Криничках. С какой верой и убежденностью говорил он тогда о появлении первых электрических ласточек в республике и о той большой электрической весне, которая рано или поздно наступит… Электрическая весна! Тогда это звучало сказкой; однако не сказкой, видимо, и не пустой выдумкой был тот разговор, если уж в такое грозное для республики время едут люди от Ильича, чтобы под самым носом у Врангеля обследовать и измерять Днепровские пороги.
– И вы сами видели его? – оживленно расспрашивали бойцы инженеров. – Какой же он, наш Ильич? Как его здоровье?
Один из кремлевских курсантов рассказал, что он тоже видел Владимира Ильича. Вместе с ними, с курсантами, Ленин носил бревна на субботнике…
– Дело было так: в начале весны решили мы очистить кремлевскую площадь от всякого хлама – там кучами были свалены доски, бревна, камни. По примеру московских рабочих устраиваем субботник. Только выстроились утром на площади против казарм, смотрим – к нам направляется Владимир Ильич. Подошел, по-военному отдал честь и обращается к командиру: «Товарищ командир, разрешите присоединиться к вам для участия в субботнике». Командир на мгновение даже вроде растерялся, а потом говорит: «Становитесь, Владимир Ильич, на правый фланг». Владимир Ильич быстро прошел на наш правый фланг и стал в шеренгу… Ребята, которые с ним бревна носили, старались на себя больше тяжесть взять, чтоб Ильичу было легче. А он это заметил и погрозил им пальцем. «Вы, – говорит, – не хитрите».
– А то еще был такой случай, – вмешался в разговор другой курсант. – Один из наших бойцов стоял в Кремле на посту и вдруг почувствовал себя плохо. Ильич, заметив это, сам вынес ему из кабинета стакан горячего чаю. «Выпейте, – говорит, – это поможет».
Яресько лежал, слушал разговоры товарищей о Владимире Ильиче и думал о нем так, будто и сам близко знал его в жизни, будто и сам не раз ощущал на себе его теплый взгляд и, заболев, принимал стакан горячего чаю из рук Ильича. Как просто, с какой лаской в голосе называют его хлопцы: Ильич! Наш Ильич! Когда все голодают, и он на восьмушке хлеба живет. Когда все выходят на субботник, и он наравне с курсантами идет бревна носить. «Если бы все люди были такими, как Ильич, – думал Данько. – Станут ли такими когда-нибудь?»
Все заметнее рассвет. Степь вокруг становится все светлее, просторнее, шире. Давным-давно уже отстали, оставшись за горизонтом, конники, пытавшиеся обогнать эшелон. Пахнет летней степью, росами, стерней… В дальних ложбинах тают седые туманы, в небе на востоке все выше разгорается заря…
Утро республики!
И хотя впереди была неизвестность, хотя где-то там, в степях, он, криничанский коммунар, мог в любую минуту и голову сложить, в груди у него билась радость и бурлило то хмельное, окрыляющее чувство, от которого хотелось петь, и казалось, что утро это никогда не кончится, что, пока он будет жить, вокруг так же, как сейчас над степью, будет становиться все светлее и светлее.
XI
Южная опасность все больше привлекала к себе внимание страны. Политбюро Центрального Комитета партии вынесло специальное решение о выделении врангелевского фронта в самостоятельный фронт. Незадолго до того Центральный Комитет в письме, разосланном всем партийным организациям страны, предупреждал, что внимание партии в ближайшие дни должно быть сосредоточено на Юге, что массы добровольцев и мобилизованных должны отправляться прежде всего на Крымский фронт, хотя бы даже и в ущерб другим фронтам.
Значительная часть прибывающих на Юг свежих сил сосредоточивалась на правом берегу Днепра, в районе Борислава, Каховки. В эти дни можно было видеть на крестьянских подворьях и красных латышских стрелков, и прибывших по партийной мобилизации коммунистов откуда-то из Витебска или Орла, и только что сформированные свежие части из рабочей и батрацкой молодежи, которая рвалась сюда со всех концов республики с таким настроением, что хоть небо штурмовать. На станции Апостолово разгружалась артиллерия и, совершая напряженные переходы, быстрым маршем двигалась к Днепру, чтобы, заняв позиции на бериславских высотах, нацелить стволы на ту сторону, в занятую беляками каховскую степь.
Еще беляки продвигались вперед во всех направлениях, стремясь расширить занятую территорию, а партия в это время уже разрабатывала план далеко идущего контрнаступления против Врангеля. Реввоенсовет Республики дал директиву о переходе правобережной группы войск в решительное наступление, о форсировании в ночь на седьмое августа Днепра на большом его протяжении.
С вечера перед форсированием тысячи бойцов запрудили бериславский берег, занялись последними приготовлениями. Проверяли оружие, все карманы и подсумки набивали патронами, примеряли только что полученную обувь, а тот, кому не хватало казенных лаптей, тут же шил себе постолы из конской кожи, чтобы не порезать ноги о жесткую таврийскую траву. Армейские понтонеры готовили средства переправы. С наступлением темноты к берегу табунами стали прибывать верткие душегубки, разные дубки и байды, которые днепровские рыбаки гнали и гнали из плавней на помощь войскам.
Комары тучами висели над людьми; дымом бы их разогнать, однако в эту ночь запрещалось зажигать огонь, не курили цигарок, ни один рыбацкий костер не вспыхнул на Днепре, как обычно бывало в такие августовские ночи. «Ничем не прояви себя, ходи тихо, как линь по дну!» – таков был приказ в эту ночь. Звенят комары, вскидывается рыба, идут приглушенные разговоры. Вполголоса, словно враг мог услышать через всю днепровскую ширь, прибывшие бойцы расспрашивают рыбаков о здешних местах, впервые узнают, что здесь, где расположен Берислав, когда-то была турецкая крепость Кизикермен, а весь Днепр был тут перегорожен железными цепями, чтобы запорожские «чайки» не могли прорваться на простор в Черное море. Подойдет, звякнет носом о цепь – и уже в крепости тревога, уже палят турки по всему Днепру из крепостных пушек. Но какими цепями ни запирали они Днепр, запорожские «чайки» все яге гуляли и по Черному морю, и в Стамбуле, появлялись у султана под самыми окнами.
– А что эти башибузуки нам приготовили? – посматривали бойцы в темноту на противоположный берег, занятый противником. – Тоже, видимо, пальнут из всех батарей, как только услышат.
– А мы постараемся, чтобы не услышали…
В полночь стала грузиться на паромы пехота. Не ожидая, пока паромы тронутся, всплеснул веслами легкий рыбацкий флот, и, оторвавшись от берега, бесшумно рванулись, понеслись во тьму легкие душегубки, байды и дубки с бойцами-разведчиками и с пулеметами на носах. В ночной тишине, в таинственном молчании плавней слышно было лишь, как поскрипывают весла в уключинах.
Врангелевцы, не подозревая о наступлении красных, как раз в эту ночь выслали с левого берега свой десант. Оба десанта – и врангелевский и красный – встретились в плавнях. Завязался жестокий бой. Дружным натиском перебив и пустив на дно внезапно встреченных белых десантников, быстро достигли каховского берега, очищая на своем пути плавни от вражеских застав.
Пока в плавнях шли бои, понтонеры уже налаживали постоянный мост, притащив катером наплавную его часть. Она была заблаговременно подготовлена и теперь быстро наведена взамен той, которую взорвали во время отступления. Вскоре по мосту уже двигались и пехота, и конница, и артиллерия.
В эту ночь форсирование Днепра велось на широком фронте – от Берислава и до Херсона. К утру херсонская группа заняла Алешки; другие части, форсировав Днепр, заняли Казачьи Таборы, Британы. Одновременно врангелевцы были выбиты из района Большой Каховки.
К вечеру Леонид Бронников, комиссар вновь сформированного полка, был со своими бойцами далеко в степи за Каховкой, преодолев те самые песчаные кучугуры, на которых он два месяца назад держал на левом берегу свой последний рубеж.
Поспешность, с которой врангелевцы отступали в степь, казалась Бронникову подозрительной. Он опасался ловушки. Не заманивают ли нарочно, чтобы затем окружить, вырубить в открытом поле? Мысль об этом все время не давала Бронникову покоя, тем более что высокие подсолнухи и кукуруза мешали вести наблюдение. Стерня, бахчи, подсолнухи и снова то же самое: бахчи, подсолнухи, стерня… Чтобы не быть застигнутым врасплох, Бронников еще в селе приказал бойцам запастись лопатами: в случае чего в степи можно будет быстро окопаться.
Врага, однако, не было видно, и бойцы уже стали успокаиваться, как вдруг несколько передовых застыло на месте.
– Гляньте, товарищ комиссар!
Один из разведчиков передал Леониду бинокль. В подсолнухах, за лощиной, виднелись замаскированные бронемашины. То тут, то там среди подсолнухов темнели офицерские фуражки. Бронемашины внезапно открыли огонь. Их пулеметы, как ножом, скашивали стебли подсолнухов и кукурузы, в которых залегли красноармейцы.
С наступлением сумерек кое-кто, напуганный сильным огнем, стал пятиться назад.
– Ни шагу назад! Окапываться! – скомандовал Бронников.
И вот в тот самый момент, когда первый боец вогнал свою лопату в землю, тут, в степи под Каховкой, и родился Каховский плацдарм.
XII
Известие о возникновении Каховского плацдарма застало Врангеля в Керчи, куда он прибыл, чтобы лично руководить подготовкой десанта на Кубань. Высокую фигуру главнокомандующего видели то в порту, то, еще чаще, на горе Митридат, с которой он рассматривал в бинокль синеющий вдали за морским проливом кубанский берег.
Кубань, Кубань… Та самая Кубань, которая считала его заклятым врагом казачьей независимости, которая не могла простить ему того, что он еще при Деникине разогнал ее казачий парламент, – теперь она привлекала его как земля обетованная, порождала в сердце самые радужные надежды. Каждый день после обеда смотрит он на нее в бинокль с горы древнего Боспорского царства!
Людей, пополнения, солдат! Живых штыков, живых сабель! Вот чего ему сейчас не хватает больше всего. В поисках людских резервов послал он на Дон отряд полковника Назарова, чтобы тот попробовал поднять станичное казачество. Послал гонца в Гуляй-Поле, к «батьку» Махно, предлагая свой союз «украинским повстанцам», а их бандитскому батьку на выбор – генеральский чин либо гетманскую булаву. А теперь вот по настоятельному совету американской военной миссии готовит десант на Кубань. Для него не является тайной, почему американцы так заинтересованы в этой операции: с захватом Кубани они надеются овладеть Северным Кавказом, где больше всего сосредоточено капиталовложений их монополий. Глава их миссии адмирал Мак-Келли по натуре оптимист, он, как и Врангель, твердо верит в успех и на банкетах уже в шутку величает себя «почетным казаком станицы Старочеркасской».
Двенадцать тысяч десантников под командованием генерала Улагая Врангель решил бросить туда, на Кубань. Десантные войска состоят в основном из офицеров. По его, Врангеля, замыслу войска десанта должны стать лишь костяком новых формирований, кадрами той великой «народной армии», о которой он мечтает с первого дня прихода к власти. Он все сделал для того, чтобы помириться с кубанцами. То, за что он еще вчера вешал, сегодня сам дает, преподносит широким жестом. Автономии хотите? Даст вам автономию! Парламент? Даст и казацкий парламент! Щедрый вождь, он сейчас даст вам все, только бы склонить на свою сторону ваши контингенты, только бы казачество стало под его знамена! Он знает, что погубило Деникина – тупое великодержавничество, «единая неделимая», неумение найти общий язык с окраинными народностями… Он, Врангель, не повторит этой фатальной ошибки. Уже заключил соглашение с казачьими атаманами Дона, Кубани, Терека. Пообещал им полную независимость внутренней жизни. Однако пьяницы атаманы – это только казачья верхушка, с нею сторговаться нетрудно, главное – как поведут себя рядовые казаки. Ведь не за счет атаманов, а за счет этих крепких, жилистых рядовых должны в конечном итоге вырасти его легионы. Агентура сулит верный успех: Кубань ждет его. Передают, что достаточно будет его войскам высадиться, и станицы встретят их колокольным звоном. Твердо веря в успех дела, он, главнокомандующий, уже заранее назначает атаманов в еще не завоеванные станицы: ведь будут же они завоеваны! Ему нравится, что и высшие офицеры его тоже не сомневаются в счастливом завершении операции и, отправляясь в десант, забирают с собой даже семьи. Туда идут рядовыми и командирами рот, а оттуда будут возвращаться, развернув свои роты в полки, а батальоны в дивизии. То, чего не дала ему Таврия, не дали обшарпанные украинские села, даст ему богатая, недовольная большевиками Кубань.
Погруженного в такие мысли застала Врангеля на горе Митридат весть о том, что красные части, неожиданно переправившись через Днепр, зацепились на клочке земли под Каховкой… Это было как гром среди ясного неба. Если другие не сразу успели оценить всю степень опасности, то сам он с полуслова понял, что это означает. Тет-де-пон. Большевистский плацдарм на левом берегу, в семидесяти верстах от Перекопа! Трамплин, с которого красный тигр сможет в любой момент сделать прыжок на Перекоп! Это было ужас: но, это могло разрушить все его планы. Пока плацдарм не !будет уничтожен, его, Врангеля, армия будет связана, скована, не говоря уже о том, что нечего и думать о соединении с войсками Пилсудского. Уничтожить! Уничтожить немедленно, любой ценой!








