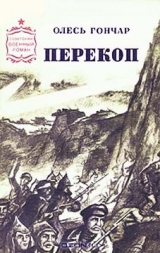
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Он стал быстро спускаться с горы, мрачный, раздосадованный, не зная, на ком выместить свою злость. Тет-де-пон!
И кто допустил? Слащев? Этот непризнанный гений, этот давнишний его соперник, который после падения Деникина тоже целил в диктаторы – в военной верхушке его имя тогда называлось наряду с Врангелем… До сих пор Врангель терпел его. За решительность, за рвение прощал ему и пьянство, и скандалы, и даже то, что вместе со своими кокаинистками он будто бы возит в штабном вагоне бразильского попугая, которого сам научил кричать «барон дур-рак»… Никто не скажет, что Врангель мстит ему. Он дал ему корпус, послал в десант, доверил, наконец, Каховку и вот теперь получил от него сюрприз…
– И как он мог?
Начальник штаба Шатилов, еле поспевая за Врангелем, пожимает плечами:
– Слащев намеревался специально заманить их подальше в степь, чтобы потом отрезать от Днепра и истребить.
– Лавров захотелось? Почему же не истребил?
– Когда кинулся, было уже поздно.
– Что значит поздно?
– Окопались.
В словах начальника штаба ему чудится попытка оправдать Слащева, и это еще больше его раздражает.
– Сместить! – нервно бросает он на ходу. – Прогнать в резерв!
Прогнать Слащева, который имеет столько сторонников в офицерской среде… Шатилов разрешил себе выразить удивление:
– Несмотря на его популярность в войсках?
– Плевать на его популярность! В войсках популярен должен быть только один человек – я.
Бронированный автомобиль в тот же день вынес их за город. Мчались на Симферополь. Врангель велел гнать вовсю, Нужно было поскорее тушить пожар, поскорее исправлять положение, создавшееся по вине Слащева. Выскочка! Молокосос! Полководческих лавров захотелось, играл с огнем, вот и доигрался. Однако нет худа без добра: у красных появился тет-де-пон, зато навсегда избавился он теперь от Слащева – безо всяких выгонит из армии, умалишенным его объявит.
В тыл, в Константинополь загонит!
Войскам двух вождей не нужно! То, что история доверила ему, Врангелю, он не намерен делить ни с кем!
В Симферополе настроение главнокомандующего было окончательно испорчено незначительным на первый взгляд инцидентом. При выходе из машины он случайно встретил идущего с каким-то священнослужителем знакомого жандармского полковника, которого, как помнилось ему, он недавно направлял на позиции. Спросил, где тот служит.
– Пребываю в распоряжении генерала Слащева.
Самое имя Слащева взбесило Врангеля. Еле сдерживая себя, он повернулся к Шатилову:
– Есть такая должность – пребывать в распоряжении Слащева?
– Пока не было, – откликнулся Шатилов.
– Кроме того, – растерянно забормотал полковник, – я еще пребываю в распоряжении епископа Вениамина.
– В таком случае, где же кадило? – поднял брови Врангель. – Вам нужно кадило в руки! – И, обернувшись к страже, добавил: – Снять с него погоны! Кадило ему дать!
Даже в штабе долго не мог успокоиться.
– Подумать только, такая наглость… Дворянин, потомок старинного рода и по тылам слоняется!
Зато потом отвел душу разговором со Струве, с этим седовласым, всегда неопрятно одетым стариканом, своим министром иностранных дел.
Белый дом решил наконец открыто оказать энергичную поддержку Крыму. Только что по радио передана нота государственного секретаря Кольби, в которой перед лицом всего мира заявляется, что США никогда не признают Советское правительство. Как это кстати именно сейчас!
– Поручите нашему представителю в Вашингтоне выразить нашу искреннюю благодарность американскому правительству за этот шаг… Что из Парижа?
– С часу на час ждем официального подтверждения: Франция признает наше правительство де-факто.
Все это были весьма важные, весьма утешительные вести: союзники верят ему, верят в него; жаль только, что этот каховский нарыв появился так некстати…
К удивлению своих штабных, Врангель тут же приказал всю конницу Барбовича – пять тысяч сабель – немедленно снять из-под Александровска и бросить на Каховку, на ликвидацию плацдарма.
XIII
Оборонные работы на плацдарме были в самом разгаре – тысячи людей, сверкая голыми спинами, еще только начинали рыть траншеи и окопы для стрельбы, еще из плавней только подвозили свежие ивовые колья для проволочных заграждений, еще все здесь было незакончено, разрыто, похоже на огромный, необозримый субботник, когда со степи на плацдарм внезапно налетела врангелевская бронекавалерия.
Сочетание первоклассной конницы с массой бронемашин создавало такую силу, перед которой, казалось, устоять невозможно. Казалось, все будет сметено с лица земли вихрем взметнувшихся для рубки сабель, стальным ударом броневиков… Однако защитники плацдарма не дрогнули перед этим черным шквалом.
– По кавалерии противника залпами! Пли! – покатилось по плацдарму из конца в конец.
Отбитая, рассеянная лавина атакующих, отпрянув, бросилась на другие участки, искала стыков, слабых мест и, видимо, находила их, прорывалась в тыл, ибо грохот и шум боя уже поднимался за спинами тех, которые непоколебимо стояли в траншеях.
Бой начался на рассвете и длился уже бесконечно долго, солнце поднялось высоко и выпило в степи августовскую росу, а кони все еще носились по полю, клинки сверкали, снаряды разрывали землю, и кровь лилась.
Положение защитников плацдарма с каждым часом ухудшалось. Таяли патроны. В траншеях было полно раненых. На руках у Яресько умирал его товарищ Мишка Перелаз из Хоришек, рядом бойцы делились последними патронами, и самому Яресько уже нечем было стрелять – кучи пустых гильз валялись под ногами. Бой не затихал ни на минуту, весь плацдарм словно горел, в раскаленном воздухе стоял неумолчный гул, где-то сзади уже слышен был топот вражеской конницы, пролетающей через окопы с яростным криком: «На переправу!»
Изошел кровью, в последний раз вздохнул на руках у Яресько товарищ, промолвив одно только слово:
– Передай…
Что он хотел передать? Кому?
Яресько и Левко Цымбал осторожно кладут его на дно чадного солдатского рва, где уже немало лежит отстрелявшихся навеки.
Из степи, то скрываясь в складках местности, то снова появляясь, приближаются броневики. Вот один взобрался уже на окоп первой линии и начал оттуда поливать пулеметным огнем. Пули ложатся совсем рядом с окопом Яресько. Кто-то вскрикнул, повалился на дно траншеи… Убит или ранен? Слышно, как невдалеке суровыми голосами перекликаются между собой латыши:
– Патронов!
– У кого есть патроны?
Затянутое пылью небо, горячий воздух, – от солнца или от пальбы? – кучи пустых гильз под ногами… Так, значит, это он и есть – конец всему? Вот здесь, в выжженной степи под Каховкой, на разрытой, угарно горячей земле плацдарма?
Яресько смотрит на свой штык. Сверкающий тульский штык – вот все его достояние и надежда. Остается им теперь лишь голое отчаяние – удар в штыки, а там – почти верная гибель под саблями, под копытами, под тяжелыми броневиками. И вот в этот, казалось бы совершенно безвыходный, момент вдруг пронеслось откуда-то со стороны Днепра, невыразимо радостным криком прозвучало среди бойцов:
– Сибиряки!
– Сибиряки на плацдарме!!!
– Блюхер привел!
Казалось, уже одна эта весть способна была удесятерить силы защитников плацдарма, одна способна была спасти им жизнь. Боевой натиск уральцев и сибиряков решил судьбу плацдарма: бронекавалерия была отбита.
На поддержку артиллерии, которая била и била по противнику, из-за Днепра – не в первый ли раз за время боев? – поднялись в небо красные аэропланы и, догоняя рассеянную в степи врангелевскую конницу, сыпали им на головы тучи острых металлических стрел, выкованных в недалеком тылу на екатеринославских заводах специально для борьбы с конницей противника. Стрелы с лету смертельно ранили людей и лошадей. Преследуемый огнем артиллерии, мечась под железным дождем свистящих стрел, сыплющихся на конницу с неба, противник быстро откатывался в степь.
– Вперед! Крой вперед! – неслось над усеянной стрелами степью, по которой уже наступала красная пехота.
Яреськовым хлопцам из пополнения, да и ему самому, казалось, что теперь уже всё: будут гнать без памяти, загонят на край света. Однако в первом же селе пришлось задержаться: навстречу им под натиском белых откатывался какой-то полк, с тревогой передавали, что один из батальонов этого полка только что был окружен в поле вражеской конницей и вырублен до последнего человека и что беляки, подтянув значительные резервы, снова пытаются зайти в тыл, отрезать красных от плацдарма.
Всем имеющим оружие – независимо от того, к какой части они принадлежали, – приказано было немедленно занимать оборону по околице села. Винтовки убитых (а их оказалось немало) раздали местным крестьянам, многие из которых наравне с красноармейцами тоже заняли оборону по огородам. Из степи, отстреливаясь, все время отходили к селу то большими, то меньшими группами красноармейцы разных частей и приносили страшные вести: врангелевцы раненых добивают, давят броневиками нашу пехоту в степи.
Уже под вечер со степного кургана в село перебрались пулеметчики со станковым пулеметом, валясь от усталости, добрела пешая разведка какого-то полка, прискакало несколько всадников на низкорослых сибирских конях. В одном из них Яресько узнал взводного Старкова. Окликнул.
Оба обрадовались, увидев друг друга.
– Вот так встреча! Вот где судьба нас свела! – воскликнул Старков.
Привязав своего коня неподалеку под деревом, Старков прилег рядом с Яресько.
– Хороший скакунок, – похвалил Яресько. – Твой или тут уже где-нибудь подхватил?
– Это моего товарища конь, он в конной разведке был, – с грустью пояснил Старков. – Подумать только: Сибирь прошел – ни разу нигде не задело, с Байкала вот куда добрался, а тут… – Он тяжело вздохнул. – Картечью вон там, за курганом… В сердце, наповал. Мы с ним еще с Урала были дружками, вместе воевать начинали. Словно вчера было, помню: метель, пурга, а наш рабочий отряд отступает по тракту в горы, к вершинам Урала, чтобы Колчак не достал… Какие холода стояли! Ветер бьет, мороз обжигает, а мы полубосые, в шахтерских куртках на рыбьем меху…
– У нас говорят – ветром подбиты.
– Во-во! Ветром подбиты, на рыбьем меху…
В это время под свист пуль из степи прискакало еще несколько всадников, прибежала гурьба потрепанных пехотинцев, которые, утолив жажду, сразу же стали присоединяться к лежавшим в цепи. Среди тех, кто, прибежав, занимал оборону, внимание Яресько привлек маленький, юркий китаец, промчавшийся перед ним и залегший в картофельной ботве лицом к степи. Он тут же стал заряжать винтовку. При этом он все время живо поводил глазами, словно бы присматриваясь, куда, в какую именно сторону лучше пальнуть.
– Китайчонок этот тоже из нашей дивизии, – промолвил Старков. – Даром что маленький, а в бою никогда не подведет. – И обратился к китайцу: – Жарко, товарищ Ли?
Не успел тот ответить, как по селу стала бить артиллерия. Один из снарядов разворотил сарай – жутко заревела скотина.
– Это они нас хотят в чистое поле выбить, – промолвил кто-то из бойцов.
– А шиш с маслом! – заметил на это Старков и обернулся к Яресько: – Как это по-вашему будет «шиш с маслом»?
– Не знаю, – потер лоб Яресько. – Наверное, «дуля с маком».
– Ну вот они и получат у нас шиш с маслом да дулю с маком, – сказал Старков и вдруг умолк, прислушиваясь. – Слышишь?
Где-то на противоположенной окраине села лихорадочно застрочили пулеметы, послышалось далекое, приглушенное расстоянием «ура»… Трудно было разобрать, кто именно кричал: ведь и те и другие могли кричать «ура».
Несколько снарядов один за другим громыхнули на огородах, совсем уже недалеко от залегших в цепи. Загорелась солома, возле которой разместились раненые. Санитарки, ухаживающие за ними, с помощью крестьян бросились оттаскивать раненых в глубь огородов, подальше от соломы, от пожара.
Взрывы грохотали один за другим. В воздухе густо жужжали пули. В предвечерней степи появились зловеще мечущиеся силуэты броневиков. Все ближе и ближе сверкали-вспыхивали огоньки выстрелов. Из глубины огородов, словно прямо из пылающей соломы, выскочил совсем молоденький боец-татарин без картуза и опрометью бросился к лошади сибиряка.
– Стой! Ты куда? – окриком остановил его Старков.
– Товарищ командир… Беляк уже в селе… Бронемашин гуляй по дворам… Всю нашу восьмую роту беляк руби, руби!
Страшный грохот заглушил его слова: снаряд попал прямо в пылающую скирду, пламя, разметанное взрывом, поднялось еще выше, осветило все вокруг, и вместе с клочьями огня, с вихрем разлетающихся во все стороны искр бесследно исчез и он, этот перепуганный паренек-татарин, который, видно, впервые участвовал в бою. Убежал? Погиб? Впрочем, думать о нем было некогда: Яресько, Старков и все лежавшие рядом с ними уже дружно открыли огонь по вечерней степи, по ее мягким пепельно-серым сумеркам; видно было, как белые, сгибаясь за бронемашинами, бросками приближаются к селу. Стрельба трещала уже где-то в селе, пули посвистывали со всех сторон.
В тот момент, когда Яресько заряжал винтовку, за спиной у него послышался какой-то шелест в картофельной ботве. Оглянулся – на четвереньках подползает крестьянин, запыхавшийся, взъерошенный, с проседью уже – видно, хозяин этого двора.
– Хлопцы, вы ежели что… У меня есть погреб потайной… Сам от кадетов скрывался и вас спрячу! А пока что возьмите который вот эту тыкву, может, пригодится… – И, пошарив в ботве, дядько протянул Старкову большую бомбу, которая и в самом деле смахивала на тыкву.
Старкова это, видно, взволновало.
– Скажи на милость! – обратился он к Яресько. – А ведь поговаривал кое-кто: хохлы, мол, такие-сякие, сплошная махновщина. А я вижу – добрый, душевный у вас народ!
Пули свистели все чаще, кольцо, видимо, смыкалось, и чей-то командирский голос уже отдавал приказ перебежками пробираться на западную окраину, быть может, оттуда удастся под покровом ночи пробраться к своим.
– Подожди, браток, коня надо захватить, – бросил Старков Яресько и, вскочив на ноги, кинулся через огород к коню. Но не успел он пробежать и десятка шагов, как из-за пылающей скирды соломы прямо на него вылетел броневик. На какое-то мгновение они словно окаменели друг против друга, освещенные жарким пламенем, – человек и броневик. Потом Старков как-то странно наклонился, словно решил прямо головой нанести удар в броню, и рванулся вперед; в руках у него сверкнула бомба… Вот он размахнулся и с силой бросил ее. Грохнул взрыв, сорвав со скирды целую тучу горящей соломы, пепла… Когда пепел рассеялся, броневик уже стоял как-то торчком, а Старкова не видно было вовсе, только потом заметили его – он лежал темным бугром в картофельной ботве среди развеянного пепла, среди гаснущих на картофельной листве искр.
Яресько и дядько подбежали к нему.
– Умираю… Умираю… – корчился он, хватаясь за грудь, и, заметив над собой Яресько, вдруг крикнул с силой: – Бери коня! Спасайся! Передай… за революцию Старков…
И затих – затих навеки…
– Беги! Я похороню, – крикнул дядько, и Яресько, подлетев к коню, быстро отвязал его, вскочил в седло.
Он уже был за садами в степи, когда перед ним неожиданно, словно из-под земли, снова вырос тот мечущийся паренек-татарин. Он что-то кричал, размахивая руками. Яресько придержал коня.
– Чего тебе?
Боец подбежал ближе:
– Возьми меня!
Их, видно, заметили и откуда-то секанули по ним, пули засвистели у самых ушей. Раздумывать было некогда.
– Хватайся за стремя!
Боец ухватился.
– Не отставай!
Данько пустил коня в карьер.
На западе еще не совсем стемнело: было видно, как а там, на линии горизонта, на фоне еще алеющего неба, разгуливают броневики. Пули с раздражающим звуком пронизывали степь во всех направлениях, и, может, потому она, эта родная чабанская степь, показалась Даньку какой-то незнакомой, он мог бы даже заблудиться в ней, но не еще не потухшему свету заката нетрудно было определить кратчайший путь к плацдарму.
Товарищ, вцепившийся в стремя, бежал быстро, но, не будь его, можно было бы мчаться вдвое быстрее, можно было бы уже выскочить из-под пуль, которые жужжат и жужжат в воздухе. Однако ведь не бросишь его, не бросишь!
Время от времени наклонялся к нему:
– Выдержишь?
Тот в ответ только кивал головой: дескать, выдержу, гони.
Мчались изо всех сил, но пули летели еще быстрее, все время то ниже, то выше посвистывая над степью.
Под пение пуль, под свист воздуха в памяти Данька почему-то возникла Каховка, залитая солнцем ярмарка, и в людской толпе – слепой лирник, который пел-рассказывал «Думу про трех братьев Азовских»…
Как бежали они степью от татар к реке Самарке и как бросили в пути меньшего брата, который вот так же цеплялся за стремя…
А менший брат, піша-пішаница,
За кінними брагами вганяє,
Коні за стремена хапає,
А словами промолвляє:
«Не хочете мене між коні узяти,
Возьміть мене постріляйте-порубайте,
А звіру та птиці на поталу не подайте».
С тех пор Данько никогда больше не слышал этой думы и сам ее не пел, но сейчас, в этой вечерней степи, под скрежет врангелевских, броневиков она почему-то вспомнилась и не покидает его, словно в воздухе звенит, далекая, задумчивая легенда. Она, кажется, наполняет собой всю степь, подернутую вечерней дымкой…
Будемо тобі верховіття у тернів стинати,
Будемо тобі на признаки на шляху покидати…
– Выдержишь?
И снова кивок головы.
Так, не споткнувшись, и промчался он степью у стремени Яресько до первых окопов плацдарма.
А на рассвете снова была атака, шли на восток по скупым августовским росам, и, выбив врангелевцев из села, красные бойцы принесли спасение тем, кого еще можно было спасти. Укрытые населением раненые красноармейцы по всему селу выбирались из погребов, спускались с чердаков, вылезали из соломы, которую врангелевцы, разыскивая красноармейцев, всю ночь прощупывали саблями и пиками. И даже если кого-нибудь настигала в соломе острая пика или сабля, он, стиснув зубы, молчал, терпел до последнего, чтобы не выдать себя и товарищей.
Спасенные, вызволенные радостно бросались теперь навстречу своим. Не бросился только навстречу Яресько взводный Старков, синеглазый уральский шахтер, который, умирая, передал ему своего коня и тем самым, быть может, спас его от сабля беляка… Там, где упал Старков, на припорошенном пеплом картофельном поле, только кровь впиталась в землю да мрачно чернел, возвышаясь над степью, обгорелый вздыбленный броневик.
XIV
Бои в этом районе теперь не прекращались: то враг бросался штурмовать плацдарм, то, наоборот, защитники плацдарма, вырвавшись на простор, отгоняли противника далеко в степь, снова потом возвращаясь под натиском его превосходящих сил в траншеи и окопы плацдарма, под укрытие укреплений, которые тут беспрерывно строились и строились.
Возникновение Каховского плацдарма, этой постоянной угрозы Перекопу, заставило Врангеля прекратить наступление на Донецкий бассейн и лучшие свои силы бросить против Каховки. Но хотя он и перебросил сюда, сняв с других участков фронта, вслед за бронекавалерией Барбовича знаменитую свою корниловскую дивизию и другие части, ликвидировать каховский тет-де-пон так и не удалось. Потери были угрожающие. Сейчас, как никогда, он ощутил потребность в большой, подлинно неисчерпаемой армии.
Но где же она?
Кубань не оправдала его надежд. Сначала все как будто предвещало успех десанту генерала Улагая. Высадившись под прикрытием корабельной артиллерии в станице Приморско-Ахтарской, войска его десанта, разбившись на три колонны, повели энергичное наступление в глубину Кубани. В первые же дни были заняты станицы Тимашевская, Брюховецкая, открылась возможность идти на Екатеринодар, который был недостаточно прикрыт красными войсками. Однако, выполняя твердое указание Врангеля, генерал Улагай вынужден был временно прекратить наступление, чтобы провести мобилизацию среди населения захваченных станиц. Но тут, как и в таврийских селах, крымских пришельцев ждало горькое разочарование. Трудовое казачество не захотело признать Врангеля своим вождем, не пожелало пополнять его поредевшие в боях части. Так и не развернулись роты в полки, а полки в дивизии. Под ударами красных войск, которые вскоре перешли в наступление, десантники вынуждены были сдавать станицу за станицей, с каждым днем все быстрее откатывались к морю, к своим кораблям. В конце августа последние корабли Улагая, покинув кубанские берега, двинулись снова на Крым. Кубань не приняла их, отвернулась от них. Весь белый Крым уже признал это, не хотел признавать один только Врангель. В то время когда в Керчи с кораблей выгружали остатки его так бесславно вернувшегося десанта, он в своих интервью иностранным корреспондентам объяснял терпеливо с внутренней убежденностью, что его десант не разбит – он сам отозвал его с Кубани, поскольку этого, дескать, требуют другие, далеко идущие стратегические замыслы.
После неудачи на Кубани, после того как на Дону такая же участь постигла полковника Назарова, посланного туда с большим отрядом, а возвратившегося в Крым лишь со своим ординарцем, проблема пополнения армии людьми встала перед Врангелем еще острее. Ищущий, голодный взгляд его обратился снова на север, на Украину. По почину самого Врангеля в Крыму в это время все шире рекламировался якобы установленный им дружеский контакт с «повстанческой армией батька Махно». На самом же деле ни один из многочисленных гонцов, которых Врангель посылал в Гуляй-Поле, до сих пор не вернулся. В чем дело? Где они застряли? Из Парижа быстрее доходят вести, чем из Гуляй-Поля!
XV
Среди ослепительной необозримой степи – вдруг вишневые сады, словно кровью обрызганные.
Зеркало воды сверкает в широкой балке.
Подсолнухи – выше соломенных и черепичных крыш…
Это Гуляй-Поле.
Прогуливаются по центральной улице городка девчата в пестрых лентах, грызут семечки, перешучиваются с чубатыми махновскими «сыночками», которые не снимают своих хромовых кожанок даже в такую жару. Сверкает оружие, горят ленты, широкие гармони то тут, то там наяривают «Яблочко» – махновский гимн. С тех пор как стало Гуляй-Поле махновской столицей, «степным Махноградом», здесь отвыкли работать, перешли на легкий хлеб; словно контрабандистское гнездо, Гуляй-Поле живет теперь военной добычей своих «сыночков» – пьет, гуляет, прогуливая награбленное барахло, каждое воскресенье играет гульбища-свадьбы.
У кого ж это сегодня такая пышная свадьба? Бубны звенят на все предместье, песни разносятся по садам – это батько Махно женит одного из ближайших своих людей, телохранителей, взводного «волчьей сотни» Агея Шинкаренко.
Двор гудит под каблуками. Площадку, на которой танцуют, все время поливают водой: горячая земля сохнет, и вскоре из-под каблуков уже снова разлетается пыль, тучей окутывая танцующих. Раскрасневшиеся лица, мокрые чубы, однако никто не сдается – кто попал сюда, танцует до упаду. Тяжело, как сбруя на конях, позвякивает оружие на танцорах, притягивают взгляд красные вышивки широких полотняных рушников на свадебных дружках…
Таким же рушником повязан через плечо и сам батька-атаман. Впрочем, он не танцует, сидит в хате и молча пьет. Хата богатая, когда-то его, глинищанского голодранца, сюда бы и на порог не пустили, а сейчас вот посадили в красном углу, под свадебным деревом, и сам хозяин в рубахе с вышитой манишкой предупредительно суетится перед ним, собственноручно подносит закуски:
– Кушайте, кушайте, Нестор Иванович!
Хозяин из тех разбитных гуляй-польских подводчиков, которые до революции разбогатели на торговле хлебом и перед войной уже настолько почувствовали свою силу, что не разрешили железнодорожную станцию строить в самом Гуляй-Поле, а отодвинули ее от местечка подальше, в степь, чтоб зарабатывать на перевозках хлеба…
– Кушайте, кушайте, Нестор Иванович!
Этот мироед-подводчик чем-то неуловимо похож на другого такого же кулака, скопидома Кирика Васецкого, который после тысяча девятьсот пятого года выдал жандармам на расправу гуляй-польских юных анархистов. Возвратившись с каторги в семнадцатом, Махно прежде всего пожаловал в гости к этому Кирику, вывел его на улицу и тут же перед домом уложил навеки носом в пыль.
Он любуется собой: пришел с каторги, разметал врагов, до основания повырубил вокруг Гуляй-Поля колонистов, у которых с малых лет батрачил, телят да свиней пас. О, это беспросветное сиротское детство, без боли не может он вспоминать о нем! Голова упала на руки, Махно склонился над столом в глубоком раздумье. Свинопас у богатых колонистов… Еще и от земли тебя не видно, а ты уже в неволе, кто-то уже помыкает тобой! Все лето колешь ноги по чужому жнивью, и как ноги в язвах все лето кровоточат, так детская душа кровоточит от повседневных обид и надругательств. Не они ли, эти детские обиды, и искалечили тебе душу, не тогда ли еще накапливалась эта горькая, ненасытная жажда мести, которая и до сих пор жжет, не дает тебе покоя?
Видит себя юным террористом на суде: подросток, приговоренный к повешению. Он не сомневался тогда, что царь повесит его, не простит ему отчаянных, безумно смелых его экспроприаций. Выручили молодость – смертный приговор заменили пожизненной каторгой.
Колодник… вечная каторга, вечная неволя… Темнота и смрад тюрьмы, где запахи ароматной степи и блеск гуляй-польского солнца ему только грезились во сне! Не там ли за одиннадцать лет разучился смеяться, радоваться, как все люди, так что на эту махновскую свадьбу уже ничего не осталось? Вспомнилось, как пытался зубами перегрызть кандальные цепи в Акатуе. Забившись в угол, он, подобно затравленному упрямому зверьку, грызет и грызет по ночам железо. А когда попытка бежать провалилась, захирел, пал духом, конец бы ему, если б не революция…
Семнадцатый год! Из карцера – прямо в Гуляй-Поле!
Свобода как степь!
Можно ли от нее, от вольной воли, отучить когда-нибудь человека? Не за одиннадцать – за сто одиннадцать лет? Чтобы человек совсем забыл о ней, чтобы перестал стремиться к ней, к безграничной, как небо, свободе?
«Нет такой силы, чтоб от воли отучить, – сказал ему однажды в степи старый пастух. – Как орла не отучить летать, так человека не отучишь стремиться к воле…» Да, к ней, к свободе, всегда будет порываться человеческая душа! За свободу, не за что иное, он со своими «сыночками» бьется – так, по крайней мере, кажется ему. Но почему же так тяжко становится иногда на душе? Почему и сейчас вдруг начинают вставать перед его затуманившимся взором то перекошенные ненавистью лица казненных продотрядовцев, то крестьяне-комбедовцы, зарубленные где-то на сходе, то галещанские красные медсестры, чьи предсмертные крики и до сих пор звучат у него в ушах: «Так вот какова твоя свобода? Будь же ты проклят с нею вместе, палач!»
Но прочь, прочь с глаз гнетущие, как бред, картины!
Ура, ура, ура!
Мы підем на врага!
…За матінку Галину,
За батька за Махна!
Он привык уже к тому, что его повсюду зовут батьком. Вспоминает, как повстанцы впервые нарекли его этим именем в Дибривском лесу. Было это сразу же после того, как он с первыми своими партизанами разгромил в колонии Блюменталь гетманскую стражу и батальон кайзеровских войск. Ни одного из захваченных гетманцев не оставил тогда в живых. С австрийскими же солдатами, которые сдались ему в плен, он поступил иначе: напоил пьяными и отправил всех пешком на станцию с приказом, чтобы немедленно убирались прочь с Украины. Каждому из австрийцев выдал на дорогу по пятьдесят рублей деньгами и по бутылке водки, чтобы они и там, у себя в Вене, вспоминали Гуляй-Поле.
То была – он это сейчас чувствует – лучшая пора его жизни. С каждым днем росло его войско, к признанному всеми батьку, которому еще и тридцати не было, присоединяются отряды Щуся, Белаша, Удовиченко… На подступах к Екатеринославу его многотысячная повстанческая армия вступила в бой с петлюровцами и вместе с рабочими екатеринославских заводов выбила «добродиев» из города. Это принесло ему, пожалуй, самую большую славу в народе. Вскоре он уже «комбриг Третьей Заднепровской», и Дыбенко от имени красного командования жмет ему руку, поздравляет с присвоением высокого революционного чина… Но в городе грабежи, «сыночки» перепились, распоясались… Екатеринославский ревком хотел обуздать их, но где там!
– Уздечку?
– Мы стихия!
– Мы по вашему же лозунгу: «От каждого по способностям, каждому по потребностям», ха-ха-ха!
Ему, батьку Махно, было приказано унять свою буйную степную вольницу. Но разве мог он ее унять, утихомирить, да и хотел ли? Что осталось бы от него самого, если бы он пошел против этой разбушевавшейся силы-стихии, которая сделала его атаманом, которая поставила его своим верховодом? Впервые тогда закралось в его душу сомнение: кто кого ведет? Он ли ее или она, эта буйная стихия, влечет его за собой? Видно, все-таки она, ибо он не смог противостоять ей: разругавшись с красными, снова ушел в степь, пугая детей по селам грохотом тачанок да черным вихрем своих знамен: «Смерть комиссародержавию! В крошево комбедовцев!»
Растаяла тогда его армия. Впоследствии не раз будет происходить это с ней: то вдруг подымется прибоем до неба, то осядет, растает до горстки ближайших сторонников с десятком тачанок…
Ура, ура, ура!
За батька за Махна! —
до хрипоты орут за окном братья Задовы, «короли сифилиса», заправилы его махновской контрразведки. Если нужно кого-нибудь потихоньку убрать, «украсть», Махно поручает это им. На Елисаветградщине, объединившись с Григорьевым, прибрал Григорьева. Позже, заключая договор с Петлюрой, имел тайное намерение расправиться и с Петлюрой, но, к сожалению, не удалось, хотя для этого и была создана им специальная террористическая группа. Не желает он иметь на Украине соперников-атаманов: хватит с Украины и его одного. Его нынешняя любовница, гуляй-польская учительница, говорит, что он в последнее время стал слишком уж недоверчив, всех подозревает, всюду мерещатся ему происки чекистов, всюду слышатся сговоры соперников – претендентов на его атаманскую власть… Может, и в самом деле он преувеличивает окружающую его опасность? Но если бы он не был таким зорким и осторожным, давно бы его уже съели! Раз и навсегда установил для себя правило не доверять до конца никому – ни мечтателям-набатовцам, ни ближайшим боевым сподвижникам, с которыми вместе закапывал ночью бочки с золотом в Дибривском лесу. Особенно же не доверяет он женщинам – всяким бродячим девкам, которых всегда полно в Гуляй-Поле. Цыганка-ворожея, повстречавшаяся недавно в степи, сказала, что погибнет он от женской руки, – какая-то подосланная чекистка-актриса подаст ему бокал с отравленным вином… Вот почему он теперь в три шеи гонит из Гуляй-Поля актрис и, боясь отравы, крайне подозрительно принимает женские ласки.
Хочется еще пожить. Цистерны спирта стоят на станции – подходи и пей, кому не лень… В тупиках накопилось множество вагонов, груженных разным добром: сахар, сукно, мануфактура. Кажется, только бы и веселиться. Почему же так горько, так неспокойно на душе? Смерти, конца боишься? Пока не был атаманом, пока не имел в руках безграничной власти, никогда столько не думал о себе, не трепетал за свою жизнь, не знал страха. Тюрьма научила не дорожить ни своей жизнью, ни чужой. А сейчас, укладываясь спать, выставляет усиленную охрану, верный Али всю ночь, как пес, неотлучно сидит на пороге, глаз не сомкнет. Чем дальше, тем все гуще окружает себя частоколом доносчиков, все бдительнее подбирает любовниц, все строже отбирает телохранителей в состав личной охраны – своей доверенной «волчьей сотни»… А как же иначе? Ведь он теперь – батько, атаман, вождь! За ним охотятся, да! Он величина! Да! Его жизнь теперь, быть может, стоит нескольких тысяч простых, обыкновенных, рядовых жизней.








