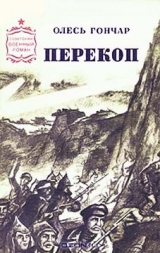
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 27 страниц)
Они медленно направились к тропинке. Слушая Вутаньку, Ганна шла рядом с ней в глубокой задумчивости.
Вышли на дорожку. Лес постепенно окутывали вечерние сумерки. От лесниковой хаты доносились отзвуки пьяной гульбы: пение, свист…
– Слышишь, как Кирюша мой высвистывает? – проговорила Ганна с грустью и гордостью. – Никогда уж, видно, после нас не услышит Украина такого свиста!
А когда Вутанька решила идти, кинула ей вместо прощания:
– Брату все расскажи, чтоб совесть тебя не мучила. Передай, что видела, мол, меня и мою разведку. Только скажи, что все одно им меня не поймать. Разве что надоест – сама сдамся.
– Думаешь, прогадала бы? – остановилась на тропке Вутанька. – Вон, говорят, помилование объявили тем, кто добровольно выйдет из лесов.
– Ох, не для меня это, Вустя. Много на душу взяла.
– Не все еще пропало, Ганна. Еще не поздно вырваться. Вспомни, как мечтали мы когда-то вместе на заработках о новых, счастливых временах. Вот же они идут: земля трудовому народу, власть своя, женщина стала свободной…
– Ох, не береди ты мою душу, Вустя, а то, ей-богу… Иди. Уходи с глаз! – И она с размаху стеганула плетью по кусту.
– А то, может, передумаешь? – искренне, дружески сказала Вутанька. – Бросила бы ты их, пошли бы и пошли бы вот так сейчас – прямо к матери под окно…
– А пошла бы, – мотнула головой Ганна, – ох как бы еще пошла, Вутанька! Ну да хватит душу растравлять… Мать увидишь – кланяйся. Пусть не поминает лихом свою дочку непутевую.
И, закрыв лицо рукой, она резко отвернулась от Вутаньки.
…Одна возвращалась Вутанька в Кринички. Оглядываясь на ходу, она еще несколько раз видела Ганну, что, печально сгорбившись, все стояла на укрытой тенью дорожке – в раздумье или забытьи или, может быть, в слезах.
На дворе было уже совсем темно, когда Вутанька прибежала домой. Мать встретила ее у перелаза.
– А у меня тут уже вся душа переболела… Данько ведь забегал! Забежал на минутку и снова умчался. – Мать, оглянувшись, наклонилась к Вутаньке и зашептала: – Банда, говорит, Ганнина где-то снова здесь объявилась. – И, выпрямившись, вздохнула тяжко: – Господи, и когда этому будет конец?
XXXIII
Ганнина банда не знала теперь покоя. Днем и ночью металась по знакомым полтавским дорогам, рыскала по лесам и перелескам в поисках безопасного убежища, но всюду натыкалась на неожиданные засады. Таяли силы, падали кони, все уже и уже становился для Ганниных тачанок синий полтавский горизонт.
В одном из боев Ганна была ранена – пулей задело голову. Рана оказалась неглубокой, жизни не угрожала, однако, по настоянию бандитской верхушки, Ганна вынуждена была передать атаманскую власть недавно прибывшему в отряд петлюровскому офицеру и ездила теперь в тачанке со своими дядьями Оникием и Левонтием.
Бездеятельное положение обозной девки вызывало досаду, оскорбляло ее. Пока атаманшей была, находила забвение в разных командирских хлопотах, некогда было предаваться раздумьям, как сейчас. Голова полна беспокойных тяжелых мыслей. Кто она, куда мчат ее эти взмыленные кони с куцыми, подрезанными хвостами? Кажется, что все время гонятся за ней бойцы Шляхового и вот-вот настигнут – не проходит и дня, чтобы где-нибудь не встретили, не обстреляли их. И где бы она ни была, близко ли, далеко ли от Криничек, – не может отделаться от мысли, что это строчит по ней из пулеметов своя же беднота, что это преследует ее на всех путях неумолимая Вустина кара. В зной и пыль, через яры и буераки трясется в тачанке, как арестантка, с забинтованной головой, которая все гудит и гудит, точно с похмелья. Все чаще и чаще закрадывается в душу подозрение – не явилась ли для верховодов ее рана лишь удобной зацепкой, чтобы отстранить ее от атаманства, засадить свою Ганнусю в обоз. Сами возносили до небес, сами же и в тень оттолкнули при нервом случае. Неужели и впрямь была она только куклой в чьих-то руках, как говорила ей Вустя?
Ганна заметила, что после встречи с Вутанькой в лесу стали на нее в отряде косо посматривать. Когда она, проводив Вутаньку, вернулась к тачанкам, один из бандитов нагло, при всех спросил у нее: «О чем это вы там секретничали, матинко, без нас? Не о тех ли амнистиях, которые Дзержинский всем раскаявшимся обещал?» А когда на следующий день кровью залило ей глаза и дрогнула на ней атаманская корона, как-то сам собой выплыл на первый план этот Скиба, этот усатый петлюровский есаул в штиблетах… До сих пор его и не слышно было – и стрелял молча, и рубил молча, а тут вдруг заговорил, заплакал над Ганной крокодиловыми слезами: «Кто там против Ганнуси? А ну, заткнись! Не дадим в обиду нашу украинскую Жанну д’Арк! От всех хлопот освободим! Пока рана не заживет, пускай сидит в тачанке и ни о чем не думает – наша Ганнуся еще нам понадобится для триумфального вступления в Полтаву!»
Горько, унизительно было Ганне чувствовать себя в стороне, никому уже не страшной, под видом фальшивой заботы глумливо сброшенной с высоты власти куда-то на дно обозной тачанки. Давно ли перед ней падали ниц, песни пели о ней, а теперь вот среди юфти да вонючих смушек погребли в тачанке свою Ганнусю… И есаул в штиблетах сразу изменился – на привалах уже не замечает ее, а то и просто обходит ее тачанку, будто остерегается, чтобы вдруг не достала его своей нагайкой криничанская Жанна д’Арк.
Сердюки – Левонтий и Оникий, считая, что виноват во всем он, этот проходимец в штиблетах, старались утешить Ганну:
– Погоди, мы еще до него доберемся, допрыгается он. У многих наших хлопцев он уже на подозрении. Не иначе как польский сыщик, из тех, что на тайную службу к Пилсудскому пошли. Золото у наших все знай выманивает, а для чего бы это? Не для того ли, чтобы, когда припечет, а а границу махнуть, мельницу там где-нибудь открыть либо шинок? Нет, голубчик! – угрожающе хрипели густо заросшие, мрачные Сердюки. – Пропадать – так уж пропадать всем вместе!
Полно юфти и смушек в тачанке у дядьев, полно буржуйских куниц да лисиц, и среди всего этого добра Ганна – пропыленная, измученная и равнодушная ко всему, едет неведомо куда; большие глаза ее налиты печалью. Все у нее как будто есть и нет ничего. Буржуйские меха под ногами да облако серой дорожной пыли – вот и все ее достояние!
Однажды Ганна едва не погибла вместе с дядьевыми мехами: их тачанка провалилась на мосту. Ганна еле успела выскочить в самый последний миг. Что там творилось! Дышло поломано, сбруя изорвана, одна лошадь тонет, а другая на живот ей копытами наступает, чтобы самой спастись. Награбленные шубы и юфть плавают по воде, намокают и идут ко дну. Дядьки спасают, что можно; вопят в отчаянии, а ей, Ганне, ничего не жаль – она, выбравшись на берег, зовет свою любимую пристяжную кобылку: «Воля, Воля…» Так, не выпутавшись из сбруи, и захлебнулась в Пселе ее Воля…
А бои завязываются все чаще и чаще. Шляховой да Яресько со своими хлопцами дохнуть не дают, и все отчаяннее – как по замкнутому кругу – мечется банда под синим полтавским небосводом.
После памятного разговора с Вутанькой Ганна то и дело, словно бы невзначай, ловит себя на том, что смотрит на свою ватагу уже как на чужую – будто Вутанькиными глазами. Раньше, кажется, и не замечала, сколько среди окружающих ее всякого сброда – и недовольных разверсткой хуторских сынков, и бывших стражников и тюремных надзирателей, и даже таких, которые уже успели побывать на службе у Советской власти, но, в чем-то проштрафившись, вынуждены были спасаться в лесу от трибунала. Головорезы и пропойцы, привыкшие к крови, к бездомной разбойничьей жизни!
По-настоящему открылись Ганнины глаза на них во время налета на коммуну. Будто прозрела вдруг, будто впервые увидела их такими, как они есть, тех, с кем связала свою судьбу.
На высоком холме, на том самом месте, где в давние времена стояли хоромы панов Базилевских, белеют, обсаженные тополями, постройки коммуны «Червоні квіти». Первых господ еще при Екатерине сожгли турбаевские казаки, последних в дни революции выкурили крестьяне окрестных сел. В опустевших домах имения по почину чекистов этой весной была устроена детская коммуна.
Главари банды не раз уже порывались посмотреть поближе на коммунистический рай и жизнь «по потребностям», но Ганна, пока была у власти, все противилась этому, отговаривала своих головорезов: стыдно, мол, воевать с детьми. Теперь же верхушка, видно, решила-таки сделать по-своему.
Рано утром неожиданно свернули к коммуне. Нещадно стегая коней, как бешеные мчались по тополиной аллее, которая вела в усадьбу; Ганна только успела прочитать на арке, мелькнувшей над головой:
«Юный коммунар!
Что ты сделал для раненого
красноармейца?»
Когда Сердюки влетели на своей тачанке во двор, там уже шла расправа – рубили саблями воспитателей, крушили прикладами окна, выбрасывали из комнат, как щенят, насмерть перепуганных спросонья детей, зверски избивая их нагайками.
– Где касса? Где оружие?
Среди матерщины, среди хрипа опьяневших от крови бандитов то тут, то там раздавались душераздирающие детские вопли, мелькали залитые кровью личики ребят.
Соскочив с тачанки, Ганна бросилась прямо в гущу бандитов.
– Не смейте! Прекратить детоубийство!
Кто-то грубо оттолкнул ее, она в кого-то стреляла, но ее в одну минуту угомонили, ткнули лицом в тачанку:
– Не суйся, атаманша, не в свое дело!
Долго слышала она эти раздирающие душу крики юных коммунаров, – пока жить будет, видно, не укрыться ей от чистых детских глаз, налитых слезами, горящих жгучей ненавистью.
Весь день после этого она не находила себе места, не могла глядеть на толстые, в складках жира, загривки Сердюков.
На ночевку банда остановилась в лесу за озерами, неподалеку от Криничек. Тяжелый сон свалил в этот вечер Ганну, и приснились ей какие-то дивные хоромы, – будто ходит она из светелки в светелку и никак не может выбраться из них. Проснулась – кто-то храпит под тачанкой, ущербная, зловеще красная луна сквозь ветви проглядывает… Пить захотелось. Встала из тачанки, не торопясь побрела к воде.
Кто где упал, там и спят мертвецким сном те, что сегодня детской кровью руки обагрили. Все меньше становится их, все меньше места под звездами занимает ее ватага. Темнеют тачанки, сгрудились лошади, расположась на опушке, словно растрепанный цыганский табор. Там и тут торчат часовые, под кустом возле пулемета слышен приглушенный разговор, – видно, сменяется наряд. Сдает пост Остапенко, принимают Сердюки.
– За озером да за протокой получше следите, – слышен хриплый голос Остапенко. – Туда ли кто или оттуда – приказ: палить без предупреждения. В селе Шляховой со своими, так что не дремать!
Заметив Ганну, Остапенко задел и ее мимоходом:
– Не спится нашей матинке? Молодая кровь играет? – И ушел.
Было слышно, как, покряхтывая, отдуваясь, точно волы, дядья укладываются возле пулемета.
Перед Ганной раскинулся тускло освещенный луной плес озера. Звезды над головой, звезды и под ногами – в воде, между осокой и кувшинками. Наклонившись, Ганна зачерпнула горсть воды и напилась всласть. Вода холодная, ключевая – тут без числа родников, и всю эту местность, богатую родниками, изрезанную протоками, озерами и озерцами, криничане издавна зовут Холодные Криницы… Освежив лицо, Ганна присела на холмике у воды. Месячно, маревно, ясно. За плесом озера в ночной мгле тают луга, где-то в камышах покрикивает выпь.
Почему-то вспомнила Ганна, как все это началось… В тот ослепительно солнечный день она дергала конопли на хуторе у Дашков, а рядом, на леваде, Щусь купал в ставке коня. Тогда Ганна еще не знала, что этот Щусь – знаменитый махновский атаман. Для нее он был тогда только парубок – матрос богатырской силы и невиданной красоты, кудрявый, в полосатой тельняшке и в ярко-малиновом галифе… Смеясь, озоруя, купал коня, и весь ставок бурлил под ним, из берегов выплескивался… А ночью вместе с дядьями Щусь нагрянул к ней домой. Говорят, что дядья, мол, продали ее за золото – враки! Никто бы ее не смог продать, если бы Щусь ей не приглянулся. Без памяти полюбила его… Не то что в Дибривку и в Гуляй-Поле – на край света пошла бы за ним! И хоть он потом и променял ее в Гуляй-Поле на Таню Карманову, но вряд ли эта потаскуха, белоручка любила ого так, как любила она, Ганна. Может, больше ради него и на коня села, стала для банды Ганнусей?
Мглистым маревом подернута широкая пойма, где-то у самого горизонта темнеет Голтвянская гора, скрывая в тени раскинувшиеся по склонам знакомые леса. Днем отсюда можно увидеть Кринички. И сейчас, ночью, девка могла бы голос туда подать, если бы ждал ее там милый…
Интересно, глубоко ли тут? Бездонная, как небо, вода, ясные звезды мерцают в ней между распустившихся лилий. Лежат, не шелохнутся на воде листья кувшинок, белеют крупные цветы лилий, таинственно притихли камыши.
И неподвижный плес, и освещенные луной кроны плакучих ив, и прибрежные кустарники – все притихло, будто завороженное, все притаилось в каком-то ожидании, полное, как в купальскую ночь, волшебных чар. Кажется, не удивилась бы Ганна, если б вдруг забурлила вода и из-под кувшинок одна за другой стали выскакивать на берег голые русалки и, греясь в лунном свете, принялись расчесывать свои длинные распущенные косы. Не испугалась бы Ганна их появления, быть может, хоть у этих холодных водяных дев спросила бы, как ей дальше жить на свете!
Что на прошлом пора поставить крест, она теперь всем сердцем чувствует. Но куда, к кому податься? Если бы можно было жить кукушкой в лесу или русалкой вон там, под водой! Нет, видно, не примут ее к себе и русалки, вон какие у них косы, а она – без косы; они холодные, а в ее жилах еще бьется горячая человеческая кровь!
Прощай, бандитская беспутная жизнь! Но что же дальше? Где та тропка, что наконец выведет ее из бандитских блужданий к новой, к честной жизни? Может, эта луна и расстилает дорожку между кувшинок на ту сторону? Может, встать и пойти, прямо так – через воду, через луга, объявиться, пускай судят? Тяжело провинилась перед вами, но ведь не пропащая же я, не пропащая?
Кроваво-красная луна садится в камыши; где-то уже в другом месте ухает выпь – водяной бык; заливаются собаки на хуторах… Сыро вокруг, становится все холоднее, дрожь пробегает по телу. Как там мать? Скоро троица, девчата будут убирать свои дома зеленью, посыпать полы луговой травой… А кто же ее матери хату украсит, кто ей поставит на окна горшки с мятой и любистком?
Однако что это? Ганна вдруг встрепенулась, подалась вперед, замерла, прислушиваясь. Откуда-то издалека, с заречья, донеслись чуть слышные звуки запоздалой гармоники, послышались веселые голоса, пение. Видно, это молодежь только что вышла из Нардома. Допоздна гуляют хлопцы и девчата вместе со своими постояльцами, с бойцами Шляхового… Вздохнула Ганна. Разве не могла бы и она быть сейчас там, с этой молодежью, не могла бы разве влить и свое сопрано в хор молодых голосов? Как тянул ее к себе этот новый, этот страшный и в то же время такой желанный мир! Как близко он отсюда! Стоит лишь миновать эти кувшинки и лилии – и там уже начинается иная Украина, иной их мир, жестокий, пугающий… и такой желанный. Нарастает песня, и хоть впервые слышит ее Ганна – совсем, видно, новая какая-то, – однако есть в ней для Ганны манящая сила, которая так притягивает, до боли тревожит душу и зовет, зовет куда-то! Вот чей-то девичий голос уже выводит высоко-высоко, совсем как Вутанька… А может, это и впрямь она? Может, своей песней и вызывает из лесу Ганну к себе?
Осторожно оглянулась, прислушалась. Банда храпит за спиной, кони спокойно жуют траву… Храпят, все храпят!
Задумалась на миг и решительно махнула рукой: «А! Двум смертям не бывать!»
Через мгновение она уже стояла босая, в одной сорочке. Связала ремнем одежду, взяла в руки наган и крадучись стала потихоньку спускаться в воду. Ни всплеска, ни шороха… Уже умолкла гармоника, а ей она все еще слышится, уже замерла и Вутанькина песня, но в ушах Ганны она еще звенит…
Брела осторожно, чтоб не плеснуть, бесшумно раздвигала рукой лилии и кувшинки. Луна уже совсем садилась в камыши, красная, словно густой кровью налитая.
…Сердюки, дежуря у пулемета, все время дремали попеременно, а в этот миг они прикорнули оба. Только когда что-то хлюпнуло на озере, словно выплеснулась большая рыба, Левонтий, проснувшись первым, сердито толкнул брата в плечо:
– Глянь-ка! Что-то белое среди кувшинок… Не русалка ли? А ну секани!
Струя огня вырвалась из пулемета, белое взметнулось, ахнуло и исчезло – только круги пошли по воде…
Да, двум смертям не бывать.
XXXIV
Под утро отряд Шляхового окружил Ганнину банду и, прижав ее к воде, наголову разгромил. От гибели спаслись лишь немногие бандиты, успевшие на тачанках вырваться из-под огня. После этого отряд незаможных получил новое срочное задание: сопровождать из волостей на станцию, до самых вагонов, заготовленный по продразверстке хлеб.
Третьи сутки уже не спал Яресько, мотался со своим взводом по знакомым местам.
На троицу, когда все село, свежепобеленное, стоит в зеленом убранстве, когда в каждой хате от свисающих на окна ветвей царит солнечная зеленая полумгла, а глиняный пол посыпан хрустящей травой и всюду пахнет мятой, полынью и любистком, забежал Яресько с несколькими товарищами к матери.
– Дайте хоть борща, мамо, а то, сколько рыщем по хуторам, кулачье и пообедать не дает!
– Хотя б троицын день дома побыл…
– Некогда, мамо, эшелон на станции ждет.
– Кого ждет?
– Хлеба нашего, мамо… Да еще с прямым назначением для Петрограда.
– Много отправляете? – спросила Вутанька.
– Да, много. Ведь у них же там голод… По восьмушке на душу.
– Везите, везите, сыночки, – накрывая хлопцам на стол, говорила мать. – Зато и они, когда нам трудно будет, тоже помогут.
Недолго на этот раз пробыл Данько: похлебал наспех с хлопцами горячего борща, проходя садом, сорвал несколько вишен (они только начинали краснеть) и помчался на выгон: снаряженный обоз уже ждал охраны.
Перед тем как трогаться им в путь, Андрияка отозвал Данька в сторону.
– Ты ж гляди, Яресько, чтобы хлопцы не дремали по дороге. А то вчера шел обоз из Манжелии, хлопцы уснули, а их в Черной Балке встречают: стой! Всем хлопцам из охраны животы распороли и зерна в кишки понасыпали! Так что гляди в оба!
Возницей подводы, на которой ехал Яресько, был давний его знакомый – Митрофан Огиенко. Постарел после того, как сына расстреляли, усы обвисли, даже за вилы не в силах был взяться, чтобы в банду к Левченко пойти, как это сделали другие богатеи, его хуторские приятели.
– Все берете, все забираете, а что дадите нам взамен? – спросил у Яресько, когда выехали в поле.
– Новую жизнь дадим, – хмуро ответил ему парень.
– Эх, голубчик… Если ваше новое и дальше будет таким, как сейчас, то… не раз еще по старому заскучаете. Уж каким оно ни было, да зато с полными сусеками.
– С полными, да не у всех.
– Удивляюсь я тебе, Данько: наш ведь ты, как есть наш, насквозь полтавский, а по какой дороге в жизни пошел?
– По той пошел, на какую такие, как вы, мироеды, меня погнали: по каховской да по батрацкой.
– Сколько в тебе лютости к нашим, к своим же полтавским, людям!
– Не ко всем: за одних и умереть готов, а таким, как вы, пощады не будет.
– А мы что же? Куда нам податься? Разве ж мы не люди? Себе вы и землю, себе и права, и царство свободы, а нам?! Тюрьмы да чека? Трибуналы да разверстка? Ох, кипит наша кровь, голубчик, кипит, кипит…
– Докипелась, что с кольями пошли.
– Что о том вспоминать… Мы за колья не брались.
– Зато Левченко, ваш выкормыш.
– А что же Левченко? Вот ты с ним насмерть схватился, считай, разгромил, а спросить – за что? За какую правду? Он Украину любил, а тебе разве она не дорога?
– Потому и колошматим вас, что дорога. Довольно вы из нее крови попили.
– Опять двадцать пять. В том-то и беда наша, что мы сами меж собой, как собаки, грыземся… За других душу кладете, а та, что взрастила вас, своих сынов, опять одна на произвол судьбы остается. Вот ты – чем не орел, быть бы тебе атаманом на всю Полтавщину, а ты все для кого-то хлеб выкачиваешь. Все стены поковырял.
– А вы как хотели бы? По ямам хлеб гноить, а революция пускай с голоду пухнет? Черта с два!
– Да сколько же можно выкачивать?
– Души вытрясем, а возьмем, сколько революция прикажет! Довольно с вами цацкаться! Баста!
Примолкли оба и до самой станции уже ехали молча.
На станции точно ярмарка: тянутся и тянутся отовсюду обозы – подводы, полные мешков, и над каждой подводой винтовки торчат. По всем дорогам хлеб сопровождают вооруженные бойцы отряда незаможных.
Только начали криничанские разгружаться, как подошел обоз из Хмариного, и на первой подводе Яресько с ужасом увидел вместо горы мешков что-то накрытое попонами. Так и есть: из-под дерюги торчат босые батрацкие ноги… Подошла вторая подвода, и ее сразу же окружили: на подводе лежал бледный как смерть Шляховой.
– В живот его ранили, – грустно рассказывал один из бойцов, пришедших с подводами. – На хуторе Лашки случилось. Едем, слышим – стрельба, мы туда, на дворе уже никого, лежат эти двое возле каморы, на кольях скрючились, а товарищ командир – меж сусеками и кровью истекает… Два часа, говорит, отстреливался.
Увидев Яресько, Шляховой слабо улыбнулся.
– Подкараулили они меня все-таки… Долго охотились… Ну что же: классовая война.
Его осторожно положили на шинель, перенесли к амбарам. Побежали искать доктора.
Работа на станции между тем не прекращалась. Бойцы, сопровождавшие хлеб, теперь сами, на своих плечах, и выгружали его, носили прямо с подвод в вагоны. Пока одни были заняты здесь, другие копали за станцией под тополями братскую могилу для погибших товарищей.
Яресько был в вагоне, когда его позвали:
– Шляховой хочет тебя видеть.
Командир лежал в тени амбара уже перевязанный. При приближении Яресько его бескровное лицо чуть озарилось слабой усталой улыбкой. Резче обозначились скулы, щеки запали, широкий большой лоб, казалось, стал еще выше, упрямей.
– Вот что, брат Яресько. Как кончат грузить эшелон, бери своих хлопцев и кати… Будешь сопровождать хлеб до самого места назначения. До Питера. Прямо в руки передашь питерским рабочим…
Он передохнул. Помолчав, заговорил снова:
– Карнауха замучили. Кучеренко. Земляного Юхрема… Передай питерцам, что кровью галещанских… кобелякских… криничанских… что кровью украинских незаможников этот хлеб добыт.
Пот густой росой выступил на его бескровном челе.
В тот же день под вечер нагруженный хлебом эшелон вышел за семафор. На паровозе, рядом с машинистом, с винтовкой в руке отправился в дальний путь Яресько.








