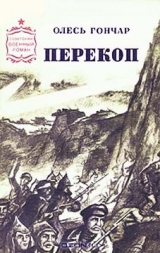
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц)
– Ату их, ату! – катится вдогонку скачущим, и Оленчук, насторожившись, сердито кричит Кулику:
– Не зевай! – и, пригнувшись за кураем, нацеливает герлыгу так, словно ждет нападения зверя или разъяренного всадника на вздыбленном коне.
V
А колокол все гудит и гудит – победно, торжественно, и медный гул его широкими волнами катится над селом, уплывает вдаль, тает в весенней степи.
По всему селу – шум, пальба, возгласы людей, по огородам скачут обезумевшие, без седоков, кони, с грохотом проваливаясь в заброшенные погреба.
Двое спешенных беляков, петляя огородами, оглядываясь, бегут куда-то с ручным пулеметом. Время от времени они на миг останавливаются, один подставляет плечо для упора, другой, припав к приделу, бьет короткой очередью по преследователям, по чаплинским кураям и поветям. Жужжат пули, со звоном сыплются стекла из окон… Отстрелявшись, беляки подхватывают пулемет и бегут дальше.
Яресько неотступно гонится за ними. Дядьки с вилами, тоже преследовавшие пулеметчиков, уже один за другим отстали, а он все гонится. Решил во что бы то ни стало отнять у них пулемет, который так здорово бьет.
Когда пули визжат над ним, он с лету зарывается носом в землю, а когда те, отстрелявшись, бросаются бежать дальше, он тут же вскакивает и, не чуя ног, опять мчится за ними, то и дело стреляя в них на бегу из своей берданки. Бьет, бьет – и все мимо! Откуда-то из засады, из-за хлевов по ним и другие палят, кто-то кричит: «Догоняй, перенимай!»
«Догоню, – проносится мысль у Яресько. – Хоть до Перекопа гнать придется, а пулемет будет мой!»
Вот один из них уже упал – его подбил не Яресько, кто-то другой, а тот, второй, подхватив пулемет, свернул в сторону и бежит дальше! Не стреляет больше, нет плеча для упора! Спотыкаясь на бегу, он оглядывается, и тогда видно его бледное как смерть лицо… Яресько выстрелил вдогонку еще раз, и тот наконец бросил пулемет и, освободившись от тяжести, припустил еще шибче, кинулся куда-то прямо в степь.
Подбежав к пулемету, Яресько радостно схватил его, крутнул сюда, крутнул туда – новехонький! Никогда не виданный! – и, не найдя поблизости ничего пригодного для упора, распластался прямо на земле, прицелился вслед убегающему. Клац! Клац! – не стреляет! Что за черт? Снова – клац, клац, клац… А тот уже далеко. Уже кто-то верхом, выскочив из-за крайних строений, быстро настигает его…
Яресько, полежав, еще раз досадливо щелкнул, чертыхнулся и в сердцах плюнул.
– Что, не стреляет, браток? – где-то за спиной у него послышался насмешливый голос. Обернулся – у колодца кучка раскрасневшихся, распаленных боем повстанцев…
– А ну дай-ка я попробую, может, у меня стрельнет? – подходя к Яресько, весело говорит младший Килигей, изрытый оспой рыжебровый моряк. Круглолицый, раздобревший на морских революционных харчах, он и сейчас еще щеголяет в бескозырке с надписью на околыше «Дерзкий», за что его повстанцы, прибывшие из дальних деревень, так уже и окрестили: Дерзкий… – О, не диво, что не стреляет, – взяв в руки пулемет, причмокнул моряк. – Он же без патронов! – И насмешливо покосился на Яресько зеленым глазом. – Как же это ты, браток, а?
Яресько сконфуженно покраснел.
Пулемет уже пошел по рукам.
– «Люйс» называется. Английский… Приходилось на фронте и с такими дело иметь. – И, возвращая пулемет Яресько, посоветовал: – Береги. Он нам еще пригодится.
Вскинув пулемет на плечо, Яресько направился с товарищами к площади. Только сейчас он заметил, что бой уже кончился. Шум спадает, стрельба утихла, по огородам девчата и подростки, весело перекликаясь, гоняются за лошадьми, ловят.
Несмотря на конфуз с «люйсом», легко и радостно было у Яресько на душе. Получил боевое крещение. Пули звенели так близко, как никогда раньше, но знал, почему-то был уверен, что не убьют они его, нет, нет, нет! Пригибался, падал под их повизгивание, но страха не чувствовал, только щекотный трепет пробегал от свистящего воздуха – воздуха боя.
Победа! Взволнованно бьется сердце, и все тело дрожит от радостного напряжения, играет каждая жилочка от полноты бурлящих в нем молодых сил. Так хорошо вокруг! Ветер и солнце! И пахнет весной!
Шагая за Дерзким, Данько то и дело с затаенной гордостью косился на свой трофей. Добыл! А что без патронов – не беда: еще и патроны добудет!
На площади – радостный гомон, всюду толпится, бурлит разношерстное, возбужденное боем повстанческое войско.
Килигей, взбудораженный, повеселевший, осматривает с командирами захваченную пулеметную тачанку. Дядьки притащили ее сюда на себе: раненых лошадей пришлось выпрячь, сейчас промывают им раны.
Коней на площади становится все больше. Девчата и шумливая детвора ведут со всех сторон только что выловленных по огородам кадетских скакунов.
– Принимайте! – ведя подраненную лошадь на поводу, задорно кричит Килигею какая-то смуглянка.
За ней уже толпятся перед командиром и другие девчата, поймавшие измыленных, загнанных, а то и раненых, со съехавшими на бок седлами офицерских лошадей.
– Нет, так не пойдет, девчата, – скупо усмехнулся Килигей. – Вы ловили, вы и вручайте.
– А кому?
– Сами выбирайте кому. Каждой из вас предоставляю такое право.
Девчата, видно, не решаясь при всем народе воспользоваться неожиданным этим правом, застенчиво поглядывают из-под ресниц на толпу, где среди пожилых сверкают улыбками хлопцы, в их числе и Яресько, только что подошедший с Дерзким к тачанке.
– Ну чего же вы ждете? – подзадоривают девчат командиры. – Выбирайте!
Девчата еще постояли, пересмеиваясь между собой, потом, потянув коня за повод, двинулась вперед, к хлопцам, одна, за ней вторая, третья…
– Что ж меня минуете? – весело приставал к девчатам Дерзкий. – Не глядите, что рыжий и глаза зеленые, кадета с мушки не спущу!
– Тебе, женатому, пускай твоя ловит!
Перед Яресько, залившись горячим румянцем, остановилась… Наталка-цесарница.
– Бери, – ткнула ему в руку повод.
А Яресько, радостно вытаращив глаза, смотрел не на повод, не на коня, а на нее.
– Наталка!.. Откуда ты? Ты же, я слышал, в Херсоне…
– Была, да не стало. – Она уже немного смелее взглянула на него своими синими-синими глазами. – От греков сюда удрала.
Данько смотрел на нее и не верил. Неужто перед ним та самая Наталка, которую он знал еще девчушкой, которую на руках выносил, сомлевшую от серного угара, из овечьих фальцфейновских сараев! И не виделись-то всего сколько, а как изменилась, расцвела, что маков цвет!
А толпа уже снова заколыхалась, с хохотом расступаясь, давая кому-то дорогу. Все головы повернулись туда: вооруженные герлыгами Оленчук и Мефодий Кулик, пробираясь сквозь гущу народа, вели к тачанке пленного кадета. Очутившись перед Килигеем, Кулик с места затараторил про какого-то капитана Дьяконова, про их благородие, про батарею, про наводку…
– Погоди, что ты мелешь? – остановил его Килигей. – Какая наводка? Что за благородие?
В разговор вмешался Оленчук.
– Да это ж они… ихнее благородие, – произнес он, указывая на понурого, без кровинки в лице – то ли сроду, то ли с перепугу – офицера. – Мы их с Куликом еще с фронта знаем: нашим батарейным были.
– Здесь я их, само собой, не узнал, – лихорадочно затарахтел снова Кулик, – вижу, какой-то беляк во двор влетает, ах ты ж, думаю, стервец! Не успел я прицелиться, как Оленчук уже из-за угла его герлыгою да за портупею – раз, и к себе! Так и выдернул из седла!
– Вот это здорово! – захохотали в толпе. – Герлыгою! Как овцу из отары!
Оленчук не смеялся. Рассудительно пояснил:
– Когда уже на земле были, гляжу – наш батарейный. Капитан Дьяконов.
– Аж совестно стало, – не в силах устоять на месте, частил Кулик. – Наше благородие, а мы на нем верхом сидим!
– Хоть раз да прокатился, – снова всколыхнулась от хохота толпа. – Всю жизнь он на тебе, а теперь ты на нем!
– Нежданно-негаданно верхом на благородии поездил!
Килигей приказал взять офицера под стражу.
– Туда его, – кивнул он в сторону волостной кутузки. – Пусть он там прохолонет маленько, этот… грек доморощенный.
Дьяконова увели, а Кулик все еще не мог успокоиться, – размахивая герлыгой, витийствовал перед толпой:
– Подымаются ихнее благородие из-под меня, да такие удивленные – видно, не узнали, – и сразу до Ивана: «Оленчук – ты?» – «Я». – «Так ты ж в Карпатах убит?» – «Нет, извиняйте, ваше благородие, – говорит Иван, – не убит я, живой я, живехонький. Только шею вот скрутило трошки, тем и отделался…»
Оленчук стоял и молча слушал рассказ Кулика, слушал даже с любопытством, словно речь шла не о нем, а о ком-то другом, постороннем.
Последний раз Яресько видел Наталку года два назад в Аскании, когда сброшен был царь и жители окрестных сел пришли громить главное имение Фальцфейнов.
Незабываемые то были дни! Жилось и в будни как в праздник, ощущение какой-то крылатости, простора все время не покидало Данька. Ходил как во хмелю, упивался наконец-то добытым счастьем свободы, молодости. Выйдешь в степь – твоя степь, глянешь в небо – небо и солнце твои! После митингов во все горло распевал с хлопцами «Варшавянку», и казалось, что слышат его звонкий голос и родные Кринички, и вся Украина, и весь мир!
Митинговали с утра до вечера. Панский каретный сарай был превращен в клуб, настлана сцена, и после выступлений приезжих агитаторов – эсдеков, и эсеров, и лохматых анархистов-индивидуалистов – молодежь распевала революционные песни или разыгрывала пьесы. Развлекал там по вечерам уважаемую батрацкую публику и Данько Яресько, выступая то в роли писаря Финтика из «Москаля-чародея», то, чаще, в комических женских ролях, где он не без успеха – под общий хохот присутствующих – представлял недавнюю хозяйку имения, Софию Фальцфейн.
Крепкие помещичьи тенета, захватив Данька мальчиком на каховском человечьем рынке, так с тех пор и не отпускали его назад в родные Кринички. Сестра осенью вернулась домой на Полтавщину, а он, передав через нее матери поклоны да убогий свой заработок, завязанный в уголок платка, остался еще на одну весну в степях. Так и пошло с тех пор – сезон за сезоном, марево за маревом.
Первые неудачи на фронте сказались и на судьбе Данька: звонкоголосый асканийский хор мальчиков был распущен. Пани София нашла себе другую, более отвечающую времени забаву: организовала в своем имении лазарет «для солдатиков» и сама, нацепив белую косынку с красным крестом на лбу, стала первой в Аскании сестрой милосердия.
В жизни Данька вместо камертона регента снова на первый план выступила чабанская герлыга. Как и другим разжалованным хористам, ему был предоставлен широкий выбор – на все четыре стороны!
Дружок его, Валерик Задонцев, увязав свои книжечки, подался поближе к школе, в Херсон, а перед Даньком снова легла дорога в степь – побрел искать счастья по отдаленным таборам и кошарам. Вскоре, по старой дружбе, взял его атагас Мануйло Кравченко к себе подпаском.
Никогда не забыть ему эту картину: закованная гололедью степь, разбросанные до самого моря кошары… А он, сгорбившись, плетется с герлыгою за своей отарой среди бескрайних пустынных просторов. День за днем бредет вот так в неизвестность, в царство неуемных вечных ветров, пронизывающих до костей.
Мертвое безлюдье присивашских равнин. Птицы, замерзающие на лету. Целодневные скитания с отарой на холоде и тоскливые вечера в кошарах, под завывание лютых степных буранов – вот из чего складывалась его жизнь.
Потом нагнали в степь австрийцев. Гнали их теми же шляхами, что и батраков с каховских ярмарок, размещали в тех же батрацких казармах. На разных языках перекликались теперь косари в сенокос, кроме близких, родных с детства песен, зазвучали теперь летними вечерами в таборах и на гумнах еще и другие, незнакомые, печальные. Австрийцы, чехи, мадьяры, карпатские гуцулы – кого там только не было! – полтавские, орловские – все они смешались в этом степном Вавилоне.
Докатилось пополнение и до мануйловского шматка [1]1
Шматок– часть отары в несколько сот овец (укр.).
[Закрыть]– одного из пленных дали им в отару на подмогу. Молчаливый, худой – кожа да кости, – лет на пять старше Данька, был он родом откуда-то из Карпат, из Мадьярщины, и звали его Янош. Когда уже пообвык и кое-как научился по-нашему, скупо рассказывал летними вечерами у костра о своих далеких краях. Служил в пастухах у помещика; такая же и там у них жарынь, такое же безводье, такие же роскошные марева колышутся летом. «Только и разницы, что по-вашему – пастух, а по-нашему – пастыр. По-вашему – степь, а по-нашему – пу́ста».
А колодцы там, оказывается, с журавлями высокими, и хаты по селам белые, в садочках вишневых, совсем как на Даньковой Полтавщине. Хорошо было об этом беседовать.
Мечты сдружили их, а совместные скитания с отарой в безлюдной сивашской степи еще больше сблизили, сроднили меж собой. Даже одеждой поменялись: Данько отдал Яношу свою батрацкую свитку, а Янош ему – цесарскую шинель, чтоб не напоминала ему больше про окопы.
Однажды в степи к их огоньку подошел какой-то неизвестный, одетый по-городскому. В степи, как и в море, встретив человека, не спрашивают, кто он и откуда. Обычай велит сперва накормить его ужином, а потом он до поздней ночи беседовал с чабанами об их жизни, об их доле.
– Гляжу я на вас, хлопцы, – говорил он, – и думаю, что один вам жребий на двоих достался. Этого капитал сызмалу в степной плен захватил, другого – царская война сюда под конвоем пригнала… – И, подбрасывая сухой кизяк в костер, задумчиво добавил: – А только вызволяться из неволи, видно, придется вам вместе, хлопцы.
Исполнилось его слово. Вместе с Яношем прямо из степи пришел Яресько в революцию.
Что тогда творилось в степи! Словно весенним ветром с неба повеяло, душу освежило. С песнями, с флагами шли крестьяне ближних сел на Асканию, к ним на ходу присоединялись чабаны, австрийские пленные, батраки и батрачки из таборных казарм.
– Царя сбросили!
– Война дворцам!
– Свобода всем, всем, всем!
Дышалось легко, небо улыбалось людям, пламенем полыхал алый флаг на башне асканийской водокачки, и словно светлее стало от него по всей Таврии.
В радостном опьянении ворвались людские толпы в Асканию, и затрещали вольеры, упали ограды, раскрылись клетки – чтоб не только у людей был праздник, звери и птицы были выпущены на волю. Как из Ноева ковчега высыпало все, что до тех пор жило взаперти, поднялись к небу редкостные птицы, помчались в степь быстроногие олени и полосатые зебры, дикие монгольские кони и сайгаки, могучие бизоны американских прерий и беловежские зубры. Все живое радовалось в тот день, неслось степью куда глаза глядят, ошалелым ревом трубя о своем освобождении, оповещая всех, что долгожданная воля настала.
Одну только клетку не отворил восставший народ – ту, самую большую, что стояла в имении под окнами панских покоев на специально насыпанном для этого степном кургане со скифской каменной бабой – на таких курганах любят в степи отдыхать орлы. Один из них и сейчас жил здесь.
Огромный, с саженным размахом крыльев степной хищник уже второй год томился в этой клетке, на удивление гостям, на утеху хозяевам. Целыми днями дремал он на вершине кургана, равнодушный ко всему, не обращая внимания на свою тысячелетнюю каменную подругу. Только я оживал, когда приходил час кормежки. Панский любимец, он ежедневно получал в знак милости пани Софии щедрый рацион – живую, взятую из отары овцу. Сгребет, вмиг рас терзает жертву железными когтями и, наглотавшись горячего мяса, сидит, забрызганный кровью, на вершине кургана и снова дремлет, отдыхает.
Всем существом ненавидел Данько этого кровопийцу. Каждый раз, когда случалось проходить мимо него, вспоминалось хлопцу, как, еще по пути в Каховку, однажды на привале прилег он, усталый, на обочине дороги и сразу задремал, а проснувшись, увидел над собою в небе вот такого хищника, который, распластав крылья, казалось, целился ему своим клювом прямо в грудь. Как страшный сон врезалась ему в память на всю жизнь эта первая его детская встреча с крылатым степным разбойником. Порой казалось Даньку, что это именно он, тот самый крылач, что хищно вился когда-то в степи над его бурлацким детством, теперь терзает свои жертвы у всех на глазах. Не раз, проходя мимо, Данько грозил ему кулаком, да все не мог исполнить своей угрозы.
Когда же настал день, что можно было наконец поквитаться, хлопец не упустил случая. Под одобрительный гул бурлящей толпы вошел с герлыгой к хищнику в его пропахшую падалью, кровью забрызганную клетку:
– А ну-ка, царь пернатых, может, и тебе с трона пора?
Толпа насторожилась, притихла. Противник, даром что отяжелел на панских харчах, был еще опасен – такой одним ударом крыла сбивает человека с ног, одним ударом своего стального клюва проламывает череп…
То был первый враг, павший от руки Яресько. Словно ярмарочного борца, приветствовала возбужденная толпа молодого чабана, когда он, веселый, довольный, победителем вышел с герлыгой из орлиных хором. Светлана Мурашко, смеясь, приколола ему тогда на грудь красную ленточку, а Наталка-цесарница… Наталка только посмотрела на него своими небесно-синими глазами, но так посмотрела, что и до сих пор он не может забыть этот взгляд.
С Наталкой у них вскорости разошлись пути: после того как остались ее вольеры без цесарок, подалась девушка в Херсон искать себе другого места, Яресько же остался в Аскании.
Не успели еще надышаться новой жизнью, как замелькали в степи рогатые кайзеровские каски – пришли немцы с гайдамаками. Первым делом похватали рабочкомовцев вместе с председателем рабочкома механиком Приваловым и, отправив в Геническ, учинили там над ними изуверскую расправу: набили арестантами старую баржу, вывезли в море и живыми пустили ко дну.
После падения гетмана был создан в Аскании новый рабочий комитет и несколько вооруженных боевых дружин для охраны степи и отдаленных таборов от кулацких налетов. Яресько сел на коня. За славный голос да за веселый нрав – больше за это, чем за какие-нибудь там подвиги, – его даже выбрали в одной из дружин старшим.
Так во главе батрацкой боевой дружины и летал он по необозримой асканийской степи, сдерживая разгул кулацкой ненасытной жадности. Ничего не щадило кулачье: растаскивали не только постройки, даже деревянные срубы у колодцев разбирали, развозили по хуторам, а колодцы пусть рушатся, гибнут. Однажды как-то примчались в табор Кураевый, а там уже все идет вверх дном: старый Гаркуша с агайманскими старообрядцами за бороды схватились, готовы горло друг другу перегрызть из-за какого-то маховика… Пришлось разводить их арапником. Так и жил Яресько, месяцами не слезая с коня, охраняя со своей дружиной степь, пока не ударил в набат чаплинский колокол.
И вот теперь – после первого настоящего боя – стоит с Наталкой на людной чаплинской площади, освещенной ярким заревом заката, не отрывая глаз смотрит на девушку, радостно взволнованную встречей, и, словно зачарованный, слушает ее грудной, воркующий, как у горлинки, голос.
Солнце зашло, по все небо на западе еще горит, бросает на окна Чаплинки красные блики. Неумолчно играет гармошка, веселится на площади молодежь. Яресько с Наталкой, беседуя возле ограды, не замечают никого, чувствуют себя среди этой толчеи точно наедине.
Так вот, как ушла она в Херсон, служила нянькой у адвоката, может, и до весны бы продержалась, но, когда случилось там несчастье – греки людей попалили в портовых амбарах, вырвалась и в чем была прибежала в Чаплинку к тетке…
– К тому же, говорят, землю тут будут делить, не прозевать бы мне свою, – засмеялась она.
Глядел на нее Яресько и любовался. Как изменилась! Уже и косы под косынкой уложены по-городскому, и кофта – на кнопках – плотно, красиво облегает высокую грудь. За время, что не виделись, стала как будто нежнее вся, тоньше, смотрит в лицо смелей. Разрумянилась, щеки горят, а глаза все время смеются, светятся, искрятся, и все небо в них переливается.
– На кого же ты своих аблакатов бросила?
– А ну их! – Она весело махнула рукой. – Такие нудные да злющие! Они там суд над Лениным было устроили. Собрались как-то вечером все ихние прокуроры, понацепляли на нос очки, бумага у каждого в руках – судят… Комедия, да и только!
Вдруг откуда ни возьмись подходит к ним Хлопешка, запросто кладет девушке руку на плечо.
– Это что за новости сезона? – Возмущенно дернув плечом, она стряхнула его руку.
– Пошли на польку, – пробасил Хлопешка, наливаясь кровью и будто не замечая Яресько.
– А может, я… не желаю? – ответила ему девушка с необычной для нее раньше смелостью.
– Не пойдешь?
– Не пойду. – И она посмотрела на Данька так, словно между ними все было уже договорено.
Хлопешка исподлобья взглянул на Яресько:
– Ты что? Уже занял здесь позицию?
– Занял.
– Ишь какой прыткий.
– Да уж какой есть.
Хлопешка, насупившись, постоял, поразмыслил и, небрежно языком перекинув мундштук из одного угла рта в другой, поплелся к кружку танцующих.
– Такие вот и там, в Херсоне, – вновь заговорила возмущенно девушка, словно жалуясь Даньку. – По улице, бывало, не пройдешь… Французы так и липнут… Греки с ножами гоняются…
Слушая ее, Данько вместе с ней переносился мыслью в Херсон, вместе с ней переживал трагедию этого поруганного интервентами города.
Наталка, склонившись к нему, все рассказывает о пережигом, и голос ее звучит то жалобой, то гневом. Вступая, образцовый порядок обещали навести, а потом такой навели, что до сих пор весь город голосит. Высадились они под вечер; говорят, петлюровские лоцманы провели их с моря по путаному фарватеру днепровского гирла. Из порта шли к городу с такими тулумбасами, что ну! Впереди английский оркестр с трубами через плечо, французские офицеры вышагивают, во все стороны бросая улыбки, а позади всех вооруженные ножами греки мрачно тащат артиллерию на ослах, и херсонская детвора шумно бежит за ними, выкрикивает на все голоса:
– Иисусова кавалерия!
– Ишаки Антанты!
Всюду, где с музыкой проходили заморские гости, на стенах зданий появлялись свежие разноцветные прокламации, в которых херсонцев заверяли, что отныне каждая семья может жить спокойно, так как союзные войска прибыли сюда не для войны, а для мира, для поддержания законного порядка – ни для чего другого. А не успело стемнеть, как по всему городу, особенно по рабочим его слободкам, уже загрохотали в двери приклады, начались повальные облавы. К утру тюрьмы были переполнены, а на фонарных столбах на Говардовской качались молодые рыбаки, захваченные ночью с рыбой на Днепре. В Монастырской слободке без суда, без следствия, по одному только подозрению в связях с большевистским подпольем была расстреляна группа матросов и рабочих.
Жизнь стала невыносимой, с наступлением темноты на улицу не выйдешь, город точно вымер, только кованые каблуки по булыжнику грохочут. Дороговизна страшная, надвигался голод, в трущобах порта и в подвалах Забалки уже пухли дети, а «спасители» тем временем под метелку выметали все запасы хлеба, хранившиеся в порту. Один только английский пароход погрузил будто бы за раз пятнадцать тысяч пудов муки.
А самое страшное началось, когда интервенты увидели, что не удержаться им тут: на кораблях у французов вспыхнули волнения, со стороны Николаева приближаются красные, в самом городе смута. Тогда они стали хватать всех подряд, на улице и по квартирам, и, как заложников, толпами гнали в порт. Тысячи согнали – и стариков, и женщин, и детей, набили людьми полные амбары, те самые амбары, из которых перед тем подчистую вымели хлеб. А в последнюю ночь, когда уже совсем невмоготу им стало и они вынуждены были перейти с берега обратно на корабли, они ударили оттуда из пушек прямо по набитым людьми амбарам.
До сих пор еще на том месте тлеют огромные кучи пепла, до сих пор еще голосят на пожарище обезумевшие от горя женщины, разыскивая кто сына, кто мужа, кто брата…
VII
Оленчук всю ночь стоял на часах у кутузки и всю ночь, как рассказывали другие часовые, вполголоса вел через щель какие-то переговоры со своим благородием. О чем они там перешептывались? О чем тихонько исповедовался молодой золотопогонник своему бывшему подчиненному?
Утром Оленчук явился в штаб и без долгих объяснений заявил Килигею, что готов взять капитана Дьяконова на поруки.
– Жалко стало? – прищурившись, подозрительно бросил Баржак.
– Ты меня этим не пугай, – спокойно возразил Оленчук. – Почему же не пожалеть человека, если он того стоит. Все вы здесь фронтовики, и я перед вами засвидетельствовать могу: были их благородие командиром совестливым, нас, солдат, зря не обижали. Кулик тоже может подтвердить.
– Так-так, – слегка побарабанил Килигей пальцами по столу. – Сам, значит, поймал, сам и выпущу?
– Неплохим, видно, оказался кадет оратором, – насмешливо заметил Баржак. – За одну ночь мужика в дым разагитировал.
– Это еще не известно, кто кого, – буркнул Оленчук недовольно.
– О чем ты там ночью с ним шушукался? – как бы между прочим поинтересовался Килигей.
– Да обо всем понемногу. О войне, о жизни. Про семью меня расспрашивал.
– Ой, гляди, Иван, чтоб он снова из тебя денщика не сделал! – шутя предостерег Житченко, артиллерист.
– Скорее, пожалуй, я из него человека сделаю.
– Ты нам из него хорошего молотобойца сделай! – посоветовал Килигей. – Сегодня начнем лошадей ковать, молотобойцы нам как раз понадобятся.
– О, это занятие аккурат для благородия! – покручивая ус, сказал Кутя маячанский. – Пускай потрудится для революции, помашет молотом хоть день.
– Ну, так как? – взглянул Килигей на членов штаба. – На таких условиях… отдадим Оленчуку его благородие?
– Пускай берет, – пробасил Кутя. – Да только пасет пускай как следует, чтоб к своим не переметнулся.
– Слышишь? – Килигей сурово посмотрел на Оленчука.
– Слышу.
Так решилась судьба его благородия, так, прямо из кутузки, перешел он в закоптелую чаплинскую кузню, стал с молотом у наковальни в паре с бывшим своим батарейцем. В расстегнутом френче английского сукна, без погон и без пояса трудится, добросовестно ухает молотом по раскаленному железу, напряженно следя за тем, чтоб не угодить великодушному своему Оленчуку по пальцам.
Когда пришла нора полдничать, Оленчук накормил офицера из своего узелка, поделившись с ним домашними коржами, которые старуха положила ому в дорогу. Поев, офицер тут же, на дворе, закурил с дядьками, угощаясь самосадом из их радушно протянутых кисетов.
Покурив, снова стали к наковальне, снова заухали молотами вперемежку: раз Оленчук по железу, раз благородие, раз Оленчук, раз благородие…
Кулик, случайно забредя на кузню и увидев это зрелище, шумно обрадовался:
– Кует! Ей-же-ей, кует! Когда мне сказали, я и не поверил. А оно таки правда. Таки сделал Иван из нашего благородия молотобойца.
Каждый, кто приходил сюда потом, не мог без улыбки смотреть на эту необычную картину: у раскаленного горна дружно бьют молотами по наковальне, как бы разговаривая между собой языком металла, Оленчук и его благородие. А пока они гнут спину за работой, Кулик, усевшись на пороге, делится с крестьянами своими мыслями о капитане Дьяконове, нисколько не смущаясь его присутствием.
– Такого отчаянного картежника, как их благородие, не найти было на всем румынском фронте, – с гордостью рассказывает он. – Как ночь, так уже и сходятся к ним офицеры с соседних батарей, запрутся в блиндаже и режутся до утра!.. А нас, вестовых, все, бывало, за новыми картами в город гоняют. Транжиры, скажу я вам, были, поищи таких: что ночь, то новую колоду распечатывают… Но даром что все ночи картежничали, командиром был справным, наводку лучше их никто делать не умел! Как наведут – так и там!.. И с нашим братом тоже умели как-то по-людски. У других – рукоприкладство да мордобой, а у нас на батарее этого – ни-ни-ни!
Дядьки, слушая разглагольствования Кулика, поглядывали на Дьяконова все с большим уважением. Почти все окопники, годами на себе испытывавшие нелегкую власть командиров, они хорошо понимают цену Куликовой похвалы.
– А как-то их благородие, – продолжает Кулик, – нашему батарейному ковалю два серебряных рубля дали: на, говорят, Севастьянов, да выкуй мне из них шпоры к вечеру…
Явтух Сударь при упоминании о серебряных рублях хитро прищурился на Дьяконова:
– Богатые, видно, были, ваше благородие, что так серебряными рублями разбрасывались?
Офицер, опершись на молот, смахнул обшлагом пот со лба.
– Был и тогда небеден, – медленно произнес он, – но сейчас… – он взглянул на Оленчука, – сейчас богаче.
В один из ближайших дней, когда работы в кузне поубавилось, Оленчук снова явился к Килигею с неожиданной просьбой: отпусти домой, ведь там…
– Что там?
– Весна!
– А у других не весна?
– Ну, у других, может, есть кому… А я ж тебе, Дмитро, и сына привез.
– За сына спасибо.
– Надо будет, так и я… Да сейчас… Ты ж кавалерию формируешь, а я, видишь… – Он как-то по-бычьи выгнул свою контуженую шею, словно собирался кого-то боднуть.
– Ну ладно, – согласился Килигей. – Иди, сей.
– Только ж я и офицера своего заберу.
– А он тебе на что?
– Найду и ему работу, чтоб не скучал. На винограднике будет помогать или…
– Ой, гляди, Иван! – сурово перебил Килигей. – Не то нынче время, чтоб ихнюю белую кость жалеть! – Подумав, махнул рукой: – Ну да забирай, черт с ним… Надо будет – позову.
VIII
Рано начинается таврийская весна!
Объявляют ее жаворонки. Никто не знает, где они зимуют, где укрываются от злых буранов, но можно думать, что степи они не покидают, потому что только пригреет первое солнышко – пускай даже посреди зимы! – как они уже и зазвенели повсюду за селом, распевая свою песнь земле, и небу, и солнцу, и людям.
Первые нежные певцы весны, сегодня они уже перезваниваются над Чаплинкой. Слушают их часовые на чаплинских заставах, слушают дядьки, что дымят цигарками у кузни да поглядывают в степь: вот-вот земля позовет сеятелей в поле…
Молодой конник едет Чаплинкой. Издалека узнают его чаплинские девчата: асканийский вихрастый запевала Яресько. Едет не спеша, покачиваясь, небрежно перекинув обе ноги на одну сторону. В руке – связка запасных, только что выкованных подков, он играет ими, зачарованно оглядываясь вокруг, словно впервые здесь очутился, словно не глиняной облупленной Чаплинкой едет, а каким-то невиданным царством…
День как умытый: с солнцем, с ветерком, с первыми жаворонками. Земля оттаивает, и талый винный дух полей, разбавленный солоноватой влажностью недалекого моря, уже ясно чувствуется в воздухе. Не узнать сегодня Чаплинки: саманные, оббитые буранами халупы нарядились уже совсем по-весеннему, стоят в хрустальных сережках тающих сосулек, с которых на землю медленно капает и капает солнце.
Как не узнать эту хрустальную, всю в самоцветных каплях Чаплинку, так не узнать и Наталку сегодня: красуется у теткиной кураевой загаты в ярком платке – голова наполовину открыта. Стоит, щелкает семечки, издали улыбается, заметив Данька.








