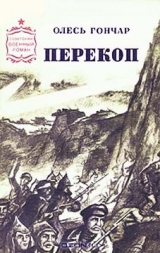
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 27 страниц)
Олесь Гончар
Перекоп
Книга первая
Дредноуты на горизонте
I
Какого черта вы притащились к нам, греки?
Произнес это кто-нибудь вслух или всадники только подумали об этом? Нет, в самом деле сказал, глядя на море, вон тот хмурый, с худым смуглым лицом фронтовик. Хищно сгорбившись, сидит на не остывшем еще от бега коне. Рука его нервно сжимает, как нагайку, ветку дикой колючей маслины, сломанную где-то на скаку.
Небольшой отряд вооруженных ревкомовцев на заляпанных грязью лошадях тесно сбился вокруг него, своего вожака. Длинные утренние тени от лошадей, от сгорбившихся в седлах фигур неподвижно лежат на степных кураях. Влажный ветер освежает обросшие суровые лица. Все молча смотрят в сторону Хорлов, в сторону родного тополиного порта, только что подвергшегося обстрелу и уже занятого греческим десантом.
Снова в порту звучит чужая речь, снова хозяйничают чужие люди. Кого только не перевидал порт за эти годы! Видел зуавов, бенгальцев, сенегальцев, здоровенных чернокожих марокканцев, видел французскую морскую пехоту и долговязых английских офицеров, как к себе домой Сбегавших здесь по трапам на берег. Теперь вот еще греки, эти несчастные прислужники Антанты… Чего их принесло сюда? Что надо им здесь, на Украине?
Самого порта отсюда не видно, маячат лишь высокие тополя над ним. Кто и когда их посадил? Еще и порта не было, а они уже шумели на этой глухой, отдаленной рыбачьей косе.
Порт молодой, один из самых молодых портов украинского Юга. Незадолго до войны построили его для себя степные миллионеры, овечьи короли да «чумазые лендлорды» – хуторяне, и за короткий срок, за несколько предвоенных лет, дорогу в этот порт уже знали барышники всего мира. Экспортеры, хлеботорговцы, всяческие дельцы толклись тут каждое лето. Большие и малые торговые корабли под флагами всех стран охотно заходили сюда.
Высокие тополя – это было первое, что могли разглядеть с моря иноземные капитаны, приближаясь через Каркинитский залив к Хорлам. Еще не видно было берега, еще не видно было портовых амбаров и рыбачьих халуп, а тополя уже поднимались стайкой на горизонте, высокие и стройные, одни в необъятном просторе между небом и морем. Казалось, что не на суше они, не на берегу, а вздымаются ввысь прямо из морской синевы.
Б морские бинокли разглядывали их капитаны всего мира. Откуда эта живая тополиная готика в краю беспредельных степей, в краю полынно-седых украинских прерий? Растительность здесь жесткая, колючая и низкорослая от постоянной борьбы с ветрами. И только тополя гордо возвышаются надо всем.
Тополя, тополя… Есть что-то грустное в их задумчивых силуэтах, есть что-то девичье-беззащитное в их тополиной стройности. Словно девчата-батрачки, пришли они через жаркие степи откуда-то с севера и в задумчивости остановились на одинокой рыбачьей косе высоким дозором родного края. Весной одеваются в зелень, а осенью до белой коры раздевают их пронизывающие норды да осты… Нежные песенные деревья, где берут они эту мощь, эту упругую силу, чтобы противостоять вечным ветрам и буранам? Лето и зиму тоскливо гудят на открытом берегу, до самых вершин обстрелянные солеными брызгами штормов.
Небо – да море – да клонящиеся под ветром тополя…
Вот все, что видели иноземные капитаны, приближаясь к этим берегам. Однако не столько манила их взор живая красота украинских тополей, сколько привлекало то, что открывалось перед их глазами потом, уже при входе в порт. Ряды огромных амбаров и лабазов тянулись вдоль берега, горы степного золота, горы налитой солнцем пшеницы, которую не вмещали хранилища, высились прямо под открытым небом, золотясь между тополями по всей территории порта. Три мощных моста-эстакады были переброшены с берега далеко в море, на глубину, чтоб удобнее было грузиться океанским судам.
Год за годом бесконечным потоком двигались сюда из степных экономий обозы скрипучих чумацких мажар, груженных отборным экспортным зерном и тюками тонкорунной шерсти. В задубелых постолах, в истлевших до швов сорочках мрачно брели рядом с воловьими упряжками батраки, приумножая чьи-то, за морем, богатства… Океанские суда не успевали заглатывать щедрую дань Таврии. Вряд ли где-нибудь в Индии или на Африканском материке первые завоеватели-колонизаторы имели такие баснословные барыши, какие получали их потомки здесь, на светлом таврийском берегу.
Радостная лихорадка трясла экспортные конторы. Открывались отделения банков, день и ночь грохотали на эстакадах подводы и обливались черным каторжным потом грузчики, спотыкаясь по трапам с семипудовыми ковшами или чувалами на плечах.
Поломал там смолоду хребет, потаскал до седьмого пота душными летними ночами ковши по трапам и вот этот худощавый, что, насупившись, сидит сейчас на коне, – вожак отряда. Дмитро Килигей звать его. Из-под кустистых бровей – недобрый блеск серых глаз. Под смуглой кожей разлилась нервная бледность. В прошлом году, при гетмане, сидел он в херсонской цитадели, в камере смертников; оттуда вынес он эту бледность, с тех пор не гаснет в глазах его этот жаркий, лихорадочный блеск.
Еще молодым парнем пришел он из степной Чаплинки на работу в Хорлы да так уже потом и не разлучался с горьким грузчицким хлебом, здесь и женился на дочери портового грузчика. На фронте служил в кавалерии, получил «Георгия» за солдатскую доблесть, а вернувшись с румынского фронта домой, первым взялся с товарищами наводить новые порядки, создавать ревком. Верят ему товарищи, как себе: из тех он, что головы не пожалеет, только бы революция жила!
Ходили в народе слухи, что не кто другой, как он, Килигей, был причиной смерти степной миллионерши Софии Фальцфейн, одним своим видом будто бы отправил старую лиходейку на тот свет, когда, увешанный бомбами, явился к ней в гости с товарищами-фронтовиками в Хорлы, явился как раз в то время, когда она, собравшись бежать за границу, в окружении своих приживалок ждала благоприятной погоды.
Менялись власти. Крутыми поворотами шла жизнь. Гетман Павло Скоропадский не нашел с Килигеем общего языка: каменная стена цитадели встала между ними. Из камеры смертников Килигея освободили восставшие херсонские рабочие.
После возвращения из тюрьмы был Дмитро в Хорлах председателем ревкома, и вот теперь пришлось, бросив и ревком, и жену, и детей, оказаться в положении бездомного – с горсткой товарищей в чистом поле.
Все произошло внезапно: едва забрезжил рассвет, один за другим загрохотали в порту тяжелые снаряды, посыпались стекла из окон рыбачьих халуп, и не успели люди прийти в себя, как несколько темно-серых стальных акул уже мчались с моря на порт.
Греческие миноноски!
Зачем они пришли сюда? Что им здесь надо?
Налитый ненавистью взгляд Килигея из-под кустистых бровей устремлен в сторону порта. Челюсти крепко сжаты, перекошены, точно навек, гневом или болью. Не может спокойно думать о тех, что сейчас хозяйничают там, в его родном порту. Разбойники. Гости непрошеные. Гонят их в дверь, а они лезут в окно. Только что выперли их из Херсона, а они уже сунулись в Хорлы. Налетели, подняли пальбу, разворотили снарядами ревком…
Куда ж теперь?
Выпрямившись в седле, Килигей огляделся. Как необъятный артиллерийский полигон, раскинулась степь. Мартовская ростепель. Летошние кураи, просыхая на ветру и солнце, буреют, становятся похожими на клубки фронтовой колючей проволоки. Вот ветром сорвало с корня один такой клубок, и стал он уже перекати-полем, понесся, подскакивая, степью все дальше и дальше.
Товарищи ждут команды.
Килигей, дернув повод, круто повернул коня на север, на Чаплинский тракт:
– За мной!
Перемешанная со снегом земля, разлетаясь, застреляла из-под копыт.
Все меньше становятся фигуры уходящих в степь всадников. Только небо над ними – высокое, нежно-голубое, предвесеннее – остается все таким же по-степному огромным.
II
На околице Чаплинки – вооруженная вилами крестьянская застава. Дорога при въезде в село перегорожена вздыбившимися баррикадой боронами, грозно ощетинилась железными зубьями – не проскочить никакой коннице. Мужики в кудлатых чабанских шапках толпятся на обочине, укрывают брезентом деревянный воз с наведенным куда-то вверх – в сторону моря – дышлом.
– Ну что, Дмитро, похоже издали на шестидюймовку? Напугается француз?
Килигей скептически оглядывает мужицкую «шестидюймовку».
– Не так их надо пугать.
Среди дозорных заставы – его, Килигея, отец. Сухой, легкий, как джигит, несмотря на свои семьдесят лет. Зрение как у орла: сам вдевает нитку в иголку. Поздоровавшись с сыном, останавливает взгляд на взмыленных, дрожащих лошадях:
– Чего так гнали?
– Беда, батя… – Лицо сына потемнело. – Гости в Хорлах, непрошеные гости…
Старика словно крапивой кто стегнул:
– А зачем пустили?
Сын молча стерпел укоризненный, едкий отцовский взгляд. Старый солдат, отец и поныне – еще с японской – сохранил унтерскую бравую осанку: весь как пружина. После смерти жены живет при младшем сыне Антоне, что недавно привез отцу в хату невесткой какую-то севастопольскую кралю, по его словам, чуть ли не адмиральскую дочку. Старик признал ее, однако сорочки сам себе стирает, не разрешая невестке ухаживать за собой.
– А это что у вас тут? – обращается к крестьянам Килигеев друг, бородатый матрос Артюшенко. – Боронами обложились, возы вытащили на позицию…
– Они на нас жерлами дредноутов, а мы на них хоть этим, – кивает на поднятое дышло старший заставы – великан-фронтовик в старой шинели с обожженными полами.
– Порешили, что лучше пропадем, а волков в кошару не пустим! – говорит Явтух Сударь, кряжистый, заросший, как медведь. – Кадеты налетели было с Перекопа, хотели людей набрать, мы их… взашей.
– Без сапог, без погон вытурили мы ихнюю комиссию из села! – ввязываются в разговор и другие. – Думаем, уж коли идти на мобилизацию, так лучше самим себя мобилизовать.
– Теперь вся наша Чаплинка, – поясняет старый Килигей сыну, – считай, мобилизована.
– Против кого?
– Против белополяков, и против француза, и против грека.
– Тогда нам с вами по дороге.
Дядьки растаскивают бороны, освобождая дорогу лошадям.
– Карателей ждем, – кивнув в сторону Перекопа, объясняет Дмитру отец. – Возы петель из манильского каната будто бы уже готовят на нас там, чтоб вешать всех подряд.
– Ну да и мы не дремлем, – заметил Явтух Сударь, – разослали гонцов по селам, ударили в набат. Хотели и к вам посылать…
– Выходит, мы аккурат к авралу? – выпрямился в седле Артюшенко.
– Поезжайте прямо к волости. Там сейчас сход собирается, – обращаясь к сыну, посоветовал старый Килигей. – Поможете нашим.
– А то никак диктатуры себе не подберем, – прибавляет, криво улыбаясь, Сударь. – Какую ни примеряем, все не подходит: та широка, а та жмет.
Отряд двинулся рысью к центру села. Село огромное, в несколько тысяч дворов, из одного такого можно полк сформировать. Прямо через село проходит старинный Чумацкий тракт – из Крыма на Каховку. На площади, где раньше устраивались ярмарки, сейчас бурлит боевой табор. Горят костры, пахнет чабанской кашей, везде шумно, многолюдно.
Заметив прибывших хорлян, из толпы к ним уже спешит руководитель восстания Баржак, старый товарищ Килигея. Шершнем когда-то дразнили его на селе. Низкорослый, крепкий. Скуластое серое лицо, подбородок всегда вздернут. На голове заношенная, видно, еще окопная, шапка.
– И вы к нашей каше? Ну, спасибо, товарищи, – говорит он, крепко пожимая Килигею руку. – Глянь, Дмитро, как на дрожжах растет повстанческое войско! Прибыли маячане, каланчацкие, теперь вы, вон еще кто-то едет…
Люди уже смотрели в степь. На горизонте возникли какие-то странные силуэты.
– Кажись, по двое в седле? – удивились женщины.
И верно, вроде как по двое. Или уж столько на свете вояк поднялось, что по двое на одного коня садятся?..
– По двое на одном коне, ну и ну! – захохотал стоявший рядом Мефодий Кулик, извечный пастух, всю жизнь выпасавший в фальцфейновских имениях табуны рабочих верблюдов. – Да это ж они на двугорбых едут!
– Строгановцы!
Вскоре на подводах в верблюжьих упряжках въехали на площадь строгановские повстанцы. С передней подводы соскочил коренастый мужчина в замызганном коротком кожушке без ворота; шея его, покрытая густым загаром, торчала из кожушка по-бычьи сердито, словно он только что вырвался из ярма или снова собирается в ярмо. Человека этого тут все знали: Оленчук Иван Иванович – сивашский солевоз, виноградарь и, как брат его, мастер находить сладкую воду в солончаковой присивашской степи… Голова у него после фронтовой контузии свернута немного набок, жилистая шея почти неподвижна; впрочем, несмотря на контузию, мужик еще, видно, крепок, руки дубленые, сильные, чувствуется, обоймут – не легко будет вырваться. Здороваясь с Куликом, своим однополчанином, Оленчук шутя так сжал его пальцы, что тот даже крякнул.
– Значит, есть еще, дядько, силушка в руках? – смеялась молодежь.
– Коли кто рассердит, тогда вроде бы есть… – ответил Оленчук и, повернувшись к возу, принялся вытаскивать со дна его увесистый, чем-то туго набитый мешок. Вытащив, бросил его к котлам.
Парубки сразу окружили Оленчуков мешок, стали пробовать силу: а ну, кто поднимет? Один пытается, другой… Хохот разносится вокруг.
– Не поевши, за дядьков мешок не берись!
– Что же там такое?
С любопытством разглядывают.
– Соль!
– Мы думали, дядько патронов нам привез, а он – соли…
– Чем богат.
– Без соли человек тоже не проживет, – заметил Баржак, подходя с Килигеем к подводе. – Вот если бы нам к этой соли да еще патронов несколько пудиков! Очень было бы кстати.
– Патроны теперь в цене, – хмуро бросил плотный усатый мужик, командир маячанских, Петро Кутя. – Слышали, Антанта с беляков по пуду пшеницы за один патрон берет.
– Ну, перед нами она и так в долгу, – взглянул на Килигея Баржак. – Много за ней числится… За те ковши, что мы таскали для нее по хорлянским трапам, а, Дмитро?
Килигей посмотрел туда, где за горизонтом скрывалось море:
– М-да, в долгу… С душой вытрясем.
Они двинулись к волости. Только подошли к волостному крыльцу, чтоб начинать сход, как вдруг где-то за церковью зазвенела, все ближе и ближе, песня. Остановились, поджидая.
Толпа всколыхнулась, расступилась, давая дорогу вновь прибывшим: верхом на конях въезжала на площадь асканийская батрацкая молодежь. На груди – красные ленточки, за спиной – у кого берданка, у кого винтовка, а у кого и самодельное копье на веревочке.
Впереди на мохнатом одре едет худощавый, по-весеннему обветренный юноша: в картузике набекрень, в обтрепанной австрийской шинельке. На длинной шее торчит острый хрящеватый кадык. Веселый, задира на вид, он, должно, здесь и командир и запевала.
– Яресько?! – присматриваясь к хлопцу, в удивлении окликнул его из толпы чаплинский атагас Мануйло. – Вместо герлыги взял карабинку?
Хлопец широко улыбнулся:
– Как видите!
– Право слово, еле узнал! – не унимался чабан. – Кажется, вчера еще у меня в подпасках ходил…
– А теперь боец против Антанты? – оглядывая Яресько, вмешался в разговор Баржак. – Или, может, вы еще какую программу с собой привезли?
– Да какую же? – Яресько на миг задумался, потом снова просиял улыбкой: – Программа наша ясная: за волю и свободу на всем земном полушарии!
III
Как жить дальше?
Какую власть провозгласить в Чаплинке?
Ради этого и собралась сходка.
– Не надо нам никакой власти! – выскочив с герлыгой на крыльцо, закричал Мефодий Кулик, как только началась сходка.
Должно быть, впервой довелось ему стоять перед народом, и выглядел он чудно, похожий на подстреленную птицу в своей перехваченной обрывком веревки, порыжелой от дождей свитке. Острая мочальная борода его тоже порыжела за годы пастушьей жизни, вылиняла от солнца и непогоды, приняв какой-то травянисто-полынный цвет.
– До живого мяса натерли холку всякие хомуты, – он ударил себя по шее, – новых не хочу! Без хомута еще хочу пожить! Вольным на воле! Сам себе властью буду!
– Безвластную власть давай! – весело крикнул из толпы Антон, моряк, младший брат Килигея.
Безвластную власть? Дмитро Килигей, стоявший на крыльце среди чаплинских вожаков, при этом выкрике как бы случайно поймал на себе насмешливый взгляд Баржака. «Слышишь, чего твоему братухе захотелось? Анархистского душка во флоте набрался».
А вокруг Антона уже раздавались новые голоса:
– Чаплинскую республику даешь!
– Как Висунская! Баштанская!
– Своего чаплинского президента выберем!
Один из чаплинских вожаков, пучеглазый, с рубцом во всю щеку, артиллерист Житченко толкнул Килигея локтем!
– Ну и орлы… Перепелиную республику им подавай…
На площади, заглушая крикунов, которые поддерживали Антона, уже звенели женские голоса:
– Республика в Чаплинке? А тю на вас!
– Это чтоб сами-одни среди степи широкой?
– А какие ж деньги ходить будут?
Кулик, все еще стоявший на крыльце перед народом, взмахнул герлыгой:
– Да я вам сколько хошь денег напечатаю! Дайте только машинку.
Его подняли на смех:
– Фальшивомонетчик! В кутузку его!
– Ну, воля ваша, – обиделся Кулик, под общий хохот спускаясь с крыльца. – Мне что, прокукарекал, а там хоть не рассветай!
К крыльцу, бесцеремонно работая локтями, уже пробивался другой оратор – Серега Белоусенко, или, по-уличному, Хлопешка. Здоровенный, мордастый, в смушковой шапке и в перетянутой ремнями венгерке, он, поднявшись на крыльцо, стал так, чтоб всем видны были бомбы, болтающиеся у него на боку. Ожидая, пока народ утихнет, Хлопешка небрежно отставил ногу, выпятил губу, точно вот-вот плюнет. Баржак, стоя в глубине крыльца, следил за ним настороженно и неприязненно. Что ему здесь надо, этому Хлопешке? Сын чаплинского лавочника, буян и скандалист, Хлопешка почти не жил дома, пропадая по месяцу и по два, возвращаясь в Чаплинку каждый раз с новой песней. Какую-то он сегодня запоет…
– Народ села Чаплинка! – заорал Хлопешка, блуждая взглядом где-то поверх толпы. – Раздумывать некогда! Каждую минуту может ударить в набат тот, что стоит на колокольне, сторожит Перекопский шлях! Говорят, целые возы готовых петель из морского каната везут на нас, чтобы перевешать всех! А как до того дойдет, вы знаете, мне первому у них петля, потому как я первый был среди тех, кто свистел на офицерскую ихнюю комиссию и гнал ее из села. Так для того ли мы восстали, чтоб молодую свою жисть погубить? Я знаю, Баржак будет вас тут склонять к Советам, уговаривать держаться до прихода красных, а где они? Где его Красная Армия? Пока она здесь, в нашей степи, закраснеет, мы с вами, братва, семь раз посинеем.
– А мы, по-твоему, кто? – раздался голос из толпы фронтовиков, стеной стоявших перед самым крыльцом. – Мы и есть Красная Армия!
Хлопешка, будто не слыша, заорал еще громче:
– От дедов-прадедов была наша Чаплинка украинской, И власть в ней должна быть наша – украинская!
Баржак, до сих пор сдерживавший себя, рванулся из глубины крыльца, как в бой:
– Не тебе, Хлопешка, об Украине печалиться!
Хлопешка, казалось, только этого и ждал.
– Ты что мне рот затыкаешь, диктатура? – втягивая голову в плечи, свирепо обернулся он к Баржаку. – Еще ты, астраханский каторжник, про Украину трепаться будешь. – Он намекал на прошлое Баржака, который после событий тысяча девятьсот пятого года несколько лет отбывал ссылку на соляных промыслах в Астраханской губернии.
– Про каторгу ты помолчи, – послышались в толпе возмущенные голоса. – Разве не такие, как твой папаша, кандалы на него надели?
– За папашу я не ответчик! – огрызнулся Хлопешка. – А перед революцией у меня свои собственные заслуги.
– Довольно тянуть волынку! Выкладывай, чего ты хочешь!
– Опомнитесь, пока не поздно! Опомнитесь, ежели не желаете, чтобы Баржак затащил вас в петлю! – снова затянул свое Хлопешка. – Выход еще есть.
Народ притих.
Хлопешка торжественно надулся и, переждав минуту, наконец брякнул то, ради чего и вылез на люди:
– Поднимем над Чаплинкой наш родной желто-блакитный флаг! Подадим знак на Днепро казакам украинской Директории, их атаману Савелию Гаркуше!
Площадь при имени своего земляка зашумела, заволновалась:
– С кем сегодня он гавкает, твой Савка?
– От кайзера уж к французам переметнулся?
– Не приняли. В алешковских плавнях вшей плодит со своими казаками.
Хлопешка налился кровью.
– Дожили, в плавни загнали Украину! Когда-то степями владела, а теперь в камыши днепровские затиснули ее всю. Только такие еще, как Савелий Гаркуша… – и не договорил: на крыльцо, словно ветром, вынесло опять Кулика.
Решительно оттолкнув плечом Хлопешку, стукнул герлыгой, завопил в каком-то буйном отчаянии:
– Люди добрые! Миряне! Товарищи! В Гаркушину тарахторию зовет нас Хлопешка… Черт его батька знает, что оно за тарахтория, только коли подходит она Гаркуше, так нам с вами уж никак не подойдет! Что ему сладко, то для нас будет горько! Меняю свой флаг! Не хочу безвластной власти! Диктатуру на Гаркушу давай!
Фронтовики, со смехом провожая Кулика с крыльца, тоже дружно загудели, заколыхались:
– Диктатуру! Диктату-у-ру!
Баржак, улучив момент, выступил вперед.
– Может, хватит нам тут всяких петлюровских недобитков слушать? – Он метнул презрительный взгляд в сторону Хлопешки, который, выставив бомбы, стоял перед самым крыльцом. – Может, послушаем тех, кого привела к нам революционная солидарность и с кем плечом к плечу нам на врага идти?
Сход, притихнув, почему-то обратил взоры на Килигея, героя-прапорщика, о котором, в связи с таинственной смертью Софьи Фальцфейн, еще ходили по селам всякие легенды. Килигей не заставил себя ждать, привычным движением кавалериста примяв на голове папаху, ступил вперед.
– Про Петлюрину Директорию тут говорилось, – твердым голосом начал он. – Про ту самую, что в ногах у одесской Антанты валялась да драила в Киеве казармы, готовя их для англо-французских войск. Холопка, марионетка, вот что она такое, ваша Директория. Еще тут про Украину шла речь. Мы тоже за Украину, да только не за такую, мы за другую. Хотим Украину не французскую, на греческую, не английскую, не американскую… Хотим Украину украинскую, красную, свою!
Одобрительный гул прокатился по площади.
– Красную даешь! Червонную! – звонко доносилось оттуда, где стояли асканийцы во главе с Яресько.
Килигей, выпрямившись, только собрался продолжать, как вдруг, будто прямо над головой у него, гулко ударил колокол. Все стихло на миг, застыло.
«Бо-оу… – тревожно, мрачно гудела над степью литая чаплинская медь, – бо-оу… бо-оу…»
Жутко становилось на душе. Никто еще не знал, что вещает Чаплинке этот загадочно-суровый, как зов самой судьбы, гул набата, но все вдруг почему-то обернулись в сторону Перекопа.
От колокольни, запыхавшись, бежал подросток-дозорный, бинокль болтался у него на шее.
– Идут! На конях, с тачанками! В Чумакову Балку спускаются!
Каратели? Так скоро их не ждали. Не успело еще организоваться стихийно возникшее войско, еще все здесь как на ярмарке, еще и командира над ними нет… Баржак? Злой, как шершень, но сколько он там в окопах пробыл? Газов наглотался, да и домой… Все взгляды – в том числе и Баржака – сами собой сошлись на фигуре Килигея: он! Прапорщик! Грудь в боевых крестах, против гетмана, против кайзера людей поднимал… Правда, левша он, левой, говорят, рубит, но рубит так, как иной и правой не сумеет!
– Принимай команду, Дмитро, – негромко сказал Баржак.
Килигей окинул суровым взглядом сходку, словно взвешивая силы, словно мысленно выстраивая в единый боевой порядок всех этих чабанов и необстрелянных батрачат, вчерашних окопников, батарейцев, пластунов, гусар. Давно ли бросали фронты, загоняли штыки в землю, а теперь их снова ждет борьба. В серых шинелях, с винтовками всех систем обступили крыльцо, мрачно дымят махоркой, исподлобья посматривают на Килигея: давай, мол, веди!
По-командирски выпрямившись и сразу став как будто еще выше, он громко скомандовал:
– Сходка закрывается! Командиры отрядов – ко мне!
IV
Тишина… Тишина.
Опустела площадь. Опустели улицы. Притаилось, точно вымерло, село, только чабанские папахи да солдатские серые шапки сторожко торчат повсюду из-за глиняных оград, из-за хлевов и заготовленных на топливо куч курая.
Знал Килигей, что делает, когда предложил командирам разбаррикадировать Перекопский шлях, нарочно впустить врага в село, чтобы здесь, а не в поле, дать ему бой. Сюда только замани, а здесь и стены помогут. Вместо тынов и плетней в Чаплинке везде, как и в других южных селах, тянутся от двора до двора толстые, сбитые из глины и курая валы – загаты.
За одной из таких загат, посреди убогого Куликова подворья, стоят Оленчуковы верблюды – жуют курай. Невдалеке, в узком проходе между копной курая и поветью, притаились с герлыгами в руках Оленчук и Кулик. Удобную заняли позицию. Так в таврийских селах устраивают засады на волков и лисиц, которых за годы войны много развелось в одичавшей, заросшей бурьяном степи: с вечера притаятся мужики с герлыгами где-нибудь за хатой и часами ждут, пока зверь приблизится, пробираясь в кошару или курятник…
Серьезны, задумчивы оба – Оленчук и Кулик. Время от времени то один, то другой выглядывает через загату на шлях – не показались ли.
Улица пуста. Никого.
Итак, снова пришлось им стоять на посту. Вместе под Карпатами воевали, в одной служили батарее. Думалось, когда, бросив фронт, голосовали ногами за мир, до смерти уже больше не придется воевать, а вот довелось: заместо царской, видно, другая, мужицкая война начинается! И хоть не в шинелях, а в своем, домашнем, оба – один в свитке, а другой в кожушке – и хотя вместо царских трехлинеек чабанские герлыги у обоих в руках, а все-таки это война. Только их война, мужицкая, народная. Там воевали – не знали, за что, а тут дело ясное – за себя, за тех вон бледных да сопливых малышей, что испуганно из окон выглядывают. Что им, чужеземцам, здесь надо? Кто их трогал? С дредноутами да сверхдредноутами пришли, в Севастополе, говорят, видимо-невидимо чернокожих высадилось. И черные, и белые, и французы, и греки – все навалились. По Геническу бьют, береговые села расстреливают из морских орудий, Килигея выгнали из Хорлов со всем ревкомом. Тучей с моря надвигаются, лезут в степь, как саранча.
– Слышал, Иван, – вполголоса заговорил Кулик, – что греки в Херсоне при отступлении натворили? Дивчина наша чаплинская прибежала оттуда ночью, у аблаката там служила, страхи, говорит. Облавы на людей. Тысячи жителей города согнали в портовые амбары, заперли, как заложников, а потом из корабельных пушек по ним. Такого зверства не бывало еще. Видно, решили-таки всех истребить, чтобы и звания нашего не осталось.
– Всё усмиряют, – с горечью отозвался Оленчук. – У себя там, говорят, давно уже без царей живут, а как мы поднялись, так сразу усмирять.
– Они нас будто бы и поделили уже меж собою: Кавказ англичане себе берут, а мы на сто лет не то французу, не то Америке отданы.
– Ой, не рано ли затеяли они нас делить, – сказал Оленчук и задумался.
– И чем им наша Украина так приглянулась?
– Разруха, бесчинства, беспорядки, дескать, у нас тут, сами собой управлять не умеем, – неторопливо, как бы размышляя вслух, сказал Оленчук. – А я про себя так полагаю: какой бы ни была наша власть, пускай молодая, пускай и неумелая, неопытная, а только против ихней, заморской, она всегда будет лучше. Свободу людям в подарок не привезешь, с десантом не высадишь. Кто бы ни пришел с оружием в наш край – Франция ли, Америка или Англия, ни одна из них никогда не станет матерью нашим детям, Мефодий, всегда она будет для них мачехой злою.
– Мачехой – это верно, – согласился Мефодий, – однако ж силища у них какая! На дредноутах, говорят, пушки, что и человек сквозь жерло пролезет!
– Степью дредноут не пройдет – здесь мы с тобой хозяева.
Между хат за огородами им видна степь. Оба молча смотрят туда. Степь открыта на все четыре стороны – на восток до самого Сиваша и тридцать верст безлюдной пустыни до Перекопа. Стелется, как море, не за что глазу зацепиться.
– Ох, нелегко, нелегко будет справиться с ними, Иван, – вздохнул Кулик. – Да еще бог при сотворении мира поскупился для нашего края, не дал нам защиты ни с моря, ни с суши. Святыми горами, высокими, как те вон Карпаты, обложил бы ее со всех сторон, нашу Украину!
Оленчук засопел, помолчал.
– Горами, горами бы высокими от них заслониться, – сказал он раздумчиво. – А то на раздолье на вечном живем. – Он снова помолчал. – А коли уж с горами не вышло, – голос его внезапно стал более уверенным, – коли уж для нас бог пожалел каменных гор, надо, выходит, другой какой защиты искать. Если нельзя горами от них заслониться, то хотя бы…
– Грудью?
– Грудью край родной заслонить.
– Ой, какую же, Иван, грудь надо…
Оба вдруг насторожились. На другой стороне улицы, где еще минуту назад повстанцы дымили махоркой, стоя по двое, по трое у хат, внезапно прошло какое-то движение: замелькали стволы винтовок, шапки одна за другой скрылись, уже только верхушки их виднеются в засадах да торчат дула винтовок, направленные на шлях. «Идут, идут!» – послышались приглушенные тревожные голоса.
Оленчук выглянул из-за загаты. Отряд карателей медленным шагом уже двигался по опустевшей улице. Опустив поводья, всадники недоуменно озираются по сторонам, должно быть дивясь безлюдью и той странной тишине, какой их встречает эта бунтарская, уже третий год не перестающая бурлить Чаплинка.
Топ-топ, топ-топ… все ближе, ближе. Кокарды, кокарды, кокарды! Одно офицерье. Добрые кони под ними сторожко стригут ушами, как-то нехотя ступают вперед. Немолодой, с обвислыми щеками офицер, едущий во главе отряда, вдруг, сердито надувшись, дал шпоры коню. Все перешли на рысь. Сотни глаз зорко следят за ними из засад, а каратели еще никого не видят. Вот они уже совсем близко, слышно, как тревожно всхрапывают кони, плавно проплывает на уровне окон пулеметная тачанка.
И вдруг – словно небо раскололось над селом: гулко, отрывисто ударил большой колокол, и точно от удара этого офицер впереди, взмахнув руками, свалился с коня.
Ударило второй раз – и упал второй.
Кадеты оторопели. В первый момент, видно, никто из них не мог понять, почему падают передние. Удары колокола, видимо, заглушали одиночные выстрелы с колокольни, и потому казалось, что передние падают сами собой, от одного этого звона, раскалывавшего небо над ними. Не успели каратели опомниться, как вся улица уже загремела, затрещала выстрелами: то притаившиеся в засадах стрелки по данному с колокольни сигналу дружно открыли по всадникам огонь.
Падают убитые, испуганно встают на дыбы лошади. Кто-то кричит: «Развернуть тачанку!» – но ее уже не развернуть – все сбилось в кучу, всадники мечутся, как в западне. Одни, отстреливаясь, повернули назад, другие кинулись по дворам, пуская коней вслепую через загаты…








