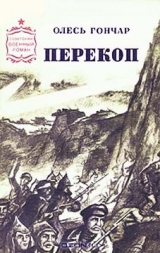
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 27 страниц)
– Так это они и нас на такую приманку взять хотели? – все еще не мог поверить Маркиян.
– А я их сразу узнал, – сказал дядько. – Больше всего за нее боялся, думал, что заберут. – Он похлопал кобылу по шее. – И забрали бы, если б проморгал… А то, как только увидел, сразу – в балку, в подсолнухи, спутал ее этим путом и наземь повалил… Ну, вы здорово секанули по ним, – мотнув головой, засмеялся дядько. – Один дьявол в черной бурке проскочил мимо меня совсем рядом: вся морда у него в крови. «Засада, – кричит, – возле моста! Большевики!»
Уже когда дядько уехал, Маркиян медленным, полным раскаяния жестом почесал затылок.
– Вот так-то чуть в дураках не остался! – И со зла плюнул в траву.
– В аккурат могли по нашим головам в уезд проскочить, – промолвил Левко упавшим голосом и, с уважением посмотрев на Яресько, спросил: – Скажи, ну как это ты их разгадал?
Яресько улыбнулся:
– А песня?
– Что – песня?
– Разве она ничего тебе не сказала? Эх, ты! А еще «кую и пою», – засмеялся Яресько и шутя толкнул Левка в бок.
Маркиян, присев возле пулемета, уже молча набивал ленту новыми патронами.
XXIX
Так началась для Яресько новая боевая жизнь.
Тревоги ночью, тревоги и днем. А когда их нет, тогда занятия и муштровка. Яресько, как человека обстрелянного, в первые же дни назначили взводным. Своих ребят – у некоторых была пока одна винтовка на двоих (отряд еще не успели полностью вооружить) – Яресько не особенно перегружал маршировками на площади, больше заботился о том, чтобы стреляли хорошо да лучше других пели походные песни. По ночам охраняли мосты, хлебные склады, разные уездные учреждения. Когда же выпадал свободный от дежурства вечер, геройское бедняцкое войско, выстроившись в своих домотканых холщовых мундирах, лихо шагало с песнями от казармы до уездного Нардома.
Там для них время от времени устраивались представления.
Однажды вечером, сидя с товарищами в переполненном бойцами Нардоме, Яресько был прямо-таки ошарашен неожиданным появлением на сцене… Нонны-поповны. Какой-то необычной была сегодня, не такой, как всегда. Вышла на сцену в украинском наряде, золотистые косы перекинуты на грудь… Взволнованно и широко улыбнулась присутствующим. На душе у Данька стало вдруг хорошо-хорошо за нее, за Нонну, и он не отрывал глаз от девушки. Было видно, как взволнована она, как часто вздымается ее высокая грудь. Веселая, взбалмошная Нонна, почему она здесь? Как попала? Ему показалось, что Нонна увидела его и смотрит теперь со сцены прямо на него и, декламируя, обращается через головы к нему одному:
Всі до зброї!
Бийте в дзвони!
Будьте смілі,
Як дракони!
Ей громко хлопали. До самозабвения бил в ладоши и Данько, провозная Нонну со сцены. Он гордился его в эту минуту. Такая девушка! И сколько она стихов знает – слушал бы ее и слушал! И сейчас вот словно бы прочла мысли Данька, проникла к нему в душу и откликнулась именно тем, что ему в этот вечер больше всего хотелось услышать… Но как, как она сюда попала? Или, может, и впрямь устроилась где-нибудь секретаршей – она однажды шутя говорила ему об этом в Криничках. «Поеду, говорит, в уезд и любого вашего комиссара окручу!» По правде сказать, эта чудаковатая Нонна своими выходками, своей взбалмошностью и веселым нравом была по душе Даньку. Еще в Криничках их влекло друг к другу, но у Данька ничего серьезного и в помыслах не было. Что же случилось сегодня, здесь? Какой-то другой, какой-то более теплой, задушевной предстала она перед ним на сцене Нардома. Это ее выступление, ее взволнованность, открытая улыбка… В самом деле заметила она его в зале и улыбалась ему, или она улыбалась публике, всем?
После окончания вечера при выходе из зала Данько столкнулся с Ионной лицом к лицу. Она, видно, поджидала кого-то.
– Здравствуй, Нонна, – с неожиданной для самого себя теплотой в голосе поздоровался он. – Ты кого-нибудь ждешь?
– Жду.
– Кого, если не секрет?
Нонна улыбнулась:
– Тебя, – и взяла его под руку.
Отделившись от других, они вдвоем пошли по улице.
Пришлось Яреськовым хлопцам в этот вечер маршировать к казармам без своего командира: вопреки всем правилам военного времени, он пошел провожать девушку.
Эх, эти ночи, синие полтавские ночи! Кто может устоять перед их таинственным очарованием! Ночи, когда так опьяняюще пахнет распустившаяся сирень и в какой-то сказочной задумчивости стоят, касаясь вершинами луны, стройные высокие тополя, которые ночью кажутся еще выше, чем днем. В лунном свете блестят листья деревьев, куда-то уходящие тропинки, серебрится река между таинственными огромными купами ив, которые, склонившись ветвями к самой воде, словно ждут, что вот-вот вынырнут из воды обнаженные белые русалки, чтобы сесть и покачаться на ветвях, послушать соловьиные песни. Соловьи! Неутомимые певцы весны и любви, как они заливаются на левадах, в садах! Когда они поют, кажется, что все на свете затихает, и ночь тогда наполнена только их соловьиным пением. Слушают это пение и мечтательные девушки у окна, и ребята-часовые у моста, и угрюмые бородатые бандиты в лесах…
Яресько и не заметил, как они с Нонной оказались в густых кустах буйно разросшейся персидской сирени, на которую уже упала ночная роса. Рядом – старый, покосившийся особняк, утопающий в зелени запущенного, одичавшего сада.
– Вот тут я и живу, – сказала Нонна. – Снимаю комнату у одной вдовы-офицерши… Днем видно отсюда, как вы маршируете и играете в чехарду на плацу.
– А возле Нардома ты правда меня поджидала?
– Ну а кого же!
– А как ты узнала, что я там?
– Сердцем почуяла, – засмеялась Нонна. – На этот раз, думаю, уж не пропущу. Тебе что, а я вот ради тебя, можно сказать, бросила Кринички и отправилась сюда. – Заглядывая ему в лицо, она улыбнулась открыто и как-то даже чуть грустно.
Данько, словно невзначай, взял в руку конец Нонниной косы.
– Красивые у тебя косы, Нонна… Да еще ты их заплетаешь как-то по-своему, на особый манер.
– Можешь расплести.
– Разрешаешь?
– Другим не разрешаю, а тебе могла бы.
– Боюсь, расплету, а снова заплести потом не сумею. – И, в задумчивости выпустив косу из рук, спросил: – Ты тут давно?
– Да говорю же – вслед за тобой. Как нитка за иголкой. Скучно стало в Криничках после вашего ухода. Так скучно, что хоть вешайся. А потом – без охраны опасно, – полушутя продолжала она, – еще махновцы, думаю, налетят да к себе захватят. В тот раз, как Ганна налетела, что я только не пережила! По всему селу крики, вопли, а тут – Андрияка в дом. Злющий, наган отцу ко лбу: «Именем р-р-революции приказываю… спрячьте меня!» Куда же, думаю, его? За руку – да в чулан. Толкнула – сиди. Еще и старой рясой сверху прикрыла!..
– Вот это да… Ха-ха-ха! Рясой, говоришь? А не признался, чертяка. Теперь я ему проходу не дам! – Данько громко хохотал.
– Тише, а то разбудишь мою офицершу, – говорила девушка, любуясь им, радуясь его искреннему смеху. – А из-за тебя сколько я страху натерпелась! Ну что, думаю, если он там где-нибудь в руки им попадется, наш комсомолец певучий. – Она ласково дернула его за чуб, выбившийся из-под фуражки.
Роса сверкала на кустах; из глубины сада послышалось щелканье соловья; от казарм долетала хоровая песня, – видать, хлопцы пели перед сном. Где-то совсем близко, за забором, в соседнем саду, раздавался девичий смех, слышались поцелуи; время от времени густой юношеский голос недовольно повторял: «Галько, ну Галько! Что ты строишь из себя Ивана Ивановича!»
Нонна, улыбаясь, прислонилась щекой к плечу Данька:
– Скажи, Данько, я тебе нравлюсь?
Данько чувствовал, как жарко вздымается под вышитой сорочкой упругая девичья грудь, как все крепче льнет к нему девичье, налитое огнем тело, и сам не опомнился, как вдруг в каком-то хмельном порыве крепко прижал ее к себе и жадно припал губами к ее губам.
– Скажи! – горячо, счастливо шептала она. – Нравлюсь? Нравлюсь?
– Да! – Опомнившись, он порывисто оттолкнул ее от себя. – Врать не стану… Нравишься.
– Так почему ж ты такой? И до этого все вроде избегал меня! Сколько раз в Криничках – я к тебе, а ты все как-то стороной, стороной… Данько! Милый! – Глаза ее сияли преданно, открыто, призывно. – Полюби меня! Полюби! На край света за тобой пойду. Все для тебя сделаю! Скажи, чтоб косы обрезала, – и обрежу! Кожанку надень – надену! Кем хочешь ради тебя стану!
От запаха сирени кружилась голова, близость девичьего тела опьяняла, и Данько чувствовал, как все сильнее охватывает его сладостный дурман. Как в угаре, он кусал сорванный листок, смотрел куда-то вверх, на луну.
– Или я не хороша? Или – что попова дочка? – Нонна порывисто обвила его шею руками. – Так я отца упрошу! он так любит меня, он все сделает ради меня, моей любви… Хочешь, публично от бога отречется?
Данько все молчал, и было в его молчании что-то такое, что вдруг встревожило Нонну. Страшная догадка впервые осенила ее.
– Или, может, у тебя… другая есть? – спросила голосом испуганным, упавшим.
Данько положил ей руку на плечо:
– Ты угадала, Нонна… есть.
Больше не о чем было говорить. Так они и расстались.
XXX
В казарме Яресько, как и предполагал, сразу же попался на глаза командиру отряда. Шляховой еще не спал, при свете керосиновой лампочки он вместе с несколькими бойцами возился в углу возле полученных недавно пулеметов.
– О, взводный наш возвратился, – вытирая руки паклей, поднялся навстречу Яресько Шляховой. Голова его наголо побрита, сам коренастый, крепко сбитый, с широким скуластым лицом. Как всегда, он улыбался, улыбался той своей особенной, немного исподлобья, улыбкой, которую знали все в отряде и от которой трепетали хуторяне. – Не то, брат, время ты выбрал для свиданий, – сворачивая цигарку и поглядывая на Яресько, заговорил командир. – Конечно, сейчас, когда цветет сирень, там, в садах, пахнет получше, чем в казарме. – При этих словах Данько еще острее ощутил, каким спертым, тяжелым духом бьет от нар. – Но не рано ли? К лицу ли солдату революции лазить девкам за пазуху в такой напряженный момент?
Яресько молчал в смущении. Стыдно ему было. Он видел, что своим опозданием обидел командира, который только вчера, после случая у моста, перед строем ставил Яресько в пример как человека революционной совести и долга. Для Яресько Шляховой был больше, чем просто командир. Еще зимой Яресько слышал о Шляховом – он был свой, земляк, из недальнего села. С восхищением рассказывала бедняки, как он, Иван, собрав в каком-то селе кулаков, не сдавших разверстки, вместо того чтобы долго уговаривать их, поставил на крыльцо пулемет и так секанул у них над самыми головами, что те в штаны понапускали.
Хотя по возрасту Шляховой и ненамного был старше своих бойцов, однако ему пришлось столько пережить, что иному и не снилось. С малых лет, еще от земли не видно было, пришлось вместе со взрослыми уйти на заработки, только не к Фальцфейнам он попал, как Яресько, а в Козелыщину, на монастырские плантации, а потом в Карловну, на сахарный завод герцога Гессенского! Оттуда и пошел – по заводам да по тюрьмам… Дважды его как забастовщика по этапу пригоняли в родное село, к матери, а позднее уже сам вернулся большевиком – революцию делать.
На первой же сходке, сплотив фронтовиков, прижал к стенке местных богатеев:
– Гады, Учредительного собрания ждете, чтоб земли нам не дать?
– Теперь мы все равные, – загудели богачи. – Революция всех сравняла.
– Какие, к черту, равные! – кричал он им в ответ. – Ты столыпинец, а я пролетарий! У тебя земля, а у меня что? В кармане – блоха на аркане!
Кулачье не раз устраивало на него засады и покушения; пробовали даже при помощи красивых хуторянок переманить его на свою сторону, и сами же потом удивлялись, что ничем его не взять: предан был своему классу до конца!
И вот теперь Шляховой с улыбочками да шуточками, но крепко-таки отчитал Яресько. Лучше б уж он взыскание какое-нибудь наложил, чем вот так, по-хорошему да по-приятельски. А он, как назло, не отстал даже тогда, когда Яресько лег уже.
– Слышал? – присев рядом с Яресько на парах, степенно говорит командир. – Из Миргорода передают, снова Христовый объявился. Там Скирда, там Коготь… – Наклонившись к плечу взводного, он вдруг понизил голос: – Пачками чека берет! Оказывается, многие из них даже в наши учреждения пролезли. Еще вчера они то украинскими левыми были, то полулевыми, а теперь, как заслышали, что «пся крев» приближается, сразу же носы в ту сторону повернули! Зимой за Советскую власть распинались, а на деле, видно, только и ждали, пока леса зазеленеют…
Глубоко затянулся махорочным дымом.
– Разгорается классовая борьба, брат.
Докурив, Шляховой направился к выходу.
– Пойду караулы проверю.
Только Яресько лег, только задремал, как вдруг будто у самого его уха раздалось:
– К оружию!
Как очумелый вскочил, бросился с товарищами к пирамиде. Схватив винтовку, проталкиваясь вместе с другими к двери, выскочил из казармы во двор. Шляховой громко отдавал приказания командирам рот. Сквозь приглушенный гомон и звяканье оружия откуда-то снизу, из темноты дальних окраин, докатывались звуки перестрелки. Вслед за ними то тут, то там за садами прорывалось непонятное, воющее, раскатистое:
– …А-а-а! А-а-а!
Что это?
Лишь потом догадались: «Слава!» – петлюровский клич.
Отряды разделились на несколько частей. Та, в которую попал Яресько со своим взводом, получила задание – к мосту!
Бросились бегом. От городских партийцев, бежавших имеете с ними, узнали, в чем дело.
– Кулачье взбунтовалось!
– Уезд решили захватить!
– А возглавил этих мироедов знаете кто? Левченко из военкомата!
– Предал, сволочь. Для отвода глаз отпросился к отцу погостить, а сам тем временем на хутора махнул! Все окрестное кулачье поднял!
Стрельба слышалась вокруг, то удаляясь, то приближаясь.
«Со всех сторон окружают», – на бегу подумал Яресько, прислушиваясь, как в предрассветной мгле разносится вокруг угрожающее «а-а-а», потухая в одном месте и снова вспыхивая где-то в другом, на заросших густыми садами окраинах местечка. Казалось, какая-то темная сила, поднимаясь волной, подкатывается все ближе, вслепую нащупывая выход своей яростной, разбушевавшейся ненависти.
Когда приблизились к мосту, прозвучала команда:
– В цепь!
Рассыпавшись цепью и бредя по росе, они перебежками двигались к речке. В предрассветной мгле уже видны были темные опоры моста и свои часовые, которые залегли на мосту с пулеметом и изредка посылали короткие очереди куда-то за речку – в тальники, в утренний туман. Куда, по кому они бьют?
Бойцы не успели еще отдышаться, как прямо перед ними, за полоской воды, дрогнул туман, затрещал лозняк, грохнул беспорядочный, злобный рев:
– Слава-а-а!
С кольями, с вилами, с винтовками наперевес хуторяне выскакивали из засады и с разгону бросались в воду. И уже слышал Яресько их надсадное дыхание, видел, как острый рожон с размаху вгоняется в живот какому-то парню из городских, и уже и себя представил нанизанным на этот кулацкий рожон. Яресько, стиснув зубы, выпускал патрон за натроном, и от его пуль падали в воду один за другим заклятые враги. На место сраженных из тальника вываливались другие, такие же обросшие, разъяренные, и, тяжело дыша, шлепая по воде, брели и брели на него, как дикие кабаны из зарослей.
В суматохе боя никто и не заметил, как поднялось солнце. Самозабвенно бились красные добровольцы, но и хуторяне наседали свирепо. Когда кончились патроны, беднота бросилась врукопашную, исступленно колотила хуторян прикладами по набрякшим крутым затылкам, сталкивая их назад, в воду, а кулаки тащили их за собой, и речка уже наполнилась сцепившимися друг с другом телами. Пускали в ход кулаки, узнавая знакомых, хрипели, ощерившись:
– Ага, попался, мироед!
– Ага, попался, голодранец!
Вода уже алела от крови, а туман – от восходящего солнца. Пальба не затихала, бой все еще кипели. Пока одни дрались с хуторянами в речке и на берегу, другие с победным топотом уже неслись по мосту на ту сторону, и их молодое, дружное, все нарастающее «ура» катилось за речкой, за тальниками. Оказалось, что мятежников там, за ивняком, стояли целые обозы. Когда Яресько примчался туда, там уже хозяйничали хлопцы, смеялись до упаду, обнаружив подводу, нагруженную шлыками, которые хуторяне так и не успели обновить.
– Зря старались! Даром материю испортили!
Стрельба над прибрежными зарослями уж затихала, но все же часть мятежников, отстреливаясь, успела вскочить на возы и вырваться из-под удара.
– Бегут «добродии» – кричали хлопцы вслед. – И шлыки свои забыли!
– Что же, мы так и дадим им уйти? – воскликнул Яресько. – По коням! Догнать! Не оставим на расплод!
Гнали врага до самого Орлика и Переволочной, гнали по той самой дороге, по которой когда-то бежали из-под Полтавы к Днепру разгромленные шведы. Всю дорогу хохотали хлопцы: много, видать, было у хуторян в запасе новых шлыков: весь шлях до самого Днепра усеян был валявшимися и пыли этими пустыми петлюровскими торбами.
Три дня после того в городском саду трибунал судил захваченных левченковцев. Свыше ста пятидесяти мятежников было расстреляно, и только их вожак, бывший начальник уездного всевобуча Левченко, успел ускользнуть [6]6
В двадцатых годах предатель Левченко был задержан в Днепропетровске. Его судили открытым судом и приговорили к расстрелу. ( Прим. автора.).
[Закрыть].
XXXI
Так бывает только летом после буйного грозового ливня: над головой еще висит, раскинувшись, темная туча, а внизу, из-под нависших растрепанных ее краев, весь горизонт уже светится. Посвежевшей, первозданной голубизной проглядывает небо, и далеко на западе, в величественном хаосе туч, все ярче разгорается предзакатное могучее зарево солнца. Так и бьют оттуда, так и рвутся в простор сверкающие лучи, ливни света, озаряя землю и все, что на ней, – щедро омытую зелень деревьев, и луга с первыми копнами сена, и одинокую женскую фигуру, торопливо направляющуюся напрямик, через луга, куда-то в сторону леса. Бредет по траве, высоко подобрав юбку, и далеко поблескивают на солнце ее мокрые, сильные загорелые ноги.
Это спешит к сестре Вутанька.
Все больше очищается небо от туч, все светлее вокруг – море света, кажется, разливается в воздухе.
Над лесом тоже прошла гроза. Еще дымится на опушке разбитый молнией дуб, а свежая, обильно окропленная зелень сверкает под солнцем дождевыми каплями, и птицы щебечут, и полнозвучно падает в послегрозовую тишину звонкое «ку-ку».
Вода теплая – Вутанька бредет по разлившимся лужам, углубляясь в лес, и так приятно, щекотно ей, что даже рассмеяться хочется, как не раз смеялась она здесь, на этой тропинке, когда бегала с подругами в канун Ивана Купалы ломать зеленые ветки и собирать цветы для венков. Теперь по этой дорожке, видно, редко кто ходит: кусты разрослись, цепляются за платье, даже страшно становится, будто рукой из-за куста кто-то схватил.
Давно уже собиралась Вутанька проведать сестру, да за домашними хлопотами все как-то не могла вырваться я лишь сегодня, когда дождь помешал работе, наконец улучила часок, побежала. Как она там, в своей отдаленной лесной обители? Снова ждет ребенка Мокрина. Может, уже и разрешилась? Кого-то ей судьба на сей раз пошлет – сына или дочь? Вспомнила, как Василько, провожая, говорил: «Найдите и мне, мамо, в лесу лялю. Сестрицу в ореснике найдите – я ее на телезке буду катать». Вспомнила и улыбнулась.
Солнце пробирается в лес, сверкает мокрая зелень вокруг; серебристыми бусами поблескивает вода на огромных листьях папоротника, вьется колючая ежевика, зелеными руками сплетаются между собой кусты, и все это вместе о лоскутами синего неба причудливым узором отражается в чистых, уже успокоившихся дождевых озерцах – так и кажется, будто проглядывает из глубины иной, подводный, колдовской мир.
Уже сквозь ветви впереди забелела облитая солнцем Мокринина хата, как вдруг – что это? Во дворе тачанки, кони! Куры кудахчут, люди какие-то суетятся. Вутанька остолбенела. Бандиты? Но ведь в последнее время вроде не слышно было их поблизости! Поразогнал их Шляховой!
Прижавшись к кусту, она украдкой стала пятиться назад. Внезапно куст зашелестел где-то за спиной, и на тропинке выросли два мордастых, вооруженных до зубов бандита.
– Стой, молодка, не спеши!
Обвешанные бомбами, с ремнями наперекрест, в заломленных шапках, они медленно приближались к ней.
– Куда разогналась?
С усилием, будто не своим голосом, ответила:
– К сестре.
– Ха-ха! К сестре… Знаем мы вас! От Шляхового, видать, подослана? На разведку пришла?
Один из них хотел схватить ее.
Вутанька, вскрикнув, выскользнула из рук и без памяти кинулась вперед, к хате.
Мокрина, переваливаясь, как утка, уже спешила через двор ей навстречу. Однако не успели они, и словом перемолвиться, как бандиты уже окружили Вутаньку пьяной шумной гурьбой.
– Вот это птичка! Повезло нашим дозорным!
– Радивон, а ну, проверь, чего это она там себе в пазуху напихала!..
Какой-то кривоплечий, угреватый бандит, расплываясь в улыбке, потянулся к Вутаньке с растопыренными для объятий руками. Вутанька еле успела отскочить от него в сторону.
– Вишь, как она! – подзуживали угреватого из толпы. – Видно, не по душе ей, что от тебя самогоном разит…
– Не брешите! Какой самогон? Я теперь адиколоны пью!
Он снова двинулся к Вутаньке. Она попятилась, натыкаясь на других, в это время угреватый схватил ее за руку и с силой рванул к себе. Но тут из-за Вутанькиной спины свистнула нагайка и со всего размаху огрела угреватого по плечу. Удар был настолько неожиданным, что бандит сразу выпустил Вутанькину руку.
Банда была в восторге:
– Вот это по-нашенски!
– Еще его, ма́тинко, еще!
– По ушам его, по ушам!
Вутанька оглянулась и обмерла… Ганна! Во френче, в ремнях стоит возле тачанки, небрежно играя плетью, улыбаясь недоброй улыбкой.
– Не ожидала, подруженька, а?
На голове кубанка, из-под нее вместо кос клоком торчат сбившиеся, по-бандитски стриженные волосы… Лицо точно заспанное, припухшее, измятое, с тенями под глазами после пьяных бессонных ночей! «Вот ты какой стала, Ганна! Вот как теперь живешь!»
– Так и живу, – как бы отвечая на Вутанькины мысли, сказала Ганна с напускной лихостью. – Дома не бываю, хлеб не покупаю.
– Даром берешь?
– А много ли нам надо? Мы не такие прожорливые, как ваша разверстка, которой люди никак брюхо не набьют. Ты, говорят, стараешься там, на себе возишь?
Почувствовав, что разговор начинает обостряться, Мокрина подбежала к Ганне, засуетилась.
– Девоньки, какие же вы, право! Не успели встретиться, уже и разлад. Может, лучше в хату зайдете, по-доброму поговорите? – заглядывая то одной, то другой в лицо, улещала она.
– Что там в хате, – небрежно отмахнулась Ганна нагайкой. – К хате я теперь непривычна: лесом дышу.
Зоркий Вутанькин глаз невольно все здесь примечал. Мокрые, оседланные кони остывают возле колодца; три тачанки с пулеметами у самой хаты… Возле хлева, окруженный бандитами, возится с самогонным кубом Прокоп, Мокринин муж, какой-то растрепанный, лохматый, похожий в своей встопорщенной рубахе на сердитую наседку, которую только что спугнули с гнезда.
– Видишь, и нейтрал с грыжей пригодился, – насмешливо бросила Ганна. – Воевать не хочет – так пусть хоть самогон моим хлопцам гонит…
А бандиты там уже веселились. Одни хлестали прямо из каких-то горшков еще не остывший Прокопов самогон, другие в сторонке развлекались тем, что кормили кур хмельной бардой. То и дело раздавались раскатистые выкрики, гогот.
– Где Ганнуся пройдет, там и куры пьяные. Ха-ха-ха!
– Смотрите, петух уже шатается!
– А ну-ка, Гришка, бей его теперь! Да целься прямо в гребешок! В комиссарский его гребешок!
Мокрина в ужасе всплеснула руками, увидев, как один из бандитов уже достает из кобуры наган.
– Ей-же-ей, убьют петуха! Ганна, да что же это такое? Самогонку заставили гнать, а тут еще и петуха! Один он у меня. В селе хоть соседский прибежит, а тут и близко другого нету!
– Эй, хлопцы! – нахмурившись, крикнула Ганна своим лоботрясам. – Не трожьте петуха! Он – беспартейиый!
В ответ на Ганнину шутку бандитский сброд раскатился дружным хохотом:
– Беспартейный, го-го-го!..
– Отставить, Гришка! Для партейного пулю побереги!
Вутанька, передав Мокрине гостинец от матери, наспех поговорила с ней и уже рада была бы идти, но не знала, как ей вырваться отсюда. Стояла как на иголках. Ганна, видно, заметила ее нетерпение.
– Спешишь? Верно, хочешь брату поскорее обо мне доложить? Ты бы лучше сказала ему, пускай ко мне переходит. У меня, видишь, весело. У них там Шляховой и нитки взять не позволит, а у меня на этот счет полная свобода! Хочешь – шубу тебе подарю?
– Не надо.
– Тебе таких и комиссар твой не дарил… – Ганна стала небрежно рыться в тачанке.
– Не надо, Ганна, – настойчиво повторила Вутанька.
– Ну как хочешь. – Перестав рыться в барахле, Ганна задумчиво постучала ручкой нагайки по крылу черной, заляпанной грязью тачанки. – Где только эта тачанка не побывала… В Павлограде, была в Синельникове, до Гуляй-Поля доходила… Эх, и погуляли ж мы, Вустя, за все отгуляли!
Солнце, клонясь к западу, уже скрылось за верхушками могучих дубов, окружавших поляну. Тени легли на покрытое лужами, разбитое копытами подворье. Вутанька с настороженной улыбкой взглянула на Ганну.
– Ну так отпустишь меня?
– Подожди, но спеши, – серьезно ответила Ганна. – Может, я еще хочу твою красную пропаганду послушать… Ты же, говорят, теперь делегаткой стала, с трибун выступаешь?
– Ганна, отпусти ты ее, – жалобно взмолилась Мокрина.
Ганна минуту постояла в раздумье.
– Ладно, идем, я провожу тебя малость, – шагнула она от тачанки. – А то тут у меня такие орлы, что и на дорожке перехватят, без выкупа не выпустят.
XXXII
И вот они снова идут вдвоем по лесу, как когда-то… Совсем бы как в девичьи годы, если б не этот зеленый френч на Ганне, едва сходящийся на ее полной груди, да еще плетеная эта нагайка, что, болтаясь на ходу, извивается между подругами, как живая болотная змея.
Осторожно, как по углям, ступает по тропинке Вутанька. Чувство опасности, какой-то неясной тревоги ни на минуту не покидает ее. Почему Ганна вдруг пожелала ее проводить? И вправду не хочет, чтобы пьяные головорезы перехватили Вутаньку на пути, или, может, что другое у нее на уме? Может, самолично решила свести с ней тут свои последние счеты?
– Разных я властей за это время перепробовала, Вутанька, – говорила Ганна на ходу. – И черных, и белых, и серо-буро-малиновых. Пока жива, всех властей хочу отведать. Как дикое яблоко в лесу: надкушу, попробую и брошу…
Вечерняя свежесть разливалась вокруг. Солнце, садясь, уже еле просвечивало сквозь чащу, и мокрые стволы деревьев кроваво рдели в его лучах.
– Ты давно мою мать видела? – Ганна вдруг нахмурилась, поникла головой. – Немало таскали ее там, говорят, за меня ваши чрезвычайки.
– В чрезвычайках тоже люди, разберутся, кто прав, а кто виноват.
– На меня небось всё зубы точат? Вот уж кабы попалась!.. Нет, дальше, видно, я с тобой не пойду, Вутанька… – Она машинально потрогала кобуру револьвера. – А то, чего доброго, еще в ловушку заведешь.
– Как раз, может, не завела бы, а вывела.
– Нет, меня уже вряд ли выведешь… Далеко зашла.
Свернув с тропинки, Ганна остановилась, с грустью оглядывая живописную полянку, открывшуюся перед ними. Где-то на верхушках деревьев уже пощелкивали первые соловьи.
– Расходятся здесь наши дороженьки, Вустя. Давай хоть присядем, а то ведь когда теперь встретимся снова…
Вокруг – никого. Во всем лесу – лишь птицы да их двое.
Присели на сваленном бурей дереве, и только теперь обе увидели прямо перед собой, под кустом, стайку белоснежных, в крапинках росы ландышей.
– Помнишь, Вутанька, у меня когда-то сережки такие вот были? – глядя на белые капельки ландышей, молвила Ганна.
– Как же не помнить… Еще в Каховке на ярмарке ты в них красовалась…
– Ярмарка… Ну да, «панночка в свитке», ха-ха! – невесело засмеялась Ганна. – Когда-то я красивое любила, а теперь не до красоты. Все осточертело. Ты вот и сейчас как девушка, а меня, видишь, как на даровых харчах разнесло! Скоро парням рук не достанет, чтобы обнять свою Ганнусю…
– И правда, раздалась ты, Ганна, – взглянула на нее Вутанька, – как хуторская кулачка какая-нибудь.
– И лицо слиняло, ведь правда? Знаю – слиняло, ушла красота, не хочется на себя и в зеркало глянуть… Тошно, опостылело все! Живешь, как трава: сегодня ты есть, а завтра нет, завтра, может, где-нибудь на такой же вот полянке саблями твой Данько с товарищами порубят.
– Сама виновата, Ганна.
– Такие, как мы, всегда виноваты, Вустя. Зато и погулялось же, ох, погулялось, Вустя! Пол-Украины на тачанка облетала. Знаешь, как мы с городскими буржуями расправлялись? Выберем самых пузатых, барабаны им в руки, флаг воткнем за пояс – и шагом арш по улице с песней: «Долго мы в тюрьмах сидели, долго нас голод томил»… Идут, животы как бочки, губы трясутся, а они в дудки дуют да про голод поют, растуды их мать!..
– Ганна! – ужаснулась Вутанька. – Как тебе не стыдно, Ганна!
– Ничего мне теперь не стыдно, – с сердцем промолвила Ганна, – и не страшно ничего… Чекисты ваши? Думаешь, из них мы штопором кишки не выматывали? Было, все было… Погуляла, а на похмелье теперь хоть и пулю в лоб! – В голосе ее слышалось и отчаяние, и решимость. – Скажи, Вутанька, ты боишься смерти?
– Было бы за что отдать жизнь, Ганна… А так, на ветер…
– На ветер? А может, на бурю? Думаешь, забудет меня Украина? Думаешь, зря о Ганнусе песни поют?
– Спьяну ты хорохоришься или… Не пойму я тебя, Ганна… Они, эти твои бандюги, хоть знают, против кого и за что, а ты? За что ты воюешь, Ганна?
Ганна задумчиво смотрела себе под ноги, ворошила плетью муравейник.
– Правду тебе сказать, Вустя, и сама не знаю, за что. Сперва за анархию – «мать порядка» – была, пока с батьком не разругалась…
– А теперь?
– Теперь опять за неньку…
– Снова обманут они тебя, Ганна.
Ганна вздохнула:
– Темные мы, потому нас и обманывают. Одно только знаю: когда оружие в руках, уже нельзя не воевать. И буду воевать, буду мстить теперь до конца…
– Кому мстить? Мне да брату моему, Даньку? Или Андрияке да Цымбалу, с которыми вместе батрацкого горя хлебнули?
– Не вам, Вустя, а тем, кто из Москвы на Украину за хлебом за нашим повадился. Отвадить хочу! Вот потопила, как котят, в Криничках, передай – и дальше топить буду. Топить – и все!
– Опомнись, Ганна!
– А до каких же пор они над нами будут измываться? Мы их не трогаем, мы к ним не лезем, а они? Почему они из нас кровь сосут, чем мы перед ними виноваты? Тем, что хотим, чтоб ненька свободной была?
– Не узнаю я тебя, Ганна! – взволнованно вскочила с места Вутанька. – Чьими ты словами говоришь? Чьи мысли повторяешь? Сама погляди, кто вокруг тебя увивается. Кулацкие сынки да проходимцы разные опутали тебя, возвеличили, а сами вертят, как куклой: «Ганнуся» да «Ганнуся»! Пока одни по хуторам песни о тебе орут, другие свои насилья и грабежи твоим именем прикрывают… И на них ты свою молодость тратишь? Ради них накликаешь на себя проклятия народные!








