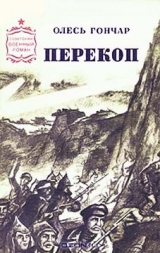
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)
С тех пор как судьба свела его в Чаплинке с Оленчуком, с тех пор как постоял он вместе с дядьками простым молотобойцем у наковальни и отведал их мужицкого хлеба, его уже не покидало ощущение, что какой-то частичкой души он принадлежит этим людям и не может оставаться равнодушным к ним, как это было раньше. Пока жизнь вплотную не столкнула его с Оленчуками, он даже не подозревал, что в их среде, где руки в мозолях, где хлеб достается так тяжко, он может встретить людей большого сердца, кристальной честности, с подлинно мудрым пониманием жизни. И хотя из-за глубокой разницы во взглядах и убеждениях они с Оленчуком оказались в разных лагерях, он и сейчас не чувствовал ни неприязни, ни враждебности к людям этого, оленчуковского, склада, и когда они там, сторонясь его, шепчутся ночами о чем-то по углам, как видно что-то замышляя, ему по-настоящему становится обидно от этого недоверия к себе. Разве он не желает им добра? Разве он им враг?
Весной, подхваченный вихрем неистового экстаза, вызванного Врангелем в Крыму, он снова оказался в войсках, оказался с твердой верой в то, что наконец армия и родина нашли для себя достойного вождя. С радостью, с полным самоотречением отдал он себя делу, целиком подчинив свою волю железной воле правителя. Понятия вождя и родины для него теперь слились воедино. Он не раз слышал выступления Врангеля перед войсками, сам был в числе тех, кто самозабвенно кричал молодому вождю «ура», когда тот, меча громы и молнии на деникинскую астматическую камарилью, обещал создать на новых основах великую народную армию, которая не будет знать поражений и с помощью которой он утвердит на родной земле право и закон по образцу великих западных демократий. За таким вождем стоило идти в бой. И сейчас, когда врангелиада распростерла свои победные крылья, он, Дьяконов, даже приговоренный к смертной казни, все же радуется ее успехам: Ave, Caesar, morituri te salutant! [7]7
Здравствуй, Цезарь, обреченные на смерть приветствуют тебя! (лат.) – восклицание римских гладиаторов, с которым они перед боем проходили мимо ложи Цезаря.
[Закрыть]
Правда, то, что в первые же дни наступления он увидел в Строгановке, потрясло его до глубины души, ему показалось, что, вопреки всем надеждам, снова возвращаются кошмары деникинских времен. До сих пор жжет его исполненный невыразимого укора и осуждения взгляд обливающегося кровью после экзекуции Оленчука; однако во всем этом – Дьяконов уверен – нет, нет вины вождя: все эти бесчинства могли твориться только вопреки его воле!
Как-то часовые бросили в пакгауз еще одного офицера, кудрявого молодца со звонкими кавалерийскими шпорами, буйного, шумного, очевидно, он был изрядно навеселе.
– Встать, камышатники! – крикнул он с порога, увидев мужиков. – Васька Лобатый перед вами!
Крестьяне не шевельнулись.
– Сидите? Ну и сидите! Ждите своей очереди! Отсюда, между прочим, вам одна дорога: в Геническ, да на баржи, да в море, на самое дно – там ваша мужицкая правда лежит! Что же касается меня, то я тут долго не задержусь, – пьяно разглагольствовал новоиспеченный арестант. – Кутепия меня не выдаст! Сам генкварт поручится за Ваську Лобатого, будьте уверены!
Солнце лишь сквозь щели пробивалось в помещение, в пакгаузе стояла полутьма. Привыкнув к ней, Лобатый стал внимательно разглядывать арестованных. Вскоре он уже приставал к татарину:
– Перекрестись, мурзак! А ну перекрестись, тогда сразу выпустят! Наш бог добрее твоего аллаха! И вас, пискулянты, – прошелся Лобатый между спекулянтами, – тоже выпустят, только на взятку не поскупитесь. А вот вы, мужички, – при этом он, остановившись перед мужиками, насмешливо повел шеей так, будто она была в ярме, – вы еще тут попаритесь! Если не сделаете вон там, в углу, подкоп и не удерете ночью, то с вами у нас еще будет серьезный разговор!
Крестьяне молчали. Они, видимо, схвачены были где-то прямо в поле, во время работы: большинство из них – босые, в пропотелых, пропитанных пылью рубахах, кое у кого полевые жбанчики с водой при себе, а у одного даже точило было за поясом.
– Вашу линию мы знаем, – скалил зубы Лобатый. – Никакая мобилизация вас не берет. Навоевались, да? Своими ушами слышал на одной вашей сходке: «К красным не пошли, потому что хлеб нужно убрать, а к вам не пойдем, хотя и уберем».
Заметив в сторонке под стеной Дьяконова, Лобатый, удивленный, обрадованный, направился к нему.
– Здорово, станичник! За что удостоился?
Он присел возле Дьяконова, протянул портсигар с крымскими папиросами. Узнав, за что его собрат сюда попал, Лобатый даже присвистнул от удивления.
– За мужиков заступился? Ха-ха! Неужто идейный?
– А ты разве нет?
– Я, брат, свои идеи в Новороссийске растерял. При посадке на пароход некуда их было взять. Теперь без лишнего багажа живу!
– А сюда за что?
– Самовольные реквизиции, буянство и окаянство и всякое такое прочее… Одним словом, как раз то, против чего ты взбунтовался. Ну да ничего: выйдем отсюда вместе.
– Ты так думаешь?
– Не сомневаюсь. Сейчас не такое время, чтобы нами разбрасываться. Куда же вождю без нас? Ведь мы самые надежные кони в его колеснице!
– По твоему мнению, приказы верховного против мародерства, против бесчинств…
– Ха-ха! Все это для отвода глаз! Для прессы и для Европы! Это лишь поначалу верховный готов был пускать в расход нашего брата чуть ли не за каждое выбитое в ресторане стекло. Сейчас все пойдет иначе, каждый из нас там, в бою, нужен.
– Для меня, кажется, бои кончились.
– У тебя смертный приговор? Не волнуйся – вождь помилует. Он к нам, к молодежи, добр – то, что правой подписывает, левой… – Васька, осклабясь, сделал рукой в воздухе крест.
Такого неуважения к своему кумиру Дьяконов не мог потерпеть и тут же выразил Лобатому свое возмущение его цинизмом. Лобатый громко расхохотался:
– О, да ты и впрямь такой? Святая Русь? Поруганные свободы? Да брось ты все эти штучки! Живи, пока живется. Гуляй, пока гуляется.
– Это и вся твоя философия?
– А что? Хоть день, да мой!
– Если только ради этого, то стоит ли тогда и жить?
Лобатый покачал кудрявой головой:
– Точно такой же, как ты, был у меня брат – первопоходник. Не думал о себе, все в высоких сферах витал, а когда бежали со станции Лозовой, большевистским снарядом обе ноги ему оторвало. Думаешь, остановились, подобрали? Так и бросили в поле со всеми его идеалами воронью на съедение. Вот она, наша жизнь! А другие тем временем не зевают. Знаешь, сколько их, бывших героев, сейчас в Крыму по тылам окопалось? Пока мы тут степную пыль глотаем, они по ресторанам шампанское с фунтоловками глушат. О фунтоловках слышал? Это, брат, птицы – ого! Из лучших дворянских родов, только валютой берут! За один поцелуй – фунт стерлингов, ни копейки меньше!
Слушая Лобатого, его хмельные разглагольствования, Дьяконов как бы снова окунался в тяжелую, угарную атмосферу деникинских времен. Не хотелось верить, что такие, как этот хлыщ, как чеченцы, как те помещичьи сынки, что срывают злобу на крестьянских спинах, и составляют основу, костяк снаряженных в поход легионов его любимого вождя. Шомпола… Реквизиции… Валюта… Хоть день, да наш!.. Нет, не о том мечтал его вождь, сатанинским усилием воли выковывая стальные свои корпуса, готовя к новому походу на север сто тысяч «рыцарей Белой Лилии на Руси»!
Арестованные всё прибывали и прибывали. Вскоре пригнали еще крестьян. Вслед за ними часовые втолкнули в пакгауз целую толпу женщин, обвиненных в том, что они якобы, сговорившись между собой, сообща скрывали по погребам красноармейцев, а затем помогали им возвращаться через линию фронта к своим. Над женщинами только что состоялся суд, все они были еще возбуждены после судебной процедуры и… явно удовлетворены приговором.
Одна из них, тетка Варвара, как называли ее товарки, – бывшие фальцфейновские батраки и сезонники легко могли бы узнать в ней маячанскую атаманшу, стригальщицу овец, – оказавшись в пакгаузе и по-хозяйски оглядевшись по сторонам, весело бросила перед собой торбу с харчами.
– Вот тут хотя бы передохнем в тени да прохладе. Спасибо вам, часовые, – повернулась к двери. – Спасибо вам, судьи!
Женщины, пришедшие с ней, громко захохотали.
– Чего вы хохочете? – спросил кто-то из угла.
– Да как же, – ответила за всех тетка Варвара. – Осудили! Двенадцать лет каторги дали. – Она снова повернулась к двери, за которой скрылись часовые. – Да за двенадцать лет двенадцать раз трава на ваших костях в степи вырастет!
От ее слов мороз прошел по коже Дьяконова. Смех, веселое возбуждение, уверенность осужденных в своем будущем – в этом было что-то удивительное и тем сильнее потрясало его, что им казалось вполне естественным.
Развязав свои узлы, женщины стали перекусывать хлебом с брынзой. Дали по кусочку и офицерам.
– Ешьте, а то, говорят, вы совсем там отощали на крымских харчах, – подтрунивали тетки. – Заграница не очень-то накормит.
Через некоторое время вошел начальник охраны, скуластый верзила, перетянутый ремнями, в блестящих крагах. При его появлении тревожный шепот пробежал среди арестованных. «Это который на расстрел берет!» Ни на кого не глядя, начальник стражи гнусавым, равнодушным голосом вызвал офицеров – Дьяконова и Лобатого. Вас, мол, господа офицеры, приказано перевести в другое место, подвергнуть строгой изоляции. Дьяконов в этом увидел мало утешительного для себя, а Лобатый, наоборот, обрадовался, таинственно шепнул ему на ходу:
– Вот увидишь, это к лучшему!
Вышли из пакгауза. Горячим степным воздухом овеяло Дьяконова, и солнце ударило в глаза, на миг совсем ослепило. Небо от жары было белесым, точно покрыто полудой, и степь вдали колыхалась, как дым.
VI
Штабной поезд Врангеля в эти дни стоял в Мелитополе, в городе прославленных украинских черешен, раскинувшемся в широкой приазовской степи среди разных колонистских дорфов да фельдов, которые чем-то – не голос ли предков? – трогали готское сердце барона.
Врангель переживал сейчас медовый месяц своих побед. Вся слава его предков, героев рыцарских походов, отважных сподвижников шведских королей, меркла перед его собственной молодой славой… Свершилось! Одним ударом поверг себе под ноги целый край… Перед авангардами его войск уже маячат терриконы Донбасса, шрапнельные снаряды рвутся в небе над Синельниковом, боевые полки его вышли к Днепру – от устья до самой Каховки. Никогда еще не верил он так горячо в свое избранничество, в свой счастливый жребий, как сейчас! Да, он рожден быть вождем, рожден управлять людскими массами! Он выкует из этого хаоса все, что пожелает, как выковал из деникинского вшивого сброда свои железные корпуса. Давно ли шумели о том, что он замышляет авантюру, что из ста шансов на победу у него не более одного. Один! Но он верил в этот один свой шанс и потому пошел ва-банк.
Даже скептически настроенная Европа, которая еще совсем недавно называла его смелые замыслы не иначе как l’aventure de Crimee [8]8
Крымской авантюрой (франц.).
[Закрыть]теперь признает его достойным того, чтобы делать на него ставку. Те, кто еще недавно подозревал его в притязаниях на вакантный царский престол, сегодня признали в нем подлинного и единственного защитника демократии.
Его провозгласили непобедимым. В высших офицерских кругах – в своих штабах и военных иностранных миссиях – вдруг заговорили о том, что он, Врангель, и раньше не знал поражений и что только случайное стечение обстоятельств помешало ему тогда, при Деникине, вступить с героями первопоходниками в Москву. Сейчас о нем пишет уже вся европейская пресса, его стратегический талант признают, блестящим, из Франции собирается в Мелитополь специальная миссия, чтобы на месте изучить его опыт в операции по разгрому Жлобинской конницы. Да, это слава, которой он так долго ждал, это полнота власти, которой он наконец достиг.
В свою незаурядность он верил давно, но только Крым, распущенный, разложившийся, развращенный Деникиным Крым, с его взяточничеством и казнокрадством стал для него тем пробным камнем, на котором он проверил себя, свои возможности, железную волю, наконец, свое право управлять жизнью огромных человеческих масс. Большевики что-то там болтают о народовластии. Все это фикция, не больше. Когда требуют интересы дела, он сам не колеблясь готов отвести глаза наивной общественности заманчивыми картинами будущей демократии. Но в душе он был и остается верен убеждению: вожди рождались и будут рождаться, чтобы управлять, – так водится от первобытных племен; и точно так же от древних племен, от неандертальского человека материал для творчества вождей – людская масса. Без вождя она, как глина без скульптора, – ничто. Особенно же в этой стране, которая начала свою историю с того, что позвала к себе правителей с севера, чтобы они «владели и княжили». На протяжении всей своей истории этот народ знает только две крайности: пугачевщину, вспышки разгульной дикой анархии, – которая ныне, в двадцатом столетии, достигла своего апогея, либо то, что сейчас у него: сплоченные единой силой и безоговорочно единой воле подчиненные стальные корпуса. Сегодня он может гордиться этими корпусами перед Европой, перед Америкой – перед всеми.
Он овладел краем, где вволю хлеба для его армии, союзники в изобилии снабжают его вооружением, следовательно, остается теперь одна забота: пополниться людьми. Он пошлет своих эмиссаров в Турцию и на Балканы, погонит их на Мальту и на остров Лемнос со строгим приказом ко всем этим обленившимся «гостям английского короля» – эвакуированным туда офицерам и казакам – немедленно возвратиться в Крым для пополнения боевых полков. Союзники обещают перебросить через Румынию бредовскую армию [9]9
По заданию Врангеля генерал Бредов формировал на территории Польши так называемую Третью армию (Прим. автора).
[Закрыть], которая сейчас где-то там формируется под польским орлом… Но главная его надежда была и остается на здешнюю мобилизацию. Мужики и мужицкие сыновья – вот за счет кого должна его армия разрастись до колоссальных размеров.
Пока с этим обстоит неважно. «Охота за мужицкими черепами», как называют у него в штабе мобилизацию, покамест не дала желательных результатов. Отовсюду поступают донесения, что крестьяне упорно уклоняются от мобилизации, на пункты сбора либо вовсе никто не является, либо нарочно посылают таких, которые не пригодны к военной службе. Канальство! Пусть бы уж голытьба: она если не у Буденного, так у Махно, но удивительно, что и зажиточные к нему не идут. Чем это объяснить? Недостаточно верят в него, что ли?
Чтобы почувствовать, чем дышит крестьянство, Врангель решил лично поехать в одно из сел под Мелитополем. Выезжая из города, он имел неосторожность захватить с собой в автомобиль двух местных земцев, которые оказались нестерпимо болтливы и всю дорогу без умолку твердили ему о том, как опостылела народу большевистская анархия и как он, народ этот, жаждет для себя твердой руки…
Когда проезжали через какое-то село, где он сделал краткую остановку, чтобы показаться народу, его окружили греки-колонисты и засыпали жалобами на самовольные реквизиции лошадей, на грабежи и беззакония, которые якобы чинят его солдаты при попустительстве старших командиров. Реквизиции, бесчинства, грабежи! Горько и досадно было ему обо всем этом слышать! Разве для того выгнал он из армии генералов-грабителей, таких, как Покровский и Шкуро, чтобы другие, подобные им, заняли их место? Нет, за это он будет карать беспощадно. Он не допустит, чтобы повторилось то, что разложило деникинскую армию!
Первое, с чем обратился Врангель к крестьянам на сходе, был вопрос: слышали ли они о его новом земельном законе?
Крестьяне загудели в ответ, что, дескать, не слышали. Кто-то вроде видел этот закон в напечатанном виде в Мелитополе, но так и не купил, потому что очень дорого стоит: сто рублей за штуку [10]10
Суть Врангелевского закона сводилась к тому, что земля крестьянам передавалась за крупный выкуп. Закон этот был направлен против интересов трудового крестьянства. (Прим. автора.).
[Закрыть].
Задав крестьянам несколько вопросов, на которые они отвечали весьма неохотно, Врангель произнес перед собравшимися пламенную речь. Говорил страстно, вкладывая душу в свои слова, искренне веря, что именно он и является защитником интересов крестьянства; а они слушали его и… молчали. И когда кончил, тоже молчали. Что-то грозное, непонятное было в молчании этой взъерошенной, загорелой, темной толпы. «Народ безмолвствует»? Но почему же, почему?
Когда уже шел к автомобилю, на ходу уловил словно невзначай оброненное кем-то из толпы:
– Казав пан: «Кожух дам…»
А в тон ему, еще мрачнее:
– Та й слово його тепле.
В подавленном настроении уже без земцев возвращался со схода в Мелитополь, в свою черешневую столицу. Почему-то врезалось в мозг это непонятное: «Казав пан, кожух дам…» – и не оставляло его всю дорогу. Что бы они могли означать – эти слова? К кому они относятся? Не его ли земельный закон крестьяне имели в виду?
Таково было настроение Врангеля, когда, возвратившись в свой штабной поезд, он узнал, что из Севастополя прибыл с миссией адмирал Мак-Келли.
VII
Визит главы американской военной миссии был неожиданным для Врангеля и, по правде говоря, не слишком в данное время желательным. Несет их, опекунов: генерал Монжен, граф де Мартель, теперь еще этот… Атмосфера еще раскалена после боев, еще столько всюду жалоб, нареканий, а он уже тут как тут – примчался по горячим следам. Врангель и до сих пор не мог освободиться от неприятного осадка, который остался у него на душе от последней встречи с Мак-Келли в Севастополе. Это было в день, когда поступила радиограмма о том, что красная конница на киевском направлении прорвала фронт польской армии и что для войск маршала Пилсудского создалось катастрофическое положение. Мак-Келли, прибыв тогда к Врангелю, недвусмысленно дал ему понять, что верховный совет союзников уполномочил его скоординировать действия Крыма и Варшавы. В весьма грубой форме он стал требовать, чтобы Врангель немедленно выступил в поддержку полякам. И хотя это полностью совпадало с планами и желаниями самого Врангеля, однако Мак-Келли счел возможным прибегнуть даже к угрозам, сказав, что если крымская армия не выступит немедленно, то всем кораблям, которые направляются сейчас в Крым с боевым снаряжением, он даст по радио указание повернуть в другие порты – в румынские или польские. «Выходит, мы для Пилсудского, а не Пилсудский для нас», – бросил тогда Врангель обиженно, и они расстались, исполненные неприязни друг к другу.
С чем же на этот раз прибыл к нему этот дерзкий, этот непоседливый адмирал, забравшийся так далеко на сушу?
Врангель, запыленный с дороги, весь покрытый липким потом, не успел еще привести себя в порядок, как адмирал Мак-Келли появился в салоне штабного вагона, свободно и непринужденно поздоровался, сияя своей простецкой панибратской улыбкой. Врангель терпеть не мог этой улыбки, как и самого янки с его небрежно-развязными манерами и амикошонством, но на то он, Врангель, и врожденный аристократ, чтобы уметь в подобных случаях скрыть свои подлинные чувства.
– Чем могу служить? – с безукоризненной вежливостью спросил он гостя по-английски.
Адмирал, веснушчатый свежевыбритый здоровяк с румяным моложавым лицом, запросто усевшись на широком кожаном диване и взяв из хрустальной вазы несколько крупных черешен, положил ногу на ногу и стал есть.
– Тут чудесная черешня, генерал, – сказал он. – Годилась бы даже на экспорт.
– Не любовь ли к черешням привела вас сюда?
– Не только. Решил на месте ознакомиться, стоит ли нам рисковать тем, чем мы рискуем. И я не разочаровался, генерал: этот край стоит того, чтобы ради него ставить наш капитал на карту. Таврийские прерии, Донецкий бассейн, Екатеринослав с его промышленностью – эти три штата имеют мировое значение по производству угля, железной руды и хлеба. С точки зрения транспорта, путей сообщения их очень легко связать с цивилизованным миром. Все эти богатства можно ежегодно вывозить отсюда сотнями тысяч тонн.
– Это старая зона французского влияния, адмирал.
Мак-Келли усмехнулся:.
– Она легко может стать зоной влияния американского!
Закурив сигару, глава миссии стал расспрашивать Врангеля, как осуществляется земельная реформа и как местное население относится к его армии. Всем этим, мол, настоятельно интересуется Вашингтон и хочет иметь информацию из первых рук. Потом выразил свое удовлетворение развертыванием военных операций и даже отпустил похвалу по адресу самого Врангеля.
– Теперь нам видно, что мы и наши союзники не ошиблись, когда остановили свой выбор на вас, генерал, разыскав вас там, в Константинополе, на глухих задворках событий.
Кровь ударила Врангелю в голову, в глазах потемнело от этой неслыханной дерзости. «На задворках событий»! Так-то вы толкуете изгнание? Было грубой бестактностью со стороны главы иностранной миссии напоминать сейчас ему, властителю Крыма, верховному главнокомандующему Юга России, о тяжкой опале, о позорных константинопольских днях, навсегда ушедших в прошлое с той минуты, как его принял на борт «Эмперор оф Индиа»…
А Мак-Келли, видно и не заметив, как он оскорбил своего собеседника, уже говорил что-то о мистере Керенском и о том, что не случайно этот незадачливый премьер в трудную минуту был вывезен из Петрограда на автомобиле именно американского посольства, под защитой американского флага.
У Врангеля руки сами сжимались в кулаки. Этот наглый янки, как никто, умел разбередить самые чувствительные его раны. Сейчас Врангель всем существом ненавидел его, этого одетого в адмиральскую форму торгаша, никогда и не нюхавшего настоящей войны, не способного прикончить врага своим декоративным кортиком. Он знает, что привело сюда этого предприимчивого янки. На нью-йоркской бирже агенты Мак-Келли еще с весны скупают для своего шефа акции донецких шахт, никопольских марганцевых рудников, тех самых рудников, которые Врангель должен добыть для него своей кровью, кровью своих героев.
Заложив руки за спину, Врангель нервно шагает по салопу. Самый вид гостя уже раздражает его. Развалился на диване, сосет свою сигару, свежий, румяный, как младенец: у него есть время позаботиться о себе, каждый день играет в гольф, а он, Врангель, ночей недосыпает, и черкеска на нем пропиталась пылью, и весь он обветрился и почернел, почернел не сейчас, а еще где-то там, в калмыцких степях, когда с упорством фанатика водил свою Кавказскую армию на штурм, на поражение, на гибель… А ты? Испытал ли ты, как идут на тебя в атаку красные матросы, как сеют смерть из пулеметов шахтеры, как орудует клинками у вахмистра Буденного донская казацкая голь? Злоба спазмой перехватывает Врангелю горло. Торгаши! Маклеры! Барышники! И его, витязя белого Арарата, вождя, столько совершившего и с таким блеском побеждавшего сейчас, они смеют попрекать задворками событий!
– К вашему сведению, адмирал: на задворках событий я никогда не был, – останавливаясь перед Мак-Келли, четко произнес Врангель. – Даже тогда, когда я был в изгнании, когда союзники без всяких на то оснований обвиняли меня в германофильстве, я был на своем посту. Именно поэтому полки позвали меня в Крым.
Мак-Келли понял, что перехватил.
– Поверьте, генерал, я вовсе не хотел вас обидеть. – Мак-Келли окутался дымом сигары. – Я готов извиниться. Но оставим это. Расскажите лучше, как ваши легионы? Надеюсь, полны боевого энтузиазма?
– О моих легионах нечего беспокоиться, – ответил Врангель, хмурясь. – Единственно, чего им не хватает, господин адмирал, это тех обещанных боевых грузов, которые мы все еще не можем сполна получить от союзников.
Мак-Келли недовольно поморщился, как всегда, когда речь заходила о поставках.
– Генерал, после первых успехов вы уже становитесь вымогателем. Мы дали вам новейшее вооружение, пушки, снаряды к ним, аэропланы. У вас их сейчас больше, чем у всех красных дивизий, с которыми вы тут имеете дело…
– И все же этого недостаточно! Вы помните, адмирал, в каких масштабах шло снабжение моего предшественника.
Врангель на мгновение умолк. Быть может, у него перед глазами как раз промелькнул огромный ярко раскрашенный плакат деникинских времен: английский Томми стоит в Новороссийском порту, широко расставив ноги, а за ним на море виднеется множество пароходов… Потоком текут из этих пароходов на берег пушки, паровозы, различное снаряжение… Все это Томми щедро бросает добровольцам Антона Деникина. Так было!
– Для моего предшественника союзники не жалели ничего, – продолжал Врангель, – все сыпалось на него, как из рога изобилия, а мне из-за каждого патрона, каждого снаряда приходится кланяться, пить горькую чашу унижений.
– Каждому из нас что-нибудь приходится пить, – сказал Мак-Келли, довольный собственной остротой. – И не прибедняйтесь, генерал: то, что вам полагается, вы получаете. Не далее как на прошлой неделе наш «Честер-Велси» доставил вам сорок тысяч шрапнельных снарядов, «Сангомон» – партию динамита, даже наша миссия Красного Креста вместе с медикаментами транспортировала вам из Нью-Йорка четыреста пулеметов и два миллиона патронов к ним.
– Но ведь и у меня потребности все возрастают и будут расти дальше, союзники должны учесть это. Мне нужны будут танки, мне понадобится вдвое больше аэропланов, а у меня даже для тех, которые имеются, не всегда хватает горючего. Сейчас двести моих аэропланов застряло где-то на египетских аэродромах в Александрии и Абукире, и никак их оттуда не вырвешь.
– Вы должны быть готовы и к худшему, генерал. Вы знаете, какая кампания поднимается против вас во всем мире. Нам от собственных американских докеров приходится скрывать, какие грузы мы вам отправляем. Не от хорошей жизни ящики с пулеметами идут к вам на судах Красного Креста под видом медикаментов. И если наши поставки на некоторое время сократятся или вовсе приостановятся – ведь у нас приближаются выборы в конгресс, и мы не можем не считаться с общественным мнением, – пусть это вас не застигнет врасплох. То, что у вас есть, вы должны расходовать с максимальной целесообразностью.
Что это? Нотация? Предупреждение? Врангель готов был вспыхнуть, ответить резкостью, но Мак-Келли, словно разгадав его намерение, властным движением руки остановил его.
– Будем откровенны. – Лицо адмирала вдруг стало черствым, глаза колючими. – Мы, американцы, не любим бросать деньги на ветер. Мы желаем, чтобы каждый паи с патрон был под нашим контролем. И пусть будет вам известно еще одно, генерал: мы не потерпим, чтобы ныне, как некогда при Деникине, военное снаряжение союзников налево и направо раскрадывалось вашими интендантами или, что еще хуже, целыми эшелонами попадало в руки к большевикам.
Лицо Врангеля потемнело.
– Что вы хотите этим сказать?
– Вы приняли энергичные меры к прекращению тыловой распущенности, взяточничества, спекуляции, казнокрадства, всего того, что погубило вашего предшественника. Но окончательно ли уничтожен злокачественный микроб? Не захватили ли вы его в Новороссийске на корабли вместе с остатками разбитых войск? Я вынужден предупредить вас о некоторых серьезных симптомах. Дельцы, подобные барону Тимроту, который в свое время обокрал наш американский Красный Крест, снова поднимают голову. Вам уже известно об этом скандальном случае с грузом колючей проволоки, предназначенной для перекопских укреплений?
Врангель насторожился.
– Проволоку, которая была направлена для таких важных укреплений, – Мак-Келли встал, – ваши интенданты якобы забыли выгрузить из трюмов в Крыму, отправили, назад в Константинополь, и там она теперь распродается!
Врангелю, который ничего еще не слышал об этом случае, только и оставалось пообещать, что он назначит строжайшее расследование.
Адмирал плотнее натянул на лоб фуражку, поправил кортик, собрался уходить. Врангель проводил его до двери. О, с каким наслаждением приказал бы он чеченцам своего конвоя показать этому расфуфыренному вояке дорогу, чтобы он вверх тормашками полетел из вагона, но…
– Гуд бай, генерал.
– Гуд бай, адмирал! – И он по-солдатски четко звякнул шпорами.
VIII
На юг! На Врангеля!
Смерть черному барону!
Пожалуй, со времени незабываемого Октябрьского штурма страна не переживала столь мощного революционного подъема, как в эти летние дни двадцатого года. Врангелевский удар в спину революции, угроза Донецкому бассейну заставили всех по-новому оценить крымскую опасность. По всей республике – от пролетарских центров до самых глухих сел – прокатилась волна добровольного вступления в Красную Армию. Многие съезды и конференции в полном составе уходили на фронт. По зову партии, охваченная революционным энтузиазмом, молодежь эшелонами двинулась на юг.
Одним из таких эшелонов с полтавской молодежью отправился на новый фронт и Данько Яресько.
Красные добровольцы!
По дороге их всюду встречали музыкой и знаменами, на перронах станций стихийно возникали митинги, которые заканчивались записью новых и новых добровольцев. Из всех речей, которые пришлось услышать в э ти дни, в душу Яресько почему-то больше всего запали слова, сказанные на одном из митингов пожилой женщиной-работницей, чем-то очень напомнившей ему мать:
– Не жалея сил мы будем трудиться для фронта! А вы до зимы должны вернуться победителями, иначе трудовая республика вас не примет!
…Эшелон, переполненный людьми, еле ползет: ему, кажется, невмочь тащиться от семафора к семафору. Паровозы старые, сменяются редко, вагоны продырявлены махновскими пулями… Задорные, лихие добровольцы висят на подножках, теснятся в тамбурах, до хрипоты дерут глотки, распевая всю дорогу песни и в вагонах, и наверху, на крышах вагонов.
Вот так – с песнями, сквозь бурю митингов и проводов – добрались до Синельникова. Тут пришлось задержаться дольше обычного: вся станция была забита эшелонами Уральско-Сибирской дивизии, которая после разгрома Колчака перебрасывалась на запад, на польский фронт.
Уральско-Сибирская справедливо считалась одной из лучших частей Красной Армии. Родиной дивизии были Кизеловские копи на Урале, а кизеловские углекопы были ее первыми бойцами, ее революционным боевым ядром. Как могучие реки берут начало из маленьких родников, так и дивизия эта зародилась из малого, из тех первых уральских рабочих дружин и шахтерских отрядов, которые под натиском колчаковских полчищ вынуждены были в трескучие северные морозы сняться с родных мест и – полураздетые, кое-как вооруженные – отходить по старинному Верхотурскому тракту в Уральские горы. Отступали все выше, отступали, точно в небо, и там, на занесенных снегом, покрытых дремучими лесами вершинах Урала, дали врагу первый победный бой.
Это было началом, это было на заре их славы. Из тех, кто были там рядовыми, вырастут потом командиры рот и батальонов, родятся в горниле боев политруки и комиссары, командиры полков и артдивизионов. В непрерывных боях дивизия не раз испытает горечь тяжелых потерь, и все же силы ее будут расти; враг не раз сочтет ее окруженной и уничтоженной, рассеянной в тайге, потопленной в болотах, а она возродится снова. Фабрично-заводское население Урала будет считать дивизию своей, Чусовая, Чердынь и Усольские заводы образуют в ней своего рода боевые землячества.








