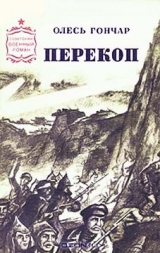
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц)
Пронзенный болью, стоял под фонарем, кусая губы.
А над Днепром уже заметно светало. Над водою, над плавнями пасмами висел туман. Из группки знакомых хлопцев, направлявшихся с пустыми мешками вниз, к песчаным карьерам, окликнули Яресько. Данько молча присоединился к ним.
XXIX
В то время как деникинская казачня, захватив Екатеринослав и Полтаву, уже рвалась к Киеву, здесь, в глубоком тылу у белых, на сожженных солнцем херсонских холмах все еще развевался красный флаг революции, заседал трибунал, трясли буржуев, строили бронепоезда.
Деникинские снаряды уже ложились на город. Перепуганные обыватели дрожали по подвалам и погребам, прислушиваясь, как железным градом барабанит по крышам шрапнель, а красные бойцы и матросы тем временем вели ожесточенные бои на пристанях и в предместьях, сдерживая наседающего со всех сторон противника, прикрывая отступление основных сил.
В одну из таких тревожных ночей вышли в неизведанный путь бронепоезда – эти грозные тараны революции, потянулись за ними эшелоны с эвакуированными учреждениями и лазаретами, двинулись, не отставая от эшелонов, пулеметные тачанки и возы, партизанские стада, степные чабанские кибитки…
Все дальше в степь уходят рев, топот, скрип, все глубже тонут в ночной тьме силуэты медленно отползающих паровозов, сгорбившихся всадников и надрывно трубящих в небо верблюдов…
Так началась тысячеверстная страдная эпопея.
Верста за верстой продвигались на север, держась полотна железной дороги, крыльями развернувшись по обе стороны насыпи, далеко в степь. На флангах колонны идет конница, пулеметные тачанки, а в центре, под их защитой, как самое ценное сокровище, везут раненых, боеприпасы, свернутые знамена.
Целыми днями люди и скот глотают горячую степную пыль. Кричат верблюды. Натужно ревут непоеные волы, тяжело плетясь вдоль полотна в самом хвосте колонны.
Чем дальше отходят тавричане от родных мест, тем все чаще возникают среди них глухая тревога и сомнения:
– Куда идем?
– Нельзя разве здесь партизанить?
На одной из стоянок, когда ремонтники впереди чинили поврежденный бандами путь и вся колонна вынуждена была остановиться, бойцы Таврийского полка были созваны на собрание.
Слепящий день. Жаром пышут раскаленные бронепоезда, нацелив куда-то вперед свои стальные панцири. Внизу, полукругом раскинувшись по степным баштанам, с лошадьми, с тачанками, изнывают на солнце запыленные, посеревшие, как степные птицы, повстанцы. Один за другим выступают перед ними с насыпи комиссары. Терпеливо растолковывают, что отступать необходимо, что таков приказ штабарма – пробиться во что бы то ни стало к своим, соединиться с регулярными частями Красной Армии.
Представитель Херсонского Совета рабочих депутатов тут же, при всем народе, вручает полку за его боевые заслуги революционное знамя. Знамя принял от имени полка Баржак.
Уже под конец митинга выступил Леонид Бронников. Когда его могучая фигура в тельняшке появилась на насыпи, полк встретил его радостным гомоном. За время пребывания полка в Херсоне этот матрос-комиссар как-то особенно полюбился бойцам: вместе с ними преследовал в степи бандитов, даром что непривычен был сидеть в седле, а когда надо было таскать мешки с песком да шпалы носить на постройку бронепоездов, то и там натирал холку наравне с другими.
– Таврийские коммунары! – звучным голосом заговорил Леонид, обращаясь с насыпи к притихшей толпе. – Ваш полк вырос и окреп в боях с интервентами. Не раз уже кровью доказал он свою преданность делу революционного народа. Но сейчас перед лицом новых грозных испытаний, для того чтобы ваш полк стал еще сильнее, чтоб из полупартизанского, еще не до конца изжившего дух анархистской вольницы, он превратился в действительно регулярную железную часть Красной Армии – для этого нужно, чтобы в полку был… комиссар!
Все шло хорошо до этого момента. Но стоило только Бронникову произнести слово «комиссар», как толпа сразу всколыхнулась:
– Гайку хотят подвинтить!
– Мы к гайкам непривычны!
– Мы хотя и темные, а больше демократию любим!
И уже откуда-то, словно из-под земли, вынесло на высокий, обвешанный воловьими шкурами воз другого оратора – грудь раскрыта, пулеметная лента через плечо… Антон Дерзкий, младший брат командира полка.
– Слышали? – скривился он, будто от рези в животе. – Комиссара нам сватают! А как же! Соскучились мы шибко по комиссарам! Давно их ждем! – И, обернувшись к насыпи, закричал угрожающе; – На что нам комиссары, когда все мы революционеры в душе! Когда каждый из нас трех комиссаров стоит!
– Верно! Сами управимся! Без няньки! – прокатилось внизу между возов.
– Без комиссаров до сих пор врага рубали, – подбодренный, продолжал младший Килигей, – без них и дальше рубать будем! А кто по комиссарам сильно скучает – того не неволим, может к другому полку пристать! В Караульный вон или Интернациональный – там комиссаров хоть отбавляй. А мы – стихия! С саблями на дредноуты шли, голыми руками Перекоп брали и вперед без них управимся!.. У меня – все, и да здравствует наш батько-атаман Килигей Дмитро! – закончил он уже с веселым вызовом и спрыгнул с воза куда-то вниз, в гущу своих приверженцев.
Еще не улегся шум, поднятый среди повстанцев речью Дерзкого, как над командирской тачанкой неожиданно возникла длинная фигура исхудавшего, заросшего до неузнаваемости… Дмитра Килигея. В первый раз поднялся он после ранения, в первый раз после Крыма видели его бойцы перед собой. Полк застыл перед ним, обрадованный и удивленный.
– Во-первых, я вам никакой не батько и не атаман, а командир, – насупив кустистые брови, обратился Дмитро к полку. – И если уж мы объявили войну мировой гидре Антанте, так давайте не разбредаться на полдороге, а вместе с пролетариатом идти до конца. Однако, чтобы не вслепую, чтоб не с завязанными глазами по степи на конях носиться, надо, чтоб был и у нас в полку комиссар. И то, что вы зашумели тут, заволынили, Сечь тут мне развели, – голос его крепчал, становился суровей, – это как раз и говорит за то, что нужен нам комиссар…
– А ты ж тогда на что? – послышался из толпы разозленный голос брата. – Кем ты при комиссаре будешь?
Килигей потемнел:
– Буду тем, что и сейчас: солдатом революции буду!
– Правду говорит Дмитро! – вырос над толпой Федор Артюшенко, хорлянский грузчик, с могучей раскрытой грудью. – Чего нам, в самом деле, комиссара бояться? Дредноутов не боялись, на самого черта шли, а перед комиссаром сдрейфили? Не страшен он нам, таврийским коммунарам.
– Абы только стоящий попался, – подхватил кто-то из гуртоправов. – Знать бы наперед, кого нам дадут…
Толпа колыхнулась, как нива под ветром:
– Ко-го?
Отделившись от группы комиссаров, стоявших на насыпи, шагнул вперед Бронников:
– Партия назначает – меня.
Над полком, над степью на миг залегла тишина. Его? Еще до революции хорлянские грузчики прятали его, юного тогда комендора с корабля, от царских жандармов. Батраки Фальцфейнов позднее знали его машинистом в степных таборах, когда он неизменно возглавлял там «водяные» батрацкие забастовки. Такого ли бояться? Ему можно было смело довериться, он был свой, был частью их самих.
– Коли ты, мы не против! – радостно заволновалась толпа. – Ура комиссару!
– Ура-а!
Только Дерзкий и несколько его единомышленников стояли среди возов злые, недовольные и всем своим видом как бы говорили: «Наше слово еще впереди».
XXX
Неторопливо чахкают на насыпи, остывая после дневного зноя, бронепоезда. Неподалеку от полотна, у степного колодца, где все вокруг разрыто, выбито скотиной, – звон котелков, давка, чуть не до драки доходит: делят воду. Гомон стоит по всей логовине, курятся кизячные дымки, то тут, то там уже вкусно пахнет степной чабанской кашей.
Рдеет низко над горизонтом солнце, медленно опускается за степью в винно-красную мглу.
Бронников как раз ужинал под насыпью с Килигеем, Баржаком и еще несколькими командирами, когда бойцы привели какого-то странного субъекта, не то военного, не то штатского: небольшого роста, в пенсне, с желчным, давно не бритым лицом. На голове густая копна волос с застрявшими в них остюками…
– Я к вам, – бросил он тоном человека, который еле сдерживает раздражение.
Бронников, спокойно дуя на ложку с горячей кашей, исподлобья рассматривал пришедшего. Что-то было в нем задиристое, драчливое. Застыл, как петух перед боем, только стеклышки пенсне поблескивают на всех остро и вызывающе.
– Кто комиссар?
Бронников еще раз подул на ложку.
– Я комиссар.
– Я тоже комиссар, – нервно отрекомендовался незнакомец. – Комиссар бригады Муравьев.
– Муравьев?.. Киевский?
– Нет, я – южный.
– Ну что ж, садись, – сказал Бронников.
Потеснившись, дали ему место у котелка. Килигей передал гостю свою простую, крестьянскую ложку, старательно вытер ее перед тем травой.
Муравьев жадно накинулся на кашу. Хватал, давился, точно спешил куда-то. Бронников, отложив ложку, со скрытым сочувствием наблюдал за приблудным этим комиссаром. Леониду нравилась его энергия, напористость и даже этот звериный, бродяжий его аппетит.
Вычистив до дна котелок, Муравьев, не спросясь, потянулся рукой к чьей-то фляге, лежавшей поблизости, и жадно напился прямо из горлышка. Утерся, перевел дыхание. Теперь он был готов к разговору.
– Где же бригада? – спросил Бронников.
– Нет бригады! Разбежалась бригада! – выкрикнул нетерпеливо, желчно.
У костра неподалеку среди бойцов прокатился смешок:
– Довоевался человек… Сам над собой комиссаром остался.
Стеклышки пенсне недоброжелательно блеснули в их сторону и снова пригасли.
Бронников пристально посмотрел на собеседника.
– Растерял, выходит, бригаду?
Муравьева точно раскаленным прутом стегнули.
– Это что – допрос?
– Считай как хочешь… Значит, прямо под трибунал идешь?
– И пойду! – опять подскочил тот как ужаленный. – Думаешь, трибуналом меня испугал? Не боюсь. Сам заявлюсь, сам пойду, пускай судят… – И тише добавил: – Если виноват.
Незавидно было положение, в которое попал этот человек, и все же чем-то он располагал Бронникова к себе. Брошенный всеми, не изверился в главном, не пал духом. День за днем пробивается на север, с упорством фанатика, ищет встречи… С кем? С трибуналом! С беспощадным трибуналом, который, может, голову ему снесет!
– Что ж, нельзя тебе позавидовать, товарищ… Трибунала, пожалуй, тебе не миновать.
– Не спеши с выводами, комиссар, – протирая пенсне, возразил тот Бронникову. – Может, нам еще вместо с тобой придется перед трибуналом стоять.
– Вот так загнул!
– Почему – загнул? Или, думаешь, твои от тебя не разбегутся?
– О моих ты помолчи, – нахмурился Бронников.
– Ситуация для нас с тобой на Украине сейчас весьма невыгодная, – заговорил Муравьев, снова надев пенсне и обращаясь к Бронникову, как будто, кроме них двоих, никого здесь не было. – Махновщина разгулялась, слепая мелкобуржуазная стихия за минуту сметает то, что мы успеваем насадить за месяц. До определенного момента эти силы работали на нас: мы отлично сумели использовать украинское повстанчество для того, чтобы свалить гетмана, для разгрома немцев и для нанесения сокрушительного удара по интервентам Антанты. Недавнее поражение греко-французского десанта на украинских берегах было бы невозможно без участия в этой борьбе могучих сил украинского повстанчества. Однако заслуги его этим и исчерпываются, на этом и кончается героический период революции на Украине…
– А что же начинается? – язвительно спросил Баржак.
Муравьев даже не взглянул на него.
– Начинается то, – продолжал он, по-прежнему обращаясь к одному Бронникову, – о чем не раз предупреждал нас товарищ Троцкий и что я, Муравьев, может быть, первым испытал сейчас на себе. Нас бросают. От нас отворачиваются. Нашу еще не окрепшую регулярную армию поглощает кипящая повстанческая масса, разбушевавшаяся и никем не сдерживаемая повстанческая стихия. Именно она, эта стихия, поглотила мою бригаду, разнесла ее в щепы.
– Какой же вывод?
– Вывод напрашивается сам собой: сотрудничеству конец. Надо раз и навсегда обуздать этот анархический народ с его сорока тысячами банд, с его мексиканскими методами борьбы…
«Обуздать народ…» Бронников, слушая, едва сдерживал нарастающее возмущение. Из недр народа вышел он сам, годами готовил его к борьбе, и теперь, когда этот народ наконец поднялся, когда все растет и зреет его сила в революционных боях, вдруг оскорбить его недоверием, с такой враждой отозваться обо всех этих почерневших под степным солнцем пастухах и грузчиках, матросах и вчерашних батраках… И это говорит человек, называющий себя комиссаром! Нет, не такою видится ему душа ленинского революционного комиссара!
– Митингами развратили мы их! – с вызовом продолжал свое Муравьев. – Чуть ли не голосованием комиссаров себе выбирают! Пора, пора с этим кончать. Интересы дела диктуют другой к ним подход…
– Какой?
– Террор! – Стеклышки пенсне блеснули зло, по-крысиному. – Массовый последовательный террор против этой бандитской нации – другого языка она не поймет!
Бронников заметил, как при этих словах колыхнулись бойцы, которые уже обступили их со всех сторон, привлеченные горячим спором. Видел, как Яресько, стоявший со своими хлопцами за спиной у Муравьева, сжал рукоятку своего клинка. «Рубануть? – казалось, спрашивал он взглядом Леонида. – Дай рубану гада по черепу! За поклеп! За ложь! За все, что он здесь против нас замышляет!»
А может быть, и правда пусть рубанет? Именем живых и погибших… за «бандитскую нацию», за оскорбление этих людей, за оскорбление революционной чести народа… Тут бы ему и весь трибунал…
– Теперь мне ясно, – весь потемнев, поднялся Килигей, – почему от вас бригада разбежалась. Я первый бы послал такого комиссара к чертовой матери!
– Это что за разговор? – грозно выкрикнул Муравьев, глядя то на Килигея, то на Бронникова. За кого они его принимают? Уж не за самозванца ли какого-нибудь? И, почуяв приближение опасности, почуяв, как уже прямо над ним угрожающе сопят, все теснее смыкаясь, бойцы, вдруг вскочил на ноги, выхватил откуда-то из-за пазухи пачку документов. – У меня м-мандат. – Он стал вдруг заикаться. – Слышите? М-мандат! За подписью т-товарища Троцкого!..
Побледнев, он протянул документы Бронникову, но тот не взглянул на них.
– Спрячь свои мандаты и сматывайся. Чтоб духу твоего в колонне не было!
Муравьев застыл, словно не веря своим ушам. Его, его гонят! Его не принимают!..
– Приблуды нам не нужны, – презрительно бросил Килигей.
Тем временем прозвучала команда к маршу.
Снова двинулись, поблескивая грудью в лучах заката, бронепоезда, двинулась за ними и вся огромная, в облаках пыли колонна. А он, брошенный всеми человечек, все стоял под насыпью, злой, ершистый, недоумевающий, как будто не мог поверить, что колонна так и пройдет, не останавливаясь, и не позовет его с собой.
XXXI
Только начинали розоветь арбузы, когда вышла колонна в путь, а теперь уже рдели в руках у бойцов, как жар. С каждым днем все меньше становилось круторогих, с каждым днем все больше воловьих шкур на возах.
Не проходило дня без боев. Черными вихрями налетали из степи григорьевско-махновские банды и, встреченные на флангах колонны килигеевскими саблями, снова откатывались назад.
Килигей уже был в седле, вел полк. Как-то поздно ночью подъехал к нему его брат Антон. После той стычки на митинге – быть или не быть в полку комиссару – они почти не разговаривали. Антон, затаив обиду, сторонился брата, а Дмитро тоже не проявлял охоты беседовать с ним, считая, что все, что он имел сказать брату важного, он сказал ему тогда, на митинге, при всем народе. И вот теперь Антон наконец подъехал, как будто даже примирившийся, заговорил душевно:
– Дмитро, можно тебя на пару слов?
Екнуло что-то в сердце у Дмитра. Вместе с братом, казалось, приблизились к нему и семья, и отцовская хата, и еще что-то волнующее, далекое, как детство, когда он еще носил Антося этого на руках. Бесшабашный вырос, севастопольская гауптвахта не успевала от него остынуть, да и сейчас с ним хлопот не оберешься… Чего он хочет?.
Отделились от колонны, молча поехали рядом. Пыль стояла в ночном воздухе, скрипела на зубах.
– По-братски, от чистого сердца, хотел тебя спросить, Дмитро: куда нас ведут?
– Не ведут, а сами идем.
– Ну, пускай сами… Но куда, куда?
– Об этом тоже было говорено.
Антон полез в карман за куревом.
– Жаль мне тебя, брат, – заговорил он сочувственно. – Прямодушный ты и доверчивый. Дал комиссарии себя опутать, зубы себе заговорить…
– Это ты и хотел сказать?
– Не только это. – Антон закурил. – Вспомни, кем ты был в степи, какая слава за тобой катилась! По всему приморью только и слышишь, бывало: Килигей, Килигей… На всю Таврию атаманом был!
– Немного в том моей заслуги. Сам народ, сама революция на гребень меня подняла.
Антон не унимался:
– А мы за тобой как на крыльях летели! С клинками на дредноуты поднялись, до Севастополя, до Керчи дошли… Весна была такая, что эх! И на душе весело, и воевать легко.
– Всему свое время, Антон, – глухо заговорил Дмитро. – Тогда, и верно, было легко. Похоже было, точно взрослые играют в войну. Считай, пристрелка это была, пристрелка. А сейчас, – он подумал, – сейчас, видно, настала пора другой, трудной войны.
– А на что нам трудная? – загорячился брат. – Зачем самим в петлю лезть? – И, оглянувшись, вдруг заговорил с братом доверительным полушепотом: – Пропадем, все пропадем, Дмитро, если только дадим далеко себя увести! По натуре мы степняки, нам надо, чтоб было на коне где разгуляться. – Он выпрямился в седле. – Простору надо такого, чтоб трава под конем от ветра стелилась! А там? Где мы там разгуляемся?
Дмитро сердито засопел.
– Не гулять вышли. Большое дело делать.
Антон как будто и не услышал.
– Держится вон степи Нестор Махно и живет себе припеваючи! Недостачи ни в чем не знает: ни в конях, ни в девчатах. Сегодня пьет тут, завтра гуляет там.
– Поглядим, до чего он догуляется. Ему гульба, а нам, у кого дети растут, надо и о них, об их завтрашнем дне не забывать.
– Думаешь, как до своих, до регулярных, пробьешься, там рай тебя ждет? – язвительно бросил Антон. – Не одного – десяток комиссаров, таких вот Муравьевых, над тобой поставят! Слышал, как он вчера про нас? Вот такие они все! А попробуешь брыкаться, так и полк отберут, и самого к стенке…
– Так что ж ты советуешь? С повинной, может, к кадетам вернуться?
– Зачем к кадетам? Можно и не к кадетам, – многозначительно протянул Антон и, перегнувшись с седла, затоптал брату на ухо: – Гонец от батька есть! Слышишь? К себе Махно зовет! «Куда он, говорит, пустился, на кого свою родимую сторонку, жен да детей бросает! Пусть переходит с полком ко мне – правой рукой будет! Всю свою кавалерию под его начало отдам!»
Килигей не удержался от улыбки:
– Брешет, сучий сын… Обдурит и не даст.
– Даст!
Оба умолкли. Слышно было, как полнится ночь приглушенным шумом и скрипом далеко растянувшейся колонны. Пыхтят бронепоезда, медленно двигаясь по насыпи. Всхрапывают кони. Шелестят под копытами плети придорожных баштанов. Какая-то пичужка, внезапно сорвавшись из-под копыт, взвилась вверх и, упруго звеня крыльями, растворилась в просторах ночи.
– Где же он… гонец твой?
– Привести?
– Веди.
Антон, круто вздыбив, повернул коня назад, и вскоре к Дмитро подскакали из темноты уже двое: брат и второй с ним – тот, что от батька.
Килигей, вплотную подъехав к незнакомцу, стал пристально разглядывать его в темноте. Двойник! Живая его, Дмитра, тень явилась сюда по его душу! Такой же сухощавый, по-ястребиному нахохленный, такая же на нем, как и на Дмитре, шапка кудлатая. Даже жутко стало. Ты. Ты – как вылитый. Насупленный, в шапке кудлатой… Только бомбы-лимонки как-то фасонисто на боку висят да самогоном от него разит – за это у Килигея расстрел на месте.
Килигей нагнулся к нему:
– Так это ты?
Из-под шапки, из-под насупленных бровей донеслось глухое:
– Я.
– За мной?
– За тобой.
Блеснула, свистнула сталь в руке у Дмитра, опустилась тяжким ударом. Испуганно отпрянул в сторону вороной двойника, поскакал бочком в степь, стараясь сбросить с себя непривычно отяжелевшую ношу.
Килигей оглянулся: брата рядом с ним уже не было.
Вскоре после этого, когда Дмитро Килигей снова занял свое командирское место во главе колонны, ему сообщили, что брат его Антон, с десятком ближайших своих дружков, неожиданно отколовшись, повернул от железной дороги в степь – уж не к батьке ли Махно?
Килигей, казалось, готов был к этому известию: поднявшись в стременах, крикнул Баржаку, что оставляет его вместо себя, а сам, прихватив из первого взвода десятка полтора лучших рубак, с места рванулся в погоню.
Не было их час или больше – вернулись уже на рассвете, злые, хмурые, на взмыленных, запаленных лошадях. И сколько потом ни выпытывали – догнали или нет, так ничего не могли допытаться.
XXXII
Солнце теперь всходило в пыли и садилось в пыль.
В ней, в поднятой над степью туче, все чаще взвизгивают пули неведомых врагов, все чаще то тут, то там падает боец, извиваясь от рваных горячих ран. Выяснилось вскоре, что обстреливают колонну пулями дум-дум [3]3
Дум-дум– разрывные пули, которые впервые были использованы англичанами в англо-бурской войне.
[Закрыть]: такая пуля, коснувшись даже конского волоска, сразу разрывается, впиваясь в тело множеством металлических осколков… Раны от этих пуль ужасны. И все же, несмотря на обстрел, колонна упорно, верста за верстой, движется дальше.
Однако что это за тревога поднялась впереди? Почему все вдруг останавливается – и бронепоезда, и люди, и скот?
Оленчук, сойдя с воза, неторопливо принялся прилаживать над ним навес, чтоб хоть какая-нибудь защита была от солнца, а то сейчас, на остановке, оно, кажется, стало жечь еще сильнее. По всей колонне на подводах – раненые, а еще больше больных. Не хватает ни врачей, ни медикаментов, ухаживать приходится самим… На просторном возу Оленчука лежат двое: матрос с раздробленным плечом и второй – совсем мальчик – раненный в голову разведчик из повстанческой конницы. Как за родными детьми, ходит за ними Оленчук. Специально для них держит под сиденьем в запасе несколько арбузов: когда от зноя совсем уже станет невмоготу – смочить им потрескавшиеся от жажды губы. Вот и сейчас не спеша отрезал ножом ломоть и, хотя у самого во рту пересохло, по очереди подносит то одному, то другому, а себе… себе – что останется.
Как раз арбуз резал, когда за спиной вдруг раздался топот – галопом летела куда-то вперед вдоль колонны Килигеева конница с саблями наголо. Из клубов поднятой пыли на миг блеснул зубами сын, что-то крикнул отцу на лету, но за гулом, за топотом Оленчук ничего не расслышал.
А по колонне уже пошел, покатился говор:
– Полотно разрушают!
– Путь впереди растаскивают!
– Подцепят и волами, вместе со шпалами, с рельсами, со всем гамузом, тащат с насыпи!..
Многие из повстанцев уже хорошо знали этот махновский способ разрушения железных дорог. Запрягались волы либо люди – с полсотни человек – и, зацепив приподнятые над полотном рельсы, тащили их под откос. По инерции рельсы начинали сползать на расстоянии чуть ли не нескольких верст, вырывая шпалы и круша все на своем пути. Веселая была для махновцев забава! Но то, чем махновцы занимались порой просто для развлечения, немцы-колонисты делали сейчас со свойственной им угрюмой расчетливостью и методичностью.
С того места, где перед головным бронепоездом стоял с группой артиллеристов Бронников, даже без бинокля хорошо видно было впереди на насыпи черное скопище разрушителей с упряжками волов рядом.
Не отрываясь смотрел Бронников в ту сторону.
Немцы-колонисты… До сих пор держались будто бы в стороне, не желая вмешиваться во внутреннюю борьбу народа, а теперь, когда революции пришлось туго, они вдруг показали зубы, обнаружили свою истинную суть! Угрюмо выглядывают из садов на пригорке их кирпичные, крытые черепицей постройки, сбившиеся вокруг серой, каменной, на редкость нелепой среди этой слепящей степи кирхи… Видно, как между крайними домами колонии и насыпью железной дороги, пролегающей невдалеке, суетятся по степи темные, словно воронье, непривычно торопливые фигуры колонистов. У насыпи их целая толпа: с волами в ярмах, с цепями, которыми они оплетают рельсы вместе со шпалами, – опутывают распростертого в степи стального Гулливера.
Казалось, два века столкнулись здесь между собой: век волов и век путей стальных… Кто кого перетянет, кто кого осилит? Зацепили, тянут, все жилы напрягают, чтоб разрушить перед отступающими полотно, по кускам растащить железную дорогу. Погруженные в свое дело, и не подозревают, как близка уже от них карающая рука, как с каждым мгновением приближается к ним, огибая насыпь, килигеевский эскадрон, только концы сабель сверкают в туче пыли!
Конь Яресько будто сам знал, кого ему преследовать. С неудержимой дикой силой летел прямо на темные фигуры, что, бросив у насыпи и волов, и цепи, и крючья, в панике рассыпались по степи, мчась напрямик к колонии. «Ага! Удираете! – Душа у Яресько наливалась лютой радостью. – Не удерете! Мы вам дадим железную дорогу! Своих не узнаете!»
На миг, совсем близко, промелькнули под насыпью брошенные на произвол судьбы волы в ярмах с повисшими толстыми цепями.
Что, не вытянули? Не осилили? Под копытами коней вместо жесткой стерни уже лопаются красные арбузы, разлетаются, раскатываются среди сбитых в клубки плетей, точно срубленные человеческие головы.
Эскадрон влетел в поселок, когда вдруг навстречу часто зазвенели пули, забахали выстрелы с чердаков, дробно застрочил где-то совсем близко пулемет. Послышались крики, храп коней, и в этом бешеном водовороте Яресько внезапно услышал, как вскрикнул не своим голосом Янош-мадьяр, скакавший рядом. Оглянулся – уже Яношев конь потряхивает пустым седлом. Убит! Янош убит! На миг потемнело в глазах, но, не останавливаясь, Яресько еще сильнее пустил коня, чувствуя, как ярость перехватывает дыхание, как боль и слезы клокочут в груди…
– Рубай! – услышал где-то над собой короткий страшный призыв, к которому все еще никак не мог привыкнуть и который даже сейчас, в такую жару, вызвал в нем леденящую дрожь. Вокруг уже шла схватка, слышны были предсмертные стоны, выкрики на незнакомом языке, а перед ним, перед Яресько, еще петляют вдоль улочки черные пригнувшиеся фигуры в праздничных, должно быть ради спаса (сегодня ведь день спаса!), сюртуках и шляпах. Конь уже несет Данька за таким вот убегающим сюртуком, из-под которого, поблескивая, мелькают сапоги бутылками. Было в этой зловещей долговязой фигуре колониста что-то напоминающее молодого Фальцфейна, когда он носил траур по каким-то своим лютеранским родичам и так же вот наряжался в черное по воскресеньям… Все это молнией пронеслось у Яресько в голове за то короткое мгновение, пока он догонял беглеца, пока настиг его с разгона на какой-то каменной лестнице. Тот споткнулся на широких ступенях, с головы его слетела шляпа, открыв светлые льняные волосы, и за спиной Яресько еще раз прозвучало страшное, неотвратимое:
– Рубай!!!
Рубанул, и долговязый с хрипом повалился куда-то вниз, под коня, и только теперь Яресько заметил, что разгоряченный конь его, вздыбившись, стоит на ступенях, ведущих… в кирху. Тяжелые дубовые двери открыты настежь, и оттуда, из прохладного полумрака, на них обоих – на коня и на всадника – сурово смотрят какие-то незнакомые костлявые боги.
И вдруг где-то в вышине загудело, зарокотало, запело; полились звуки – величавые, мощные… Что это? Яресько закинул голову, застыл зачарованный. Орган? За все время, что пел Яресько в асканийском церковном хоре, не слышал такой дивной музыки. Слушал так, точно само небо играло для него. Вдруг даже жутко стало ему – что-то похожее на укор послышалось в могучих раскатах: как он мог на все это замахнуться, на все это поднять свой горячий, в запекшейся крови клинок. Совсем иной мир, о существовании которого он даже не подозревал, открывался ему сейчас в этих полных гармонии звуках. Какой-то всевластной мрачной силой, как от низко нависшей грозовой тучи в степи, повеяло от этой музыки на Яресько. Слушал, жадно упивался ею. Лились и лились мощные рокочущие звуки, будто предостерегали его от чего-то, будто само небо – сквозь гул сражений, сквозь звон сабель – обращалось к каким-то иным людям, то ли к ушедшим, то ли к грядущим, среди которых уже не будет ни крови, ни резни, ни междоусобиц, а будет над всем властвовать лишь эта всепобеждающая, радующая душу красота…
XXXIII
В сухой земле у дороги саблями копали ямы и хоронили убитых. Много ближайших сподвижников Дмитра Килигея, таврийских фронтовиков, с которыми он создавал отряд и с которыми ходил в свои славные рейды на Хорлы и на Крым, сложили в этих боях голову. Под градом разрывных пуль геройской смертью погибли Шитченко, артиллерист, Широкий Иван, матрос Толошный…
На возы, на платформы десятками подбирали раненых.
Чинили колею, кое-как строились в колонну и ползком продвигались дальше. А потом снова мрачные каменные дома колонистов на горизонте, снова ненавистное жужжание дум-дум, колонна останавливалась, разгорался бой. На помощь колонистам из глубины степей подходили кулацкие банды – не раз приходилось бронепоездам, в подмогу своей коннице, открывать огонь со всех бортов – отбивались от банд и саблей и картечью. Иногда бои тянулись часами. Не хватало воды. Вода закипала в кожухах пулеметов. Под свист и жужжанпе дум-дум бежали бойцы с котелками к паровозам, но воды и там не было, – и там кончались все запасы. Даже комендоры на бронепоездах – полуголые, богатырского здоровья матросы – и те иной раз не выдерживали, в изнеможении падали возле своих раскаленных орудий.
Пока миновали это разворошенное змеиное гнездо – полосу взбунтовавшихся колоний и хуторов, – вконец измучились все, от командира до гуртоправа. Но вот остались наконец позади и пули дум-дум, и развороченные снарядами постройки колоний на взгорьях. Они еще дымились, горели, скрываясь за горизонтом, а впереди уже вольно раскинулась новая степная даль.
Нестерпимая жажда мучила людей. С тех пор как Бронников, поглядев на карту, сообщил бойцам, что скоро впереди должна быть речка, – вся колонна только и жила ожиданием.
Кое-кому становилось уже невтерпеж.
– А может, ее и совсем не будет?
– Будет, будет, – хмурясь, отвечал Бронников.
И вот, когда впереди угасал яркий степной закат и вся степь как будто горела, вода блеснула наконец внизу, в ложбине! И хотя оказалась она, степная эта незавидная речонка, курице по колено – чуть живая ворошилась на дне широкой, дотла выжженной солнцем за лето балки, – все же бойцы встретили этот первый проблеск воды криком «ура».
В последующие дни колонна отступающих выросла. По пути к ней присоединялись то большими, то маленькими группами партизаны степных сел, присоединился и очаковский отряд имени матроса Вакулинчука. А несколькими днями позднее на одной из степных узловых станций состоялась встреча тавричан с остатками войск одесской группы Якира, который после сдачи Одессы тоже отходил с боями на север, держась все время, как и херсонская колонна, полотна железной дороги.








