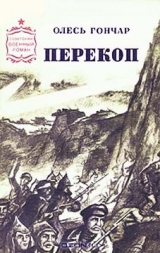
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)
– В цепь! – пронеслось по колонне. – Резать проволоку!
Комиссар Бронников с гранатой в руке, обгоняя Оленчука, успел бросить ему:
– А вы возвращайтесь! Вам еще других переводить!
И побежал. Усылая Оленчука из-под огня, командир, очевидно, и мысли не допускал, что сам он тоже не заговорен от пуль, что опасность грозит и ему. Кинулся вперед так, точно ждала его там, на Литовском полуострове, не война с колючей проволокой, с тысячами смертей, а только тяжелая срочная работа, которую он должен выполнить во что бы то ни стало, оставаясь при этом живым и невредимым. И – странно – Оленчуку в эти напряженные секунды и в самом деле верилось, что все они, кого он вел и кто в полный рост ринулся теперь вперед, так в полный рост и пройдут под прожекторами сквозь проволоку, сквозь огонь Литовского полуострова и ничто их не коснется.
Огненным ливнем ударило с круч, все гуще звенели в воздухе пули, ухнул первый снаряд, подняв со дна Сиваша фонтан грязи, но никакая сила уже не могла остановить штурмующих, что могучей волной накатывались из фантастически освещенного прожектором Сиваша и бурей паслись вперед.
Оленчук не узнает штурмовиков. Вместо измотанных, смертельно усталых бойцов, только что изнемогавших в трясинах Сиваша, мимо него сейчас лавиной несутся как будто другие, словно окрыленные люди. В длинных шинелях и высоких шлемах, они кажутся сейчас какими-то великанами в мертвенно-голубом сиянии прожекторов…
– Вперед! Вперед!
Падают под пулями и снова встают в полный рост, бросаются на штурм береговых укреплений, пробивают проходы гранатами, оглушая все побережье дружным кличем:
– Даешь Крым!
XXXVI
Весть о том, что колонны коммунистов, перебравшись ночью через Сиваш, прорвали береговые укрепления Литовского полуострова, вызвала переполох в белых штабах. Перебрели море, заходят в тыл! Чтобы ликвидировать прорыв, Врангель вынужден был повернуть лицом к полуострову две дивизии из-под Перекопа, бросить сюда лучшие свои резервы. Жерла орудий с перекопских позиций тоже были повернуты на Сиваш. Красные полки, двинувшиеся вслед штурмовым колоннам, могли идти по открытому дну уже только перебежками, глохли от адского грохота тяжелых снарядов, что рвались и рвались по всему Сивашу, вскидывая к небу огромные столбы грязи. Вряд ли кто знал и когда-нибудь узнает, сколько их, безыменных героев, в эти часы штурма вместе с артиллерией, лошадьми, вместе с винтовками и пулеметами навеки погрузилось в бездонные трясины Сиваша.
Наступил день восьмого ноября – первый день боев уже по ту сторону Сиваша, на крымской земле.
Данька Яресько этот день застал в открытой перекопской степи, на заброшенном чабанском стойбище, где в ожидании атаки нашли себе приют бойцы одного из батальонов 455-го стрелкового полка.
Холод пробирал до костей: при полном бесснежии температура спускалась ниже десяти градусов. Много было в эти дни обмороженных. Тысячи тех, кому выпало маяться в открытой степи, с завистью поглядывали на далекие, оббитые ветрами присивашские села: там человеческое тепло, там можно было бы обогреться. В степи даже бойцы-сибиряки, привыкшие к суровым северным зимам, больше всего страдали именно от лютой этой холодины, от бесснежной черной таврийской зимы с ее пронзительными буранными ветрами.
В таких условиях это полуразрушенное чабанское стойбище оказалось для красноармейцев просто находкой. Яресько здешние места знакомы давно, знакомо ему и это стойбище, среди чабанов называвшееся когда-то табором Пекельным. Еще батрача у Фальцфейнов, он не раз, спасаясь от буранов, забредал с отарой сюда, в отдаленный степной табор, где были тогда огромные загоны для скота и теплые печи в землянках для батраков и чабанов, чтоб могли они отогреться здесь после целодневных блужданий на стуже, в открытой степи. За годы войны стойбище разрушилось, пришло в запустение, кошары растащили, землянки развалились, остались только кучи глины да часть плетеных загородок, под которыми укрылись, прижавшись друг к другу, Яреськовы однополчане.
Скорей бы уж атака на вал! Этим чувством полон каждый боец. Знают, что вся страна в эти праздничные революционные дни смотрит на них, ожидает от них последнего удара. Знают, что товарищи их уже бьются на Литовском, переправившись ночью по ледяным болотам Сиваша. Весь день гремит артиллерия. Первые волны атакующих, прижатые к земле ее ураганным огнем, лежат уже где-то перед самым валом. И дальше вглубь вся степь полна ими, как птицами осенью перед отлетом.
– Товарищ комиссар, когда же мы? – в нетерпении спрашивают красноармейцы своего комиссара Безбородова, в прошлом ивановского ткача.
– Выдержка, выдержка, товарищи, – говорит он, переходя от бойца к бойцу, проверяя, наточены ли ножницы в порядке ли оружие.
– А правда ли, товарищ комиссар, – обращается к Безбородову молодой боец Ермаков, – что товарищ Фрунзе наш земляк, что он тоже не то ивановский, не то шуйский?
– Слышал и я, что он наш, из нашей красной губернии, – улыбается Безбородов.
Присев неподалеку от Яресько, комиссар некоторое время наблюдает, как этот бывший чабанок, окруженный товарищами, молча складывает небольшой костер из кизяка и стеблей бурьяна.
– Сразу видно чабанского умельца, – замечает комиссар, тепло глядя на Яресько. – Немало, видно, товарищ Яресько степных огоньков тут пораскладывал?
– Да пришлось, – отвечает Данько и, растянувшись на земле, принимается старательно дуть в чуть живой костерок.
– Только дым разгоняйте, чтобы противник не заметил, – посоветовал бойцам Безбородов и сам стал отгонять дым рукой.
Взметнулись первые язычки пламени, и вот уже со всех сторон навалились на него дрожащие от холода бойцы, ловя слабое тепло.
Шутя стали припоминать, где и кому из них жарче всего пришлось, и кто-то из ветеранов полка рассказал, как они еще в Оренбургских степях с Блюхером на охваченном пламенем поезде от белоказаков к своим пробивались. Двигались так: впереди платформа с тюками ваты, за ней паровоз и сзади опять платформа с ватой.
– А беляки бьют, вата загорелась, ветер раздувает огонь. Что делать? На ротном одежда тлеет, а он: «За мной, товарищи!» – и на полном ходу из огня да под откос, а мы всей командой за ним. Блюхер тоже недалеко от нас с «гочкисом» в цепи лежал. Отбивались, пока подмога не подоспела.
Кое-кто из бойцов тем временем, приноровившись, стал жарить над огнем где-то раздобытый ячмень.
– Бери! Черный рис! – трясет перед Яресько жестянкой с подгорелым ячменем знакомый китаец.
С аптекарской точностью он отмерил горсть ячменной поджарки Яресько, насыпал подряд другому и третьему.
– Бери и ты! – говорит китаец, обращаясь к комиссару, который, стараясь не показать, что он голоден, с равнодушным видом ждал, пока очередь дойдет до него.
Повеселели от этого угощения, едят, губы черные, хрустит у бойцов на зубах горелый перекопский рис.
Однако недолго наслаждались они прикрытым шинелями теплом. Начался обстрел, стали ложиться в степи снаряды, и костер пришлось погасить…
Съежившись, лежит среди товарищей Яресько на холодной, мерзлой, содрогающейся от канонады земле. Еще год назад, когда он носился здесь по степи с Килигеевыми повстанцами, была у них только одна пушка с тремя снарядами, и они, как малые дети, которые играют в войну, били из нее по этой вон перекопской колокольне… То была пристрелка. И Хорлы, и первый тогдашний «с воловьими батальонами» штурм Перекопа, и крымский рейд – все это была только пристрелка перед несравненно более тяжелыми боями, которые теперь и начались. Странно складывается его, Яресько, судьба. Столько прошел дорог, и вот снова он лицом к лицу с Перекопом, только все тут теперь словно по-иному: и степь, и тучи, и Турецкий вал, по-тигриному вытянувшийся на горизонте через весь перешеек. Есть в нем что-то таинственное, что-то такое, что привлекает, приковывает к себе взгляды бойцов.
Когда после ожесточенных боев за плацдарм степями, что все лето и осень были одним необъятным полем сражения, полки впервые подошли сюда, и сталью блеснули впереди осенние воды Перекопского залива, и увидели они вал, Яресько всем своим существом понял, что нет отсюда пути назад, что здесь можно только умереть или победить.
Немеют руки, коченеют ноги, кровь застывает в жилах. Кажется, что и земля здесь зябнет, что и ей холодно. Весной теплая, вся в цветах, сейчас она даже трескается, схваченная ранним сухим морозом. Пролетают снежинки. Припомнились почему-то Яресько цветущие степи ковыльные, весенние, и еще острее почувствовал, как холод иголками пронизывает его насквозь. Долго ли еще мерзнуть? Скорей бы уж атака.
Встанут и пойдут они серой осенней этой степью, что простерлась здесь до моря, а там – до самых Сивашей. Пришлось ему походить с чабанской герлыгой по этой степи и в жаркий зной, и в осенние бураны, когда перелетные птицы, замерзая на лету, падали прямо на головы чабанам. Черные бури вспомнил: ходил с хоругвями днем, при солнце, а точно ночью. Тоскливые высвисты сивашских ветров – сколько переслушал он их по таким вот чабанским стойбищам, и вот снова корчится от стужи в родной степи в своей ветром подбитой шинели. Ну что ж… Холод? Перенесут! Голод? Вытерпят! Ведь это ж в последний раз! Потому что не будет больше, не должно уже быть после этого штурма ни батрачества горького, ни черных бурь, ни материнских слез!
Хоть бы уж скорее… Никакая сила не остановит их в этом последнем штурме. Кажется, со всего света собрались такие же, как он, гонимые и бесправные в прошлом, а теперь готовые на все ради новой жизни. Сибиряки. Ивановские ткачи. Красные латыши, которых революция привела сюда от берегов Балтики. Китаец, побратавшийся с такими же, как он, бедняками Полтавщины. Это все люди, у которых не было жизни. Не потому, что они ее не любили, а потому, что им не давали жить. Терпели долго, но осточертело наконец, и вот теперь поднялись, чтобы добыть все, что принадлежит человеку по нраву, и никакая сила не остановит их на этом пути.
Посиневшие от холода, они, как только прекращается обстрел, вскакивают, начинают греться, кто как может. Тот приплясывает на месте, тот, разгоняя кровь, машет-бьет руками, точно крыльями. Кое-кто совсем без шинели – плечи прикрыты мешковиной, на ногах какое-то тряпье…
Свистит и свистит у Яресько над ухом. Ветер ли сквозь кураи рвется или тоскливо напевает кто-то рядом? Звенит железо о железо. Оглянулся – прикрывшись свиткой, молча точат Левко Цымбал топор, а Ермаков лопату: рубить ночью колючую перекопскую проволоку. То тут, то там перекидываются словечком бойцы, обмениваются адресами. Тот, слышь, с Урала, тот из Иванова, тот из Чернигова… А почему ж китайчонок сидит такой грустный, никому не дает своего адреса?
– Тебе-то куда писать? – обращается к нему Яресько.
– Обо мне, если что… товарищу Ленину напиши.
– Кому, кому? – переспрашивают те, что не расслышали.
– Ленину, вождю мировой революции.
Уже смеркалось, когда в расположение полка приехал Фрунзе.
Здороваясь с Безбородовым, он вдруг задержал его руку в своей, внимательно посмотрел в лицо, мужественное, с запавшими щеками, с сединой на висках…
– Ванюша?
– Товарищ Арсений?
Они крепко обнялись.
– Вот где довелось встретиться, – взволнованно произнес Фрунзе. – Не близкий путь от ивановских подвалов до твердынь Перекопа.
– От первых баррикад до штурма последней цитадели контрреволюции…
И сразу же перешли к делам насущным.
– Как бойцы, товарищ Безбородов? Как настроение?
– Люди рвутся в бой.
– Много обмороженных?
– Процент небольшой, но есть… Обносился народ. Видите, в рубище?
Для Фрунзе это не было неожиданностью. В других частях, где ему пришлось побывать сегодня, положение не лучше. Везде в отрепьях народ. Полубосых видел, обмороженных, посиневших от холода, как и эти вот. Даже то, что есть, не подвезти никак. И все-таки, несмотря на это, не слышал нигде ни одной жалобы. Сотнями подают заявление в партию, горят желанием немедленно ринуться в бой, чтобы взять перекопские укрепления, порадовать своих родных в тылу, победой отметить третью годовщину революции.
Бойцы тесным кольцом обступили командующего.
Фрунзе смотрел на них, и теплое братское чувство переполняло его сердце.
– Как живется, товарищи?
– Хорошо. Живем, не горюем!
– Холодно?
– Да покусывает. Кабы дрожать не умели, так уже позамерзли бы.
И смеются. Зуб на зуб не попадает, а смеются. Странно было слышать смех этих полубосых, съежившихся от холода людей, что, прижимая к себе винтовку, поцокивая зубами, греют друг друга собственным теплом… Что мог им сказать командующий? Как мог укрыть от лютого ветра, что бритвой режет в этой открытой приморской степи?
– Нелегко. Трудно. А надо, товарищи…
– Понимаем, Михаил Васильевич… На зиму затягивать никак нельзя. Спешить приходится.
– Слышите? Бурлит Литовский полуостров. Еще с ночи там бьются ваши товарищи, чтоб легче вам было штурмовать укрепления отсюда в лоб. Надеюсь, до утра красное знамя будет водружено на валу?
– Водрузим, товарищ комфронта!
– Так и Ленину передайте: хоть гром с неба, а вал будет наш!
Уже прощаясь, Фрунзе снова подошел к Безбородову.
– Ну, Ванюша, желаю успеха. С таким народом… ничто нам не страшно. – И, обращаясь к бойцам, громко сказал: – До завтра! До победы, товарищи!
XXXVII
Ночью после объезда частей командующий прибыл в Строгановку, в штаб Пятнадцатой дивизии.
На околице, над самым Сивашом, прилепилась оббитая ветрами мазанка. Гудят голые акации, похаживают в темноте, ежась от холода, часовые. То и дело хлопает перекошенная дверь; в мазанке, как в улье, гул голосов. Многочисленные телефонные провода – одни тянутся откуда-то из степи, другие – снизу, с Сиваша, – сходятся пучком к освещенному окну, скрываются в нем.
В хате полно военных, глаза у них красные от бессонницы. Чадят каганцы, пол покрыт сивашским илом, нанесенным сапогами штабных.
Фрунзе присел к столу, слушает информацию начштаба о положении на Литовском полуострове.
Положение тяжелое. Противник наседает. Потери огромны. В штурмовых колоннах погибло больше половины. Части Пятнадцатой и Пятьдесят второй дивизий, днем продвинувшиеся было вперед, сейчас снова прижаты к самому Сивашу. Не хватает патронов, нет даже пресной воды для питья. Ни патронных повозок, ни кухонь переправить на полуостров не удалось: все вязнет в болоте…
Не успел еще начштаба закончить свой рапорт, как на пороге неожиданно вырос бледный, весь заляпанный сивашской грязью боец-телефонист.
– Товарищи… Море! Море идет на нас!
Фрунзе встал, окинул телефониста суровым взглядом:
– Без паники! Докладывайте, в чем дело.
Связист, видно, только сейчас заметил Фрунзе.
– Ветер повернул, товарищ комфронта… Вода поднимается, заливает броды!
– Немедленно туда. Выяснить. – В сопровождении работников штаба Фрунзе вышел из помещения.
Слепая мгла пронизана свистом ветра. Словно над кратером вулкана, багровеет небо над Перекопом. Левее, где-то над Литовским, тоже поднимается зарево: горит Караджанай. Сиваш тонет во мраке, не видно, есть там вода или нет, но по морской влажности воздуха, которым тянет оттуда, можно догадаться, что вода и в самом деле приближается.
– Сперва было по щиколотку, – взволнованно рассказывает на ходу телефонист, – потом по колени, а теперь некоторые уже по пояс стоят в воде, держат провод на руках.
– Почему на руках?
– Вода соленая, разъедает изоляцию…
– Подвесить на шестах.
– Нет шестов, товарищ комфронта. Вместо шестов рота связи поставлена на Сиваш.
Представил Фрунзе, как часами стоят на ветру в ледяной воде его телефонисты, растянувшиеся цепочкой через покрытый водой Сиваш, держа в окоченелых руках нитку провода.
В сопровождении штабных Фрунзе спустился на дно Сиваша. Там, где вчера было еще сухо, сейчас хлюпает вода. Где-то в темноте за камышами слышится шум голосов, ругань: артиллеристы вытягивают увязшую в болоте пушку.
Фрунзе, взяв правее, вскоре выбрался с товарищами на песчаный горбок – еще не залитую полоску брода. Здесь было видно, как наступает вода. С каждым порывом ветра волна набегает все дальше на запад, все больше захлестывает брод. Если так будет прибывать, к утру вода покроет Сиваш до самого перешейка.
Скрывая тревогу, штабные ждали, что скажет командующий. Каждому было ясно, чем это грозит. Скоро зальет все броды, полки Пятнадцатой, а потом и Пятьдесят второй будут отрезаны там, на Литовском. Без патронов, без пищи, без воды… Какой же выход предложит комфронта? Может быть, даст приказ спасаться, пока не поздно, переправиться через Гнилое море обратно?
– Нет, только вперед! – произнес Фрунзе, как бы отгоняя собственные сомнения. И тут же распорядился: – Вызвать кавалерию! Бросить на Сиваш Повстанческую группу. Пускай, пока еще возможно, немедленно переправляются на ту сторону на поддержку товарищам…
– Что передать Пятьдесят первой?
– Пятьдесят первой еще раз подтвердить приказ: немедленно атаковать Турецкий вал в лоб, взять любой ценой.
Через несколько минут от штаба уже мчались во всех направлениях верховые; летели по проводам на Перекоп, обгоняя наступающее море, приказы командующего:
«Сиваш заливает водой. Положение угрожающее. Немедленно идти на штурм!»
XXXVIII
В Строгановке ревком ударил в набат. Все село было поднято на ноги.
– Все на Сиваш! Море гатить! – покатилось из края в край села по ночным улицам, по дворам.
Срывали двери с хлевов и сараев, валили плетни, ворота, калитки. Все складывалось на возы, ничего не жалела Строгановка для родного войска. Скоро загрохотали в темноте, спускаясь к Сивашам, крестьянские подводы, нагруженные деревом, соломой, камышом, хворостом, камнями, загомонили, поспешая туда же, мужики, женщины, подростки с лопатами в руках.
Иван Оленчук прибыл к броду во главе целого обоза, поднял всех жителей своего конца – от старого до малого – спасать броды.
Вторую ночь уже не спит Оленчук, вторую ночь не просыхает на нем тяжелая, пропитанная сивашской рапой одежда. Несколько колонн перевел он за это время на Литовский полуостров, под артиллерийским огнем пересекая Гнилое море туда и назад. Когда переводил последних, Сиваш уже заливало водой, большую часть пути пришлось брести по пояс, и немалого труда стоило ему угадывать в темноте затопленные броды. Если бы не вехи, расставленные штурмовой колонной, так и самого бы уже, верно, проглотили чаклаки. В селе много раненых, переправленных с той стороны. Несут и несут их на носилках через Сиваш. Невольно приглядывается к ним Оленчук: не сына ли несут? Знает, что пошел на Чонгар, а приглядывается – не здесь ли. Нет среди раненых и тех, кого переводил: ни комиссара Бронникова, ни путиловца, ни других из коммунистической колонны. Говорят, что большинство из них полегло на заграждениях, а кто и ранен, не хотят уходить в тыл, остаются на Литовском до последнего.
Опасным, гибельным стал Сиваш, когда броды скрылись под водой. Сколько идешь, только и слышишь в темноте тревожные крики людей, что, застряв с орудиями и патронными повозками, из последних сил бьются, вытаскивают из трясины коней. А там, еще где-то дальше, во мраке, тоже мучаются люди. «Тону, братцы, спасите!» – вскрикнет и уже провалился, ушел в илистый омут, нет уже его. По силе ветра, все больше разгуливающегося, по тому, как напористо прибывает вода, видел Оленчук, что это еще не конец, что угроза не только не миновала, а, наоборот, с каждым часом растет. Уже выбираясь из Сиваша, поделился своей заботой с телефонистом, сказал, чтобы немедленно доложил в штаб: дело плохо, надо спасать броды. И вот – тревога…
Тревога застала Оленчука босым возле печи. Насквозь промокший, измученный долгой ходьбой, он как раз сидел, подсушиваясь, у огня, когда село поднял брошенный ревкомом клич: «Все на броды!»
Имея на руках справку от командующего, к тому же только что вернувшись с Литовского, Оленчук мог бы остаться дома. Раненые бойцы, тесно уложенные на соломе по всей хате, для которых жена грела и грела воду в печи, так и считали, что хозяин не преминет воспользоваться своей предоставленной ему как проводнику привилегией, но, к их удивлению, Оленчук, услышав тревогу, сразу стал собираться.
– Куда, хозяин?
– А туда. – Он наматывал на ноги еще сырые портянки. – Слышите – море прудить.
– Вы же только что вернулись… Обсушитесь хотя, согрейтесь в хате.
– Ой, и не говорите, товарищ, – вмешалась Харитина. – Вы его еще не знаете. Разве он в такую ночь усидит дома? Другой бы мышью притаился…
– Будет, старуха, – поднялся Иван. – Чья тропинка, тот ее и спасать должен.
И вот спасает. Коченея в ледяной воде, забивает обухом колья, распоряжается, как старшой среди строгановских своих земляков.
– Дядько Иван, это не тот лес, что вы раздобыли на стропила?
– Тот самый. Давай клади его сюда.
И кленовые брусья, которые годами берег для новой хаты, ложатся вдоль гати на дно Сиваша.
Все прибрежные села вышли в эту ночь на работы. Растянувшись далеко во тьму Сиваша, трудятся плечом к плечу селяне и армейские саперы, роют вдоль бродов канавы, возводят дамбу из грязи, укрепляя ее соломой, камышом, камнем… Работа еще в самом разгаре, а по незаконченной гати, по настланным через Гнилое море крестьянским калиткам и дверям уже двинулась кавалерия в ночную, хлещущую ветром тьму, где живыми вехами стоят через весь Сиваш молчаливые связисты, держа провод в закоченелых руках.
XXXIX
Надвигается, низко стелется по степи черная туча. Нет, это не туча – конница по степи идет. Вот уже слышно звяканье уздечек, бряцание сабель. Чернее ночи развеваются в воздухе знамена. Глухо гудит земля под копытами коней. Яростный ветер нещадно треплет буйные, годами немытые махновские чубы.
Махновцы тоже идут на Сиваш [11]11
В сентябре, когда врангелевцами были заняты Александровск, Синельниково и Гуляй-Поле, махновцы, расположившись в это время в районе Старобельска, решили предложить Украинскому Советскому правительству свои услуги по борьбе с Врангелем. Из Старобельска в Харьков была послана правительству телеграмма о готовности махновской армии прекратить военные действия и заключить с Советской властью союз. Предложение было принято. Махновцы соглашались в оперативном отношении подчиняться красному командованию. На семьи махновцев распространялись льготы, которыми пользовались семьи красноармейцев. Согласно договоренности, махновская конница должна была принять участие в штурме Перекопа. ( Прим. автора.).
[Закрыть].
Кому из них нужен этот поход? Кого из них обрадовал лютый атаманский свист, условный знак тревоги, что поднял их из теплых хат и вывел, как на добровольную расправу, сюда, в ночное гудящее поле? Ни батько Махно, что прыгает сейчас на костылях в своей гуляй-польской столице, ни Каретников, который их ведет, ни сами хлопцы – никто из них не хотел этого похода. Не хотели – и все же идут. Есть что-то такое на свете, противиться чему выше их сил. Как человека, что попал на самую быстрину и, как ни барахтается, не может выплыть, так и их подхватило каким-то могучим водоворотом, каким-то неодолимым течением и тянет, влечет даже туда, куда и не хотели бы! В первый раз, укротив в себе дух бесшабашной вольницы, которая ни с чем, кроме собственных желаний, не считалась, идут воевать за то, что им не любо, идут штурмовать холодный осенний Сиваш, это бескрайнее Гнилое море, где, может, и коней своих потопят, и сами с головой провалятся в трясину…
Стужа осенняя бьет им в лицо. Ночь расстилается перед ними, кажется, нет ей конца.
– Эй, Каретник, куда мы идем? Может, вернемся, пока не поздно?
– Вернемся? А куда?
«Куда-а-а?..» – несет ветер над степью, над темной массой конницы.
Через некоторое время уже в другом месте перекликаются всадники:
– Сотник Дерзкий, это, кажется, твои края?
– А что?
– Чертям да ведьмам тут только жить… Ветрище какой…
– Ох, ветрище!..
А сотнику Дерзкому, который едет, накинув на себя мохнатую кавказскую бурку, и все вглядывается в темноту, этот край предстает в ином образе – в солнце слепящем, в весеннем цветении, в смелом и радостном, как сама молодость, рейде на Хорлы… Что это были за дни! Как трясли там степные повстанцы продажные души «ишаков Антанты», в каком восторженном опьянении шли тогда – с голыми руками! – на дредноуты, не подпуская их к тополиному порту, к светлым таврийским берегам… Почему жаль ему сейчас всего этого, почему грусть и тоска все время томят грудь тупой, непонятной болью? Тысячу раз рисковал головой, а что добыл, кроме этой наполненной ветром бурки? Может, напрасно отвернулся от брата тогда, при отступлении с бронепоездами на север, может, брат вернее дорогу выбрал? Как далеко разошлись с тех пор их пути! А сейчас будто сближаются вновь, на болотистом сходятся Сиваше: прослышал уже, что брат Дмитро в составе Первой Конной снова здесь, в родных степях… Что сказал бы отец, старый Килигей, если бы увидел их вдруг обоих разом перед собой? Где был ты, а где ты? Пока сабля одного где-то под самой Варшавой сверкала, ты в Гуляй-Поле самогон глушил да с пьяными шлюхами на тачанках раскатывал!
Куда же теперь? Вину искупать идешь? После гуляй-польских гульбищ в вечную, может, купель непролазных трясин Сиваша? А если перебредешь, то там, за Сивашом, что? Что там взору откроется? Кому – рай коммунистический, а кому – Крым с табаком да винными складами?
Над Перекопом не утихает канонада. Небо то пригаснет, то снова вспыхнет, как над пеклом, как над разверстым жерлом вулкана. Мощные прожектора то упираются в тучи, то неслышно прощупывают Сиваш. Свищет ветер, и кони, запрудившие степь, кажется, сами, вопреки воле всадников, мчат в эти бескрайние болотистые просторы, за которыми неизвестность…
XL
– Товарищ комфронта, Повстанческая группа прибыла!
В подчеркнуто четком фельдфебельском рапорте слышится насмешка. Фрунзе внимательно разглядывает прибывших. При тусклом свете, пробивающемся из окон штабной хибарки, видны выступающие из темноты покрытые пеной конские морды, что грызут и грызут удила, пытаясь выплюнуть их. Над ними во тьме чуть вырисовываются неприветливые, настороженно-подозрительные, по большей части молодые лица. Чубы, оружие всех видов, поблескивающие кожанки, надутые ветром бурки – так вот какова она, неприкаянная кулацкая вольница, никем еще не прибранная к рукам, степная махновская стихия?
Тот, что привел группу, отдав рапорт, так и остался в седле. Один из главарей, один из ближайших сподвижников Махно. Папаха лихо заломлена набок. Подкручивая ус, ждет, каков будет приказ, и в полутьме кажется, что на губах его притаилась под усами умная, насмешливая улыбка.
Обращаясь к нему, Фрунзе четко излагает задание: немедленно, пока еще можно, пока не совсем затопило броды, всей группой идти через Сиваш…
Верховые, стоящие впереди, прикидываются, что из-за ветра не расслышали:
– Куда, куда?
Фрунзе повторяет громче:
– На Сиваш!
И, как от выстрела, сразу все забурлило.
– Мы стихия!
– Нас сюда революционная мечта привела, а вы нас на Гнилое море хотите загнать?
– Не будет этого, не будет!
Шум в темноте нарастает. Брань, матерщина…
– Слышите? На море гонят!
– Гонят, где море самое глубокое!
– С конями, с тачанками в трясину!
Из тьмы, сквозь ветер, доносится возмущенный многоголосый шум.
– Потопить хотят!
– Дураков нашли!
– Своих сперва пусть пошлют.
Фрунзе был к этому готов. Сдерживая себя, сообщил, что лучшие его части уже там, они уже вторые сутки дерутся на Литовском.
Махновцы на миг притихли. Наконец кто-то из них нашелся:
– То пешие!
И снова загудело в темноте:
– Пешим можно! А конница через Сиваш не пройдет!
Фрунзе предвидел и это.
– Полчаса назад, – жестко возразил он, – через Сиваш пошла Седьмая кавалерийская. Пошла и прошла. Или, может, у вас кони не такие, как у них?
Уж этого, видно, ни Каретников, ни другие верховоды не ожидали. Седьмая кавалерийская пошла, значит, Сиваш для конницы проходим, отговариваться больше нечем…
Фрунзе тем временем еще энергичнее настаивал:
– В последний раз предлагаю: либо на Сиваш, либо мы отменяем соглашение.
На мгновение все застыли. Черные дула пулеметов, притаившиеся на тачанках, смотрели из темноты прямо на Фрунзе. Слышно было, как хлопает ветер башлыками и полотнищами анархистских приспущенных флагов. Потом разом люто рванулись вверх оскаленные, разорванные удилами конские морды и, покрывая свист ветра, раскатисто, бесшабашно прозвучало в ночи:
– Прямо на море – марш!
С тяжким топотом проносится мимо Фрунзе гуляй-польская вольница, исчезает во мраке, точно навеки проваливается в темную таинственную пасть Сиваша…
«Чем, какой силой заставил ты их идти? – думал Фрунзе, глядя махновской коннице вслед. – Стальной волей своей? Но воля и у них такая, что удила перегрызет! Нет, не тем ты их взял, не тем победил… Правда революции на твоей стороне – это она их одолела, она своей силой заставила их идти штурмовать этот гиблый, ненавистный им Сиваш!»
От Перекопа докатывался гул орудий, все чаще вспыхивают на Турецком валу огни батарей, лихорадочно шарят по степи и выше, по движущимся тучам, прожекторы, точно и там, в тучах, отыскивают бойцов…
Значит, снова пошли на штурм. По всей степи перекопской идут сейчас в атаку, катятся волна за волной, тысячами живых тел бросаются на колючую проволоку…
– Товарищ комфронта! – окликнули его. – Важное донесение.
Фрунзе вернулся в штаб.
– Полки Пятьдесят первой и огневая Ударная бригада, – докладывали ему оттуда, с Перекопа, – под ураганным огнем противника, неся огромные потери, одолели все семнадцать рядов проволочных заграждений и даже прорвались в отдельных местах на вал. Однако закрепиться не успели. Сплошным пулеметным огнем, бешеной контратакой свежих офицерских частей были снова отброшены назад. Залегли перед валом. Сто пятьдесят вторая бригада погибла почти вся. Большинство командиров и политработников, которые, встав в цепь, вели атакующих, пали смертью героев.
Тяжко опечаленный, застыл Фрунзе у стола. Целая бригада полегла, каких людей теряем, а сколько еще их ляжет до утра! Лучшими своими сынами жертвует в эту ночь партия, лишь бы не допустить еще одной военной зимы. Но что же делать? Тяжело вздохнув, передал:
– Идти на третий штурм!
XLI
Непроглядную темь степей перекопских, где под каждым кураем ждет призыва к атаке боец, третий раз рассекает клич: «На штурм!»
Подымаются, разворачиваются в цепи, идут.
Наклоняясь против ветра, напрягая взор, вглядывается Яресько в зловещий мрак перед собой. Что там, за ним? Неприступная твердыня, говорят? Стеной пушечные стволы и пулеметные дула? Что ж, он пойдет и на них. На пушки, на пулеметы, на колючую проволоку, которой опутано там все поле.
Встает перед глазами изможденное тяжелым трудом лицо матери, что из далеких Криничек словно смотрит сейчас на него, как он поднялся здесь и идет, может, в последнюю свою атаку. Словно что-то хочет сказать ему скорбный ее взгляд. «Вы что говорите, мамо?»
«Иди!»
Видит сестру, и она говорит:
«Иди!»
Видит дивчину нареченную, и она говорит:
«Иди, иди!»
Идут быстро, но команда: еще ускорить шаг.
– Скорее! Скорее! – звучит в темноте голос комиссара Безбородова.
Они знают, почему скорее. Сиваш заливает водой. Их товарищей вот-вот отрежет на Литовском.
Слева и справа ветер свистит в штыках. Не видно Яресько во тьме, сколько их идет, но чувствует, что нет им числа, что вся степь заполнена ими, теми, что идут штурмовать. Нет больше для них ни холода, ни голода, есть только одно – жажда немедленного яростного удара: «Даешь вал!»








