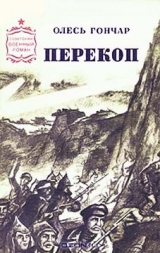
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 27 страниц)
Безмерно гордым чувствует себя Яресько за этот необозримый людской поток, словно он сам их собрал, сам поднял и сам ведет штурмовать ненавистную твердыню горя и бесправия. С каждым шагом растет его сила. Чувствует, что если даже пуля пронзит его и упадет он, то и мертвый поднимется, и мертвый пойдет дальше, вперед. Ведь это идет он войной на неправду людскую. На батрачество свое горькое. На каховские невольничьи ярмарки, на черные бури, что днем заслоняют солнце!
Вдруг впереди все осветилось – от земли и до неба. Десятки прожекторов на валу ударили лучами, ослепляя наступающие войска и в то же время освещая им путь. Длинные языки пламени вырвались с батарей. Тяжелые снаряды с грохотом рвут мерзлую землю. Столб огня взметнулся перед самым Яресько, ослепил нестерпимым блеском, и вот уже со злобной силой откинуло его куда-то назад, уже его нет. Убит или жив? Ранен или контужен? Еще в голове звенит и все тело словно чужое, а он, вскочив, подобрав свою или не свою винтовку, уже догоняет волну атакующих, занимает место в ряду товарищей.
– Даешь вал!
Освещенная, как днем, степь бурлит лавами наступающих. Волна за волной идут за броневиками, поблескивают штыки, сколько видит глаз, сколько захватит в степном просторе луч прожектора. Передние уже достигли вала, уже где-то там слышен их исступленный крик: «Даешь!» И видно, как сверху потоком льется на них огонь. Внезапно из земли, точно из самых клокочущих недр ее, вырывается пламя, камни – это первые атакующие напоролись на заложенные в землю перед валом фугасы. Туда! Туда! Уже видит Яресько, как, сбрасывая на бегу шинель, кидается вперед комиссар Безбородов, бегут бойцы, срывает с себя шинель и Яресько, и легко становится ему, словно ветром несет его вперед. Добежав до сплетения колючей проволоки, бросает на нее шинель и по ней перепрыгивает дальше и снова в темноте натыкается на заграждения. Скрежещут ножницы. Тяжело дыша, бойцы лихорадочно режут проволоку, пробивают проходы. Вспышки ракет на миг выхватывают из мрака тысячи путающихся в проволоке, ожесточенно работающих людей, которые рубят ее лопатами, рвут штыками, готовы зубами грызть. У Яресько руки уже залиты кровью: колючей проволокой порезал их до кости, ноги тоже изрезаны, все тело, кажется, разорвано у него, жжет, горит, но, прорываясь сквозь проволоку по кучам трупов, он вместе с живыми рвется все дальше и дальше.
– Вперед! – само рвется из груди Яресько.
Вот уже он на дне рва, где с каждой минутой все больше и больше набирается атакующих. Отсюда, со дна, отвесная стена вала пугает своей высотой, кажется, подымается она – обледенелая, крутая – куда-то к самым облакам.
Не успели еще передохнуть, как снова:
– Вперед, товарищи!
Безбородов это или уже кто-то другой во главе вой цепи, которую он сюда привел? Начинают карабкаться по крутизне на вал. Изрезанными, липкими от крови руками Яресько хватается в темноте за мерзлую, обледенелую землю, за какие-то выступающие камни. Срывается, скатывается назад, чтоб сразу же, с еще большей яростью кинуться на обледенелую стену, цепляясь, взбираться все выше и выше. Вся стена облеплена людьми. То тут, то там вспыхивает короткий бой – атакующие штыками выбивают из укрепленных гнезд противника. Раненые с предсмертным криком валятся назад, на дно рва, откуда навстречу им поднимаются другие. Бойцы разных рот, разных полков, все они уже перемешались между собой. Кто-то подает мысль попробовать пробраться по дну рва направо. Где-то там кончается же вал и начинается море, может быть, удастся обойти укрепления морем? Наскоро подбирается группа охотников, и вот она уже движется по дну рва туда, где должен окончиться вал и где он через некоторое время действительно кончается, но за ним колючие проволочные заграждения, которые уходят куда-то далеко в глубь залива, в море. Уже бойцы забрели по пояс, а колючей проволоке нет конца, уже ледяная вода им по грудь, а в ней все еще тянется в море та же колючка. Не останавливаясь, бредут все глубже в воду бойцы, кончатся же где-нибудь эти заграждения, они все-таки обойдут их, чтобы с моря, с тыла кинуться на противника.
Все выше взбирается на вал Яресько с атакующими. Будет ли когда-нибудь конец этой обледенелой крутизне? Где ее вершина? Кажется, в самые тучи поднимается она, но он взберется и туда!
Еще из глубины степи катятся и катятся освещенные прожекторами волны атакующих, еще все поле перед валом пылает огнем, кричит живой болью повисших на проволоке, а откуда-то сверху, точно с темного неба, уже звучит, передается по фронту:
– Рота Четыреста пятьдесят пятого на валу!
– Рота Четыреста пятьдесят шестого на валу!
– Ударники на валу!
И так через весь перешеек, сквозь грохот битвы, до самой штабной мазанки, что всю ночь светит оконцами в ветреной тьме над Сивашом.
Работники штаба стоят вокруг Фрунзе, а он напряженно вслушивается в донесения оттуда.
– Так… так… так, – приговаривает он, слушая Пятьдесят первую, а усталое лицо его все светлеет.
Вот уже трубка выскальзывает у него из рук, он даже покачнулся, кажется, сейчас упадет со стула, но через мгновение порывисто встает, точно помолодевший.
– Товарищи, поздравляю вас, – голос у него срывается от волнения, – передать всем… полкам на Литовский полуостров, крестьянам на броды… товарищу Ленину передать; ворота в Крым распахнуты. Планы Антанты биты. На Перекопском валу поднят Красный флаг.
XLII
Известие о падении Перекопа потрясло весь мир. Неприступный белый Верден, который, рассчитывали, может держаться годы, пал за три дня.
Дальнейшие события развернутся с головокружительной быстротой. Вскоре Тридцатая Иркутская прорвет Чонгарские укрепления, враг будет выбит из Юшуньских позиций и в прорыв ринутся героические полки Первой Конной и других соединений красной кавалерии, которые погонят по крымским дорогам отступающие к южным портам врангелевские полчища.
Паника охватит отступающих: побегут, как обезумевшие, потеряв волю к сопротивлению, бросая оружие, срывая с себя погоны. Будет отдан приказ топить в море все: технику, артиллерию, обозы, конный состав, и полетят с крымских обрывов в Черное море огромные обозы вместе с лошадьми, станут сбрасывать с круч на дно морское автомобили и грозную антантовскую артиллерию на тракторной тяге, казаки станут пристреливать коней.
Так наконец наступит тот день, когда капитан Дьяконов, оказавшийся на борту одного из многочисленных набитых разгромленными войсками кораблей, увидит, как убирают поспешно трапы, связывавшие его с родной землей…
Поверженный, агонизирующий Крым, лучше бы его не видеть! Он уже ничей. Черным дымом заволокло небо: горят склады в Южной бухте. По городским улицам и пристаням бродят тысячи загнанных, измученных лошадей, которых пожалели или не успели пристрелить. Много дней не расседланные, тоскливым ржанием призывают тех, кто, бросив их, нашел себе последнее пристанище на переполненных, готовых к отплытию судах. Скоро они отчалят и пойдут холодным осенним морем неведомо куда. Далеко не всех могли вместить корабли. Серые толпы озлобленных, разочарованных «рыцарей белой идеи» теснятся на берегу, в возмущении и отчаянии посылают своему вождю проклятия. Дьяконов слышит все эти выкрики, адресованные тому, кто был его кумиром, и сам уже не находит в своем опустошенном сердце ничего, кроме тупого отчаяния, разочарования и проклятий. Крах. Потерпели крах все его идеалы, напрасна была его преданность, его беззаветное служение тому, кому так верил и кто его так жестоко обманул. Мог ли подумать, что все так трагически кончится, когда в бурлящей толпе офицеров, подхваченный волной белой истерии, встречал здесь, на этой же пристани, нового, только что прибывшего из Турции избранника? Вот он, думалось тогда, тот, кто воскресит в войсках белую идею, очистит ее от позора, от тех преступлений, какими она запятнала себя в руках Антона Деникина. И что же? Кем он оказался, этот их новый диктатор? Рубя головы деникинской камарилье, не замечал, как вокруг него еще обильнее растет уже своя, врангелевская, камарилья, этот смертоносный микроб наемных, обреченных армий. Кричали о святой Руси, а оказались просто наемным войском, ландскнехтами, которые с чужим оружием в руках, с чужими советниками при штабах слагали свои головы в боях за чужое дело. Сколько таких, как он, лежит сейчас там, на Перекопе, на Юшуни, где собирались зимовать. Держались до последней возможности, но какая сила могла удержать разбушевавшийся людской океан, что под лучами прожекторов несся из степи без конца, без края в фанатическом своем экстазе, словно и в самом деле охваченный мистическим революционным энтузиазмом, о котором сейчас говорит вся Европа…
Один за другим отчаливают корабли, выходят в открытое море. Постепенно отдаляются, тают в холодной осенней мгле родные, так бесславно брошенные берега. Никогда уже тебе не увидеть их. Для чего ж были годы солдатчины, окопов, крови, за что горел ты в жару степных атак и шел на гибель в ночи ожесточенных героических штурмов? Чтоб дымом развеялись все твои иллюзии, чтоб так вот уползали морем в неизвестность караваны обреченных бесприютных кораблей? Что же теперь? Этот холодный ветер осенний, куда он погонит твои корабли, какие гавани их примут? Пустынные острова Эгейского моря? Бельгийские шахты? Или снова с винтовкой в иностранные легионы усмирять непокорные племена где-нибудь в африканских пустынях?
Слышно, как кто-то истерически рыдает в группе офицеров. Никто не обращает на него внимания. Все провожают взглядом родные берега.
Прощай, прощай все. Из трюма передают, что застрелился какой-то юнкер, пустил пулю в лоб прапорщик из кубанцев… Что ж, может быть, это и выход?
Сумерки спускаются на море. Скрылись, растаяли берега. Не отходя от борта, Дьяконов нащупывает в кармане револьвер. Рука сама подносит его к виску…
Звучит еще один выстрел.
XLIII
Яресько дошел с наступающими войсками только до Симферополя. Там пришлось задержаться: разоружали махновцев, а потом в жизни его и вовсе произошел крутой поворот – в числе лучших бойцов-перекопцев Яресько был отобран для направления в Харьков, в школу красных командиров.
Ранним утром едет с товарищами – будущими курсантами по дороге, ведущей на Перекоп. По обочинам – брошенные орудия, зарядные ящики с перерубленными постромками, разбитые артиллерией бронемашины. На полях покрываются инеем закоченелые окровавленные трупы. На погонах у многих еще можно разобрать то «М», то «Д»: марковцы, дроздовцы… Кое у кого из рядовых погоны пришиты к шинели проволокой, чтоб в панике не срывали, когда красные нажмут…
Шляхом, перекопским без конца движутся красные войска – те сюда, те туда. Кавалерия, обозы, пехота. У всех, как и у Яресько, приподнятое, радостное настроение. Сокрушена последняя баррикада белого мира. Открыта дорога к мирной жизни, не будет еще одной трудной военной зимы. Как тогда, во время первых боев, когда все небо звенело жаворонками и они, таврийские повстанцы, гуляли с Килигеем по степи, выкуривая интервентов, и казалось, была во всем мире только воля и весна – так хорошо было у Яресько на душе и сейчас. Наталка уже в Чаплинке, ждет его. Он идет учиться, станет командиром. Только устроится – и ее в Харьков заберет. Какая широкая, большая жизнь открывается впереди!
Там, слышно, пущена еще одна домна, там задымил трубами еще один завод… Не за горами тот час, когда и по селам радостные матери будут встречать бойцов-перекопцев, что героями вернутся домой. Заживет народ! Терпко-радостное ощущение утра жизни, ее беспредельности обнимает, свежестью обдает Яресько.
На Перекопе, там, где дорога пересекает вал, красноармейская застава проверяет проезжающих.
Подозрительно оглядывают и Яресько с товарищами на их загнанных, еще забрызганных сивашской грязью махновских лошадках. К седлам у хлопцев приторочены огромные тюки желтого крымского табаку – это, видно, и вызвало особую настороженность бойцов заставы.
– Кто такие?
– Разве не видите кто? – Яресько коснулся рукой красной звезды на шлеме.
– Табак?
– Что ж табак? Путь дальний, вот и запаслись… В Харьков отбываем, в школу красных командиров.
Откуда-то сверху вдруг раздался строгий голос:
– Кто старший?
Яресько поднял голову и глазам своим не поверил: в длинной кавалерийской шинели с малиновыми петлицами во всю грудь, на валу стоял Дмитро Килигей. Еще больше почернел, обожжен ветрами, брови раскосматились…
– Дмитро Иванович, не узнали?
– О! – Кустистые брови Килигея поднялись в изумлении. – А ну, мотай сюда!
Передав коня товарищу, Яресько через минуту уже был на валу. Словно отец на сына, смотрел Килигей на бывшего своего повстанца. Изменился, возмужал, только по этой улыбке, открытой, душевной, и узнать можно.
– Какими судьбами?
– Да вот посылают учиться на краскома, – взволнованный встречей, не мог скрыть радости Яресько. – А вы?
– А меня здесь комендантом Перекопа поставили, махновцев вылавливать.
– Мы с ними в Симферополе тоже было схватились. Склады грабить начали.
– Вот-вот, «борцы за идею». Бесчинствуют, мародерствуют. В Саках комбрига Латышской зарезали. Ну, мы с ними еще поквитаемся…
Они медленно шли по гребню вала. Со звоном рассыпались под ногами кучи стреляных, покрытых окалиной гильз. Пасти развороченных блиндажей ощерились бетоном, оголенными металлическими прутьями. Везде в беспорядке валялось ломаное оружие, пустые коньячные бутылки, консервные банки и покрытые инеем, в окровавленных английских шинелях трупы офицеров. Неподалеку жители присивашских сел уже разбирали укрепления на топливо и на постройки: получили на это разрешение командования.
– На совесть потрудились инженеры Антанты, – сказал Килигей, с усилием отгибая стальной прут, мешавший им пройти. – Все свое умение пустили в ход, все у них пристреляно и размерено было, в одном только просчитались…
– В чем?
– Не учли, на что способен народ, когда он за права свои поднимется.
Приблизившись к северному краю вала, Килигей кивнул куда-то вниз:
– Ишь какие индюки!
Яресько тоже поглядел туда. Там, на дне рва, между кучами колючей проволоки под охраной красноармейских штыков стояли толпой задержанные махновцы. В красных башлыках, в черных кавказских бурках, они и в самом деле были похожи на индюков.
– Это когда же вы их столько?
– Да вот утром уже. С час назад.
Яресько стало вдруг как-то не по себе. Почувствовал, что чей-то недобрый взгляд ощупывает его. Что такое? Со дна рва из толпы махновцев на него пристально, хмуро смотрел Дерзкий.
– И этот здесь?
– Да вот и его по-родственному заарканил… Пораздуло всех от барахла, так что уже и не подлетят. Из-за барахла не успели и за своим вожаком выпорхнуть.
– А были такие, что и выпорхнули?
– До меня, говорят, проскользнуло их тут через перешеек немало. Пристроились ночью к нашим обозам и – догоняй их теперь.
Словно чувствуя, что речь идет о них, махновцы поглядывали снизу неприязненно, диковато, точно звери из клетки. Курили. Некоторые изредка невесело пересмеивались меж собой, должно быть, перекидываясь хмурыми шутками. И снова опускали в задумчивости головы. О чем думали они сейчас, сбившись под конвоем на дне колючего перекопского рва? О том, быть может, что не придется уже им гулять по степям в неуловимых тачанках, как тем, что успели проскочить через перешеек обратно на Украину, к своему гуляй-польскому «батьку». В одну из глухих осенних ночей Махно, проскользнув из Гуляй-Поля сквозь кольцо красных войск, с выкраденным чужим паролем пойдет в свой последний разбойничий рейд. Год еще будет кружить он по разным губерниям, пока в августе двадцать первого не пробьется с горсткой самых отчаянных к румынской границе, чтобы склонить буйные чубы на милость румынского короля. Но этим не кончится их путь. Увидит потом еще Сахара эти черные махновские тачанки, на границе африканских пустынь будут рыскать они, покрывая себя позором службы в иностранных легионах, под чужим небом сражаясь… За кого? За что?
– А это, Яресько, запомни…
И оба они, Килигей и Яресько, перевели взгляд туда, где перед ними простерлась вдаль бескрайняя перекопская равнина. Впервые спокойным было таврийское небо, что еще несколько дней назад гудело снарядами, свистело пулями и шрапнелью. Спокойно, неподвижно лежат по всей степи погибшие герои. Множество их висит на проволоке. Где-то там и комиссар Безбородов, и Левко Цымбал, и тысячи других… Как рвались вперед, так и застыли в вечном порыве, окаменевшие, скованные морозом на колючих заграждениях. Конца не видно раскинувшимся по полю серым шинелям. Сколько их тут? Должно быть, за все три русские революции не пролилось крови столько, сколько пролилось ее за трое суток здесь, под Перекопом. Сознательно почти на верную смерть шли вперед штурмовики-коммунисты – резальщики проволоки, гранатометчики, которые должны были проложить дорогу другим. Не счесть, сколько их тут пало. Те, кто подымался им на смену, видели их смерть, но это их не страшило. Не потому не страшило, что не дорога была им жизнь, а потому, что желание победить было в них сильнее страха смерти. Шли в трясины Сиваша, брели в темноте по соленым ледяным лиманам, бесконечными штурмовыми лавами рвались вперед по твердой, развороченной снарядами земле перешейка. Никто их не гнал, никто не заставлял – сами стремились в атаку, чтобы все решить в бою, шли на проволоку, чтобы перегрызть ее, ступали на фугасы и взлетали в воздух, беря штурмом обледенелый, неприступный вал! Был он для них как бы последней преградой на пути к чему-то неизведанному, сказочно прекрасному.
«За счастье народное…» – думал Яресько, окидывая взглядом усеянное шинелями бескрайнее перекопское поле.
1953–1957








