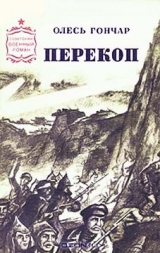
Текст книги "Перекоп"
Автор книги: Олесь Гончар
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
– Чем не Марсово поле? А? – повернувшись к Дьяконову, язвил Лобатый. – Когда-то тут ярмарочные прасолы баранами торговали, а сейчас мы будем держать парад перед высокочтимыми господами атташе… М-да.
Вооруженный с ног до головы, он стоит впереди Дьяконова и впрямь как разбойник в своей пестрой одежде: чуб из-под фуражки свисает почти до глаз, вместо рубахи какая-то клетчатая ковбойка с черными погонами корниловца, на ногах не сапоги, не краги, вместо них поверх узких галифе натянуты серые английские носки… Всю дорогу от окопов до Чаплинки перед глазами Дьяконова мелькали в клубящейся пыли эти английские носки, и он уже не может смотреть на них без раздражения.
Ждать пришлось довольно долго. Когда уходили из степи, еще ярко светило солнце, а тут уже и тучами небо стало затягивать, и ветер, поднявшись, погнал над площадью пыль…
XX
Приезда главнокомандующего ждали в этот день и на Перекопе. Здесь, на Турецком валу, по указаниям и под наблюдением французских военных инженеров все лето проводились работы по укреплению фортификационных сооружений. Западная печать сообщала, что на Крымском перешейке, на этой ключевой позиции, может быть возведена крепость, не уступающая по значению Гибралтару или Суэцу. В спешном порядке строилась специальная железнодорожная ветка, чтобы доставлять из глубины Крыма к Перекопскому валу строительные материалы, стальные балки и крепостную артиллерию. Строительство железной дороги длилось уже много недель, однако работам еще не видно было конца.
Среди массы людей, согнанных сюда для работы, был с подводой и Оленчук. Несколько раз он пытался отпроситься домой – недалеко ведь! Не отпускают даже и на воскресенье. Уже и лошадь пала, а он все тянет лямку; уже и рубаха на нем изорвалась, а сменить не пускают – хоть пропадай.
Насыпают насыпь для полотна. За старшего здесь ротмистр Гессен, крикун и грубиян, из немецких колонистов. Оленчуку он даже ночью снится с оскаленными зубами. Кажется, он забыл все слова человеческого языка, за исключением брани и окрика: «П’шол!»
Железная дорога должна пройти по целине, испокон веков непаханной. Земля как камень. Для насыпи выбирали грунт лопатами с обеих сторон, предварительно подняв его плантажными плугами. В плуги запрягали по две-три пары волов. В один из дней волов не оказалось: их послали на станцию перевозить какие-то срочные грузы – колючая проволока прибыла, что ли. Работы, однако, не прекратились.
– Канат! – приказал Гессен.
Принесли канат.
– Кто умеет управлять плугом?
Плугом управлять? То есть пахать? А кто же из них, хлеборобов, этого не умеет?
Вызвался какой-то старовер агайманский, с дремучей, всклоченной бородой; уверенно подошел, стал к чапыгам, не смутился, что новый плуг, заграничный – из тех, которыми землю под виноградник подымают. Однако кого же запрягать? Волы до сих пор не возвратились со станции. А Гессен, тыкая нагайкой, зачем-то отсчитывает, отделяет от толпы десятка три самых мускулистых, выстраивает в два ряда… Что это он надумал?
Оленчук оказался впереди, за ним еще мужики, а дальше татары с Армянского Базара, старообрядческая молодежь, которой вера запрещает брать оружие в руки… Переминаются с ноги на ногу, ничего не понимают. Вернее, понимают, но еще не верят, даже мысль такую боятся допустить.
– Канат на плечи!
Как лунатики, как те, которых заставляют самим себе рыть ямы перед расстрелом, нагнулись, берут на плеча крепкий манильский канат.
– П’шол!
Какое-то мгновение они стоят еще неподвижно, словно не слышат команды, словно не в силах осознать, что это относится к ним, что это их, людей, впрягли в плуг и собираются на них пахать!
Свист нагайки приводит их в себя.
– Сыновей красным отдали? А? П’шол!
Согнувшись, как бурлаки, пошли. Лбами вперед, стиснув зубы так, что темнело в глазах. Казалось, не столь тяжело спине и рукам, сколько сердцу… Огненный клубок ворочался в груди Оленчука, жег острой болью и стыдом. Лучше бы убило где-нибудь там, в Карпатах, чем до такого дожить. Дождался, что на тебе, как на скотине, землю пашут! Выть, зверем выть хотелось. От боли, от несправедливости, от обиды. Не посчитались и с возрастом его, не постыдились набросить веревку на его контуженную, за батюшку царя свернутую шею. Самой тяжелой работы не боялся Оленчук; горы труда переворотил, горы соли из Сиваша на себе переносил, еще и сейчас не иссякла его сила. И не тяжесть этой египетской работы гнетет его, гнетет то, что за человека тебя не считают. Кое-кто помоложе пытался шутить, но и в шутках звучала только горечь. Кто-то мрачно ругался, кто-то проклинал Гессена, придумавшего такое поругание, а Оленчук только сопел, отмеривая впереди шаг за шагом, роняя себе под ноги слезу за слезой.
Во время передышки с возмущением заговорили о том, что Гессен не имеет права так с ними обращаться, что нужно выделить депутацию и подать жалобу начальству. Выделить депутацию, однако, не пришлось: пронесся слух, что сам Врангель должен проехать здесь с иностранными гостями, значит, все сам увидит в натуре.
С того момента, когда со стороны Симферополя на дороге появилась вереница автомобилей, ротмистр Гессен мог уже не подгонять своих пахарей: их словно кто-то сразу подменил – сами тянули так, что жилы трещали, всю силу своей злости вкладывали в этот натянутый манильский канат. Пусть видит белый правитель, на ком здесь пашут, кого здесь вместо скотины запрягают в плуг.
Взъерошенный, в истлевших лохмотьях, выпятив костлявую загорелую грудь, Оленчук шел прямо на Врангеля, шел, обезумевший от обиды, и всем своим упрямым страдальческим видом взывал к правителю: «Смотри, смотри, как здесь строится для тебя дорога!»
Врангель сидел в передней машине, и автомобиль его летел, казалось, прямо на Оленчука, однако так и пролетел не остановившись. Мчась мимо бурлацкой ватаги пахарей, вождь скользнул по ним суровым, хозяйским взглядом.
И это все?
Потом, когда верховный уже вышел из автомобиля и в окружении своих блестящих гостей и адъютантов встал на валу, он подозвал Гессена к себе. Ротмистр бросился бегом. Хорошую, видно, получил взбучку, так как вернулся он еще более свирепым, чем обычно.
Остановившись, пахари ждали, что он скажет, надеялись, что хоть теперь наконец услышат от него приказ выпрягаться, сбросить лямки прочь… Но вместо этого – даже ушам своим не поверили! – снова раздалось знакомое, только еще более бешеное:
– П’шол! Саботажники! Ковыряетесь, ковыряетесь, а работы не видно!
Оказалось, что выволочка ему была, да только не за то, что предполагали пахари: главнокомандующий был недоволен, что медленно подвигается работа. Нужно проложить каких-нибудь двадцать верст железной дороги, а до сих пор еще и половины не сделано. «Быстрее! Не терять ни минуты!» – такой приказ прозвучал из уст самого верховного.
И снова струной натянулась лямка, снова шагает впереди продубленный солнцем и ветром Оленчук.
Немалое расстояние между ними – между крестьянином и правителем, – огромные кучи колючей проволоки и сгруженных под валом строительных материалов разделяют их, а кажется Оленчуку, будто нет между ними ничего, будто сходятся они вплотную, глаза в глаза – крестьянин и диктатор, и между ними завязывается немой недобрый разговор.
Оленчук.Высоко стоите, ваше превосходительство. На весь край аксельбанты ваши сверкают, но не принесет вам добра ваше величие.
Врангель.Почему?
Оленчук.Вот вы промчались мимо нас, даже не заметив нашей обиды и горя. Темные мы, грубые, одежда на нас истлела, и вши с нас сыплются, а все же мы… тоже ведь люди.
Врангель. Я знаю тебя, Оленчук. Из таких, как ты, всегда выходили хорошие, крепкие солдаты, артиллеристы, саперы, пластуны. Возможно даже, что в прошлую войну ты был в числе тех, которыми я командовал. Я вижу, что сейчас тебе нелегко, тянешь так, что даже ребра выпирают, но, поверь, если бы не такое время, я охотно облегчил бы твою участь.
Оленчук.Вам сейчас не до нас.
Врангель.Да, идет сражение, в котором решается все, и думать я сейчас могу только об одной ответственности – о своей ответственности перед историей: я ее сын и избранник.
Оленчук.Ты сын, а мы, выходит, насыпки? Нас – в плуги?
Врангель.Напрасно волнуешься, Оленчук. Со временем я обещаю подумать и о вас.
Оленчук.А может, хватит?! Может, лучше сами о себе подумаем?!
Врангель.Без таких, как я, вам ничего не достичь. Вас без числа. Вас целые туманности. Но вы только тогда имеете пену, когда чья-нибудь могучая воля объединяет вас, чей-нибудь разум поднимает и ведет вас за собой. Запомни это, Оленчук.
Оленчук.Нас без числа, это правда, и вы привыкли считать нас только полками, батальонами и эскадронами, но шинелям да портянкам… А думали ли вы когда-нибудь, что под каждой шинелью – сердце, а под каждой солдатской шапкой – ум человеческий?!
Врангель.Что за тон, Оленчук? Я тебя не узнаю. Комиссаров наслушался? Не забывай, однако, что я могу тебя в бараний рог… И настоящее и будущее твое в моих руках!
Оленчук.А ваше?
Врангель.Мое – в божьих!
Оленчук.Вот как? Слыхал я, будто бы у вас теперь мода такая пошла – блюдечко по ночам вертеть, разных духов загробных на совет вызывать; говорят, будто сами наполеоны вам голос с того света подают. Не знаю, что они пророчествуют, все эти духи потусторонние, а я, хотя и не дух, хотя и не колдун, что умеет будущее предсказывать, все же скажу: не вечно вам стоять на этом высоком валу перекопском. Еще узнаете вы гнев народный, и изгнание, и чужбину…
XXI
В Чаплинке напротив церкви, перед полками, поставлен аналой, подсвечники, все необходимое для молебна. Многочисленное духовенство, занятое последними приготовлениями, видно, неспокойно – волнуется за успех парада: то один, то другой из церковнослужителей тревожно поглядывает на помрачневшее небо, быстро заволакивающееся тучами.
– Боятся наши благочинные, – злорадно говорит Лобатый. – Хотя бы добрый дождь шпарнул на их мундиры!
– С этого дождя не бывает, – услышал вдруг Дьяконов где-то позади себя спокойный, рассудительный голос. – Сухая гроза…
Оглянулся. Какой-то крестьянин в чабанской шапке с мальчиком идет, прихрамывая, позади выстроенного полка. Оба на ходу поглядывают куда-то вверх, на клубящиеся тучи, на далекие предвечерние молнии.
Сухая гроза… Далеко на горизонте уже несколько раз полыхнуло и впрямь как-то сухо, беззвучно: пых-пых! Словно отсветы далеких небесных батарей.
Дьяконову хотелось бы знать, кто он, этот крестьянин, который прошел, прихрамывая, за их спиной. Кажется, кто-то знакомый – не Кулик ли? А может, другой кто-нибудь из тех, с которыми знался, с которыми курил, когда стоял молотобойцем в паре с Оленчуком у наковальни… При воспоминании о кузнице волна какого-то далекого тепла нахлынула на Дьяконова, и ему вдруг стало неловко, он и сам не знает отчего. По временам ему кажется, что он кого-то обманул, надул, но кого же? Не самого ли себя? Где-то там, за церковью, расположена кузница, в которой он стучал молотком прошлой весной. Быть может, именно в этом – в том, что он стоял у наковальни в восставшей Чаплинке и копался рядом с Оленчуком на его присивашском винограднике не как офицер с подчиненным, нет, а как человек с человеком! – как раз и заключалась та простая подлинная правда, которая ему еще и до сих пор видится то в одном образе, то в другом. «Продана ваша армия». Чей это голос? Оленчука? Он тогда резко возразил ему. – «Мы не от Антанты – мы сами по себе. Хотим такую жизнь завоевать, чтобы на прошлую не была похожа, да и на вашу…» И что же у него осталось от прошлых убеждений, чем вооружена сейчас его душа? «Святая Русь»? Широкая демократия, которую вождь сулил им в первые дни своего прихода к власти?
– Демократия, ха-ха! И ты веришь? – хохочет Лобатый, когда заходит об этом речь. – Штык, а не демократия! Штык и намыленные веревки для всех, кто не согласен, чтобы вождь сам думал за них!
Что же остается? Голос чести? Доблестно стоять до конца, не покидая борта гибнущего «Титаника»? Во всяком случае думать о чем-то другом, искать чего-то другого сейчас уже, видимо, поздно…
– Р-р-равняйсъ!
Пружиной вскинулось тело.
Замерли выстроенные полки.
По дороге от Перекопа, растянувшись длинной лентой, мчатся автомобили. Несутся навстречу тучам пыли, навстречу взвихренной соломе и листьям, которые ветер гонит по степи прямо на них.
На полной скорости автомобили влетают в Чаплинку, пугая людей резким металлическим криком сирен. Впереди мышиного цвета «фиат» главнокомандующего. Весь кортеж машин останавливается у церкви. Дьяконов, вытянувшись, видит, как из первого автомобиля выходит главнокомандующий, за ним генералы Шатилов, Кутепов и какие-то незнакомые чины в иностранных мундирах. Из других машин выходят тоже иностранные гости, те, кого судьба вынудила наконец покинуть непробиваемые каюты своих дредноутов и всерьез заинтересоваться какими-то там Чаплипками, Каховками, Алешками… Длинный проделали путь и, изрядно наглотавшись степной пыли, не спеша утираются теперь платочками, сгрудившись у церковной паперти.
Тем, кто стоит ближе к автомобилям, слышно, как представители миссий, здороваясь с начальником дивизии, громко называют свои фамилии:
– Адмирал Мак-Келли!
– Полковник Кокс!
– Полковник Уолш!
– Капитан Вудворд!
– Майор Этьеван!
– Майор Такахаси!
И еще, и еще… Самоуверенные, держатся независимо, на лицах, в жестах выражение спокойного превосходства.
Свысока поглядывают на все окружающее: на выстроенные полки, на хоругви, на чаплинскую деревянную церквушку, которая, видимо, кажется им очень экзотической.
В душе Дьяконова поднимается какое-то недоброе чувство против этих лощеных атташе, против их элегантных, таких неуместных перед истерзанными полками мундиров и даже против их фотоаппаратов, так бесцеремонно наведенных на старые добровольческие полки. Лобатый, когда на него наводят аппарат, умышленно начинает яростно чесаться. Дьяконов понимает его: сейчас он и сам сильнее, чем когда бы то ни было, чувствует себя… ландскнехтом.
Врангель, окруженный густой толпой мундиров, русских и иностранных, направляется к аналою. Начинается молебен. Торжественные речитативы молитв то и дело нарушаются сухим щелканьем фотографических затворов. Не только иностранные корреспонденты, но и представители миссий жадно ловят на пленку то мрачно застывшие перед ними полки – «старинные русские полки!», то духовенство в живописных одеждах, то народ. Народ представлен здесь главным образом оборванной чаплинской детворой, которая, подобно воробьям, расселась на деревьях и наблюдает за церемонией оттуда, с высоты колючих чаплинских акаций.
Молебен приближается к концу, хор корниловцев поет «Многая лета», все присутствующие опускаются на колени. Дьяконов слышит, как всхлипывает у него за спиной старый корниловец Млашевский, весь в ранах ветеран полка. Дьяконову тоже тяжело, спазмы сжимают горло. Такая минута! Вся площадь будто опустела в один миг, будто полегла под саблями: все стоят на коленях, покорно склонив головы, словно перед неизбежностью своей судьбы. Слышно, как ветер лопочет в хоругвях да разрывает душу хор корниловцев своей трагической молитвой.
Представители миссий, как и все остальные, тоже стоят на коленях. Вот Мак-Келли… Вот сверкает очками в роговой оправе японец… Какая сила, какая неизбежность, будто подкосив, поставила их на колени здесь, в пыли чаплинской ярмарочной площади? «Стойте, стойте! – с болью и надрывом звучит в душе у Дьяконова какой-то недобрый внутренний голос. – Впервые стоите вы на коленях на этой несчастной, так обильно политой кровью земле…»
Когда хор стихает, откуда-то сверху, с акаций, доносится удивленно-насмешливое:
– Ванька, Ванька, посмотри на того японца: в окулярах, а не видит! Коленями в коровий кизяк угодил!
– Вот кого хотел бы я сейчас заснять в этом виде… В назидание потомкам, – едко говорит Лобатый, обращаясь к Дьяконову, который не отрываясь глядит все туда же, в сторону согбенных, склонивших колени в пыль и навоз чаплинской площади генералов и высоких гостей – представителей «ее величества Антанты».
XXII
Небо все темнеет, все ниже нависают взбаламученные темно-бурые космы туч над площадью, над вытянувшимся перед полками вождем. Чем ближе вечер, тем явственнее, тем грознее на клубящемся горизонте немые небесные вспышки.
Врангелю нравится эта торжественная церемония в бурых тучах пыли, что гонит по степи ветер, при вспышках далеких молний; импонирует вождю и этот хор мрачных корниловцев, выстроившихся для своей трагической молитвы под темным, низко нависшим небом. Вождь готов верить, что сама природа жаждет принять участие в происходящей церемонии, возводит над ним и его войсками свой грозно-величавый храм…
Врангель время от времени испытывал настоятельную потребность в парадах. Они подымали его дух, он молодел душой, когда взводы и роты проходили мимо него, печатая шаг, повернув к нему решительные, отупевшие от напряжения лица. На плац-парадах он, как нигде, верил в свою избранность, в то, что его жизненное предначертание – быть вождем. Однако на этот раз назначить в Чаплинке, в прифронтовой полосе, корниловский парад Врангеля побуждали и чисто практические мотивы. Привлечь к своим войскам внимание союзников, подстегнуть всех этих людей, от которых зависят поставки, – вот чего в первую очередь хотел достигнуть главнокомандующий своим необычным парадом. И то, что потрепанные в каховских атаках «боевые орлы» – корниловцы решили выйти на парад прямо из окопов, решили в своем неприглядном виде продефилировать перед иноземными атташе и представителями иностранной прессы, не только не встретило возражений со стороны главнокомандующего, но, наоборот, вполне отвечало его замыслам и могло только способствовать достижению поставленной цели. Чем хуже, тем лучше!
Дело в том, что в последнее время поставки военного снаряжения из-за границы заметно сократились. Причины… Главная из причин – все возрастающее международное движение протеста рабочих и докеров против военных поставок, против каких бы то ни было военных поставок в Польшу и Крым. Вся Европа бурлит. В городах возводятся баррикады. В Ирландии – красная гвардия, в Лондоне рабочие лидеры грозят в случае интервенции против Республики Советов организовать Советы в самой Англии. На Американском континенте положение осложняется еще и тем, что в Соединенных Штатах в самом разгаре предвыборная кампания – конгрессменам приходится маневрировать между двух огней… Но ведь и он, Врангель, не может ждать! Говорят, завтра. А ему не завтра, а сейчас нужны танки, побольше новых мощных танков, чтоб стереть с лица земли этот ненавистный – он может стать смертельным – каховский тет-де-пон. А ему даже для тех танков, что у него есть, не хватает газолина, и аэропланы тоже стоят без горючего, привязанные веревками в степи.
Разговоры с Мак-Келли становятся чем дальше, тем резче. Последний – накануне отъезда сюда – был уже просто нестерпим. Как уверяет глава американской миссии, рабочие Чикаго, Сиеттля и других городов, возмущенные нотой Кольби, угрожая стачками и созданием, как в Англии, «Комитетов действия», требуют, чтобы ни один патрон не был послан в белый Крым.
– А обращение к морякам всего мира не допускать перевозок оружия?! Думаете, нью-йоркские докеры остались к ним глухи? – с раздражением говорил Мак-Келли. – Они суют палки в колеса не хуже других, уверяю вас! С «Вестмаунта» уже перед самым выходом в море выгрузили назад боеприпасы, а «Истери Виктор» сможет выйти в Крым только на следующей неделе…
– А придет когда? – не сдержавшись, крикнул Врангель. – Когда меня уже разгромят?
Мак-Келли на этот выкрик только пожал плечами. Так пусть же смотрят теперь, пускай из первых рук узнают заокеанские толстосумы, в каких условиях сражается тут горстка «рыцарей белой идеи», противостоя опасности, угрожающей всем им. Глядя на свое выстроившееся словно для встречи с суровой неведомой судьбой войско, глядя на иностранцев, хозяйским глазом обозревающих его овеянные боевой славой полки, Врангель не мог спокойно думать о Мак-Келли и всех тех, что стоят за ним. «Презренные, тупые барышники! Торгуются из-за каждого патрона, из-за каждой пары сапог. А разве только для себя, разве не ради них ходят в атаки и умирают на каховских проволочных заграждениях мои доблестные воины? Так хоть вооружите же их не торгуясь, снарядите по-королевски! Жалко денег, а нашей крови не жалко? Погодите, господа! Еще, может быть, сведет вас судьба один на один с разлившимся по земле красным потопом! Не раз еще тогда вспомните меня и этот мой последний белый Арарат!»
Церемониальный марш открыла знаменитая офицерская полурота. Что это? Врангель чуть ли не вскрикнул от боли при ее приближении. Как поредела! Ведь еще недавно видел ее полностью укомплектованной, а сейчас… и это всего вас осталось для предстоящих атак?
Четко, стройными рядами проходят оборванные, нахмуренные полки. Смотрят исподлобья! Почему-то не столько на вождя, сколько на иностранных атташе, обступивших его. Проходят, словно интернированные, словно арестанты, как бы намеренно рисуясь своим запущенным видом, как бы испытывая болезненное наслаждение в том, чтобы на глазах у всех, как некогда юродивые на папертях во время великой смуты, раздирать свои раны, срывать струпья. Пускай кровоточат – глядите! Не прячем своих болячек, своей озлобленности, своего неверия и отчаяния…
– Парад обреченных, – бросает кто-то по-английски в кучке журналистов.
Врангель это слышит. Парад обреченных? Ошибаетесь, господа! Еще не все потеряно, нет! Он еще вырвется за Днепр в тылы красных, на соединение с Западом, он еще удивит мир блеском своей стратегии…
И снова слышит разговор среди журналистов об этих его славных офицерских ротах: что-то в них, дескать, есть неестественное. Нонсенс. Офицер, мол, потому и офицер, что он окружен в бою солдатами, что он в центре подчиненных. А эти бессолдатные офицерские роты, на них лежит печать чего-то трагического, какой-то обреченности… В самом деле, где же его армия? Та великая народная армия, которую он надеялся собрать здесь, в украинских степях? Украина наотрез отказала ему в этом, донские станицы тоже не откликнулись, не поднялась на зов его и Кубань… Сегодня по пути сюда он сделал страшное для себя открытие: оголенный тыл! За всю дорогу от Джанкоя до Перекопа и от Перекопа сюда не встретил живой души. А это же основная магистраль, идущая к его передовым позициям. Случись это в недавние времена, в ту войну, на такой дороге с войсками не разминуться бы: скачут, бывало, без конца вестовые, стрекочут мотоциклисты, тысячами ног пылят резервисты, новобранцы… Сейчас пусто… безлюдно за спиной его войск. Только вихрь переметнется через дорогу, да пастухи там и сям маячат в степи, но ты не их вождь, и о ни не твое войско.
Зато Красная Армия, кажется, не знает, куда девать свои пополнения. Сколько уже перебито, сколько перемолото, а они все идут и идут. Падает сотня, а родит тысячу. В чем дело? И все же, господа, унывать еще нет оснований. Вы еще увидите, что будет с красными, когда он начнет громить их тылы. В конце концов разве дело в количестве? Армии их превратятся в толпы, если пустить на них танки, с которыми они совершенно не умеют бороться…
Через площадь уже идет на рысях кавалерия, любимая его кавалерия, что ходит в атаки, как на праздник, – с папиросой в зубах. Придерживаясь традиции, она и сейчас мчится через площадь, сжав в зубах папиросы, лихо распустив чубы, только почему же в глазах всадников вместо веселья и удали какая-то тяжелая, злобная муть?
– А где броневики? – подойдя к Врангелю, холодно осведомляется полковник Кокс, недавно прибывший из Соединенных Штатов.
– Какие броневики? – делает удивленный вид Врангель, хотя он ждал этого вопроса.
– Я имею в виду те броневики, которые вместе с конницей участвовали в штурме каховских укреплений. Или, может быть, их успели уже растерять?
Дивизия действительно имела на вооружении немало броневиков, но их, как и артиллерию, корниловские командиры с согласия главнокомандующего нарочно решили на парад не выводить. В их расчеты совсем не входило показывать здесь самое ценное, чем снарядили их союзники. Наоборот, чем хуже, тем лучше!
– Броневики ремонтируются, – сдержанно ответил американцу Врангель. – Сегодня вы их не увидите, как не увидите и тех давно обещанных танков, которых мы так терпеливо ждем.
– Танки будут, – сухо заверил полковник. – Были бы экипажи.
Для завершения парада иноземным гостям был приготовлен сюрприз – джигитовка с «умыканием» казаками девушки-невесты.
Чаплинские оборвыши, еще выше взобравшиеся на деревья, чтобы увидеть все, вдруг закричали на всю площадь:
– Девчат везут! Наталку, Гаркушину наймичку! И тех, что за частушки в холодной сидели.
– Вон казаки уже ставят их в хоровод!
Нервно защелкали фотоаппараты. Казаки-джигиты, мчась, на полном скаку подлетают к построенным в хоровод девчатам, и вот уже один из них, перегнувшись, на скаку выхватывает девушку из круга и мчится с ней дальше, куда-то в степь.
– Наталку схватил! – кричат с деревьев ребята. – В кучугуры помчался!
За похитителем с диким гиком и свистом понеслась, стреляя в небо, погоня. А вслед им – и похитителю, и похищенной, и погоне – в полном восторге стреляли фотоаппаратом иностранцы, стреляли до тех пор, пока казаки не скрылись в потемневшей, затянутой пылью степи.
XXIII
Плацдарм жил своей жизнью: строили, совершенствовали линию обороны, учились.
Воспользовавшись передышкой, красноармейцы добровольно вызвались помочь крестьянам быстрей убрать урожай, из-за непрестанных обстрелов так и неприбранный и дожидавшийся дождей в копнах, разбросанных по полям плацдарма.
– Все на субботник помощи землеробу!
И вот уже видишь латыша высоко на возу, старательно укладывающего снопы, видишь сибиряков, которые подают ему, подцепив на вилы, сразу чуть ли не полкопны, видишь, как какой-нибудь горожанин, смеясь, везет скособоченную, криво наложенную арбу, а целый взвод красноармейцев, окружив ее, дружно поддерживает хлеб плечами. Всюду по дворам, по околицам Каховки, Большой и Малой, вершат вдовам стога, на токах гупают цепы, среди молотильщиков на коленях в свежесбитой соломе опять-таки красноармейцы, и вот уже дядько-селянин, подозвав своего молодого напарника, какого-нибудь металлиста или рудокопа, сроду не державшего цепа в руках, неторопливо растолковывает ему, как надо этим инструментом орудовать, чтоб попадать по снопу, а не дядьку по лбу.
Дождалась помощи и та молодица, что в первые дни строительства плацдарма все носила хлопцам холодный квас и, приняв тогда Левка Цымбала за латыша, почему-то выделила его среди всех прочих. Дусей звали эту молодицу. И вот для этой Дуси в одну из ночей Цымбалу и Яресько выпало возить снопы. Копны ее стояли далеко в степи, и днем это место все время простреливалось; даже ночью подъезжать туда было не совсем безопасно. На их счастье, ночь была темная и ветреная, с запоздалым громом и зарницами с вечера. Ожидали, что ветер нагонит дождь, а его так и не было, только вихри сухой пыли носились по степи.
В такую ночь за шумом ветра врагу не слышно было ни дробного постукивания колес, ни храпа коней, и можно было, подъехав незамеченными, вытащить копну у врангелевцев из-под самого носа.
Снопы на возу укладывал Данько, Левко с Дусей подавали. Много не накладывали, так как ветер рвал солому, и Дуся боялась, что как налетит, как ударит, так и воз перевернет.
За первую половину ночи успели сделать две ходки, и все пока было в порядке, если не считать того, что порывами ветра несколько раз подымало у Дуси юбку, и Левко, глядя на эти ветровы проказы, хохотал на всю степь. А уже после полуночи в степи заметно посветлело – верно, месяц за тучами поднялся, – и стало все виднее.
Однако не возвращаться же было назад… Только остановили они воз у копны и стали накладывать, как вдруг где-то совсем близко в степи дробно застучал пулемет, джикнула в воздухе пуля, вторая, третья… Шальные или в самом деле заметили и стреляют по ним? Во всяком случае, пришлось остановить работу и переждать. Все трое примостились тут же, под копной: Яресько с одной стороны, Левко с Дусей – с другой, за снопом. Они же придерживали за вожжи и лошадей, чтоб, испугавшись, случаем не ускакали.
Стрельба вспыхивала то в одном, то в другом месте. Несмотря на поздний час, Данько знал: тысячи людей сейчас не спят, застыли у пулеметов, лежат в дозорах, прислушиваясь сквозь звон сухих стеблей, не дрожит ли у Перекопа земля под тяжестью этих таинственных новых чудовищ – танков, которые беляки все грозятся пустить на плацдарм… Шумит ветер, теребя на возу снопы, а небо все в летящих облаках, то сизых, то почти голубых – сквозь них все сильнее просачивается свет луны, угадываемый где-то там, за ними…
Из-за снопа до Яресько явственно доносится взволнованный, страстный шепот Дуси, которая, обрадовавшись, как видно, перестрелке, решила сама наконец открыться Левку в своих чувствах. Даньку нравится этот рвущийся наружу жаркий огонь женского сердца, эта пылкая смелость любви, с какой молодица тянется к своему избраннику.
– Отпросился бы ты у командира, пришел бы ко мне хоть ка часочек, – почти песней звучит ее полушепот там, за снопом. – Я б тебе и голову помыла, и чуб твой расчесала бы, замараха ты мой хороший!
Слышно, как Левко довольным баском возражает: медведь, мол, никогда не умывается, а здоров…
Она смеется:
– Придвигайся поближе ко мне.
– Так я уже близко.
– Еще ближе!
– Ха-ха! А не боишься, как обниму?
– Обнимай!
Увлеченные друг другом, они, должно быть, совсем уже забыли о Даньке, обо всем окружающем, не слышат, как постреливают белые. Шутят, смеются, играют, как дети. «Обними меня, обними!» – слышен ее бесстыдный, жадный и радостный голос, и тело ее, кажется, пышет огнем сквозь снопы; вслед за возней сочный звук поцелуев, обрывающийся возгласом Левка: «Т-пру, дьяволы!» Это он на лошадей, которые никак не привыкнут к стрельбе и, пугаясь, то и дело дергают вожжи, мешая им целоваться.
Теперь влюбленные уже договариваются о будущем. Только белякам крышка – так и поженятся. Дуся готова бы и сейчас, не откладывая ни на день, однако Левко бубнит, не соглашаясь:
– Пока Перекоп не будет наш, ты и не думай. А то мировой пролетариат мне этого не простит.
– Простит, простит, – смеется она.
И снова трещат снопы, играют, борются, резвятся, вся копна ходуном ходит не так от ветра и бури, как от их возни, и опять все завершается звуком поцелуев, и опять лошади, пугливо дергая вожжи при посвистывании пуль, не дают им доцеловаться.
Нестерпимо сладко слушать Даньку, как они блаженно безумствуют, слышать их влюбленный шепот, смех, возню, и особенно это жаркое: «Обними, обними!» Нестерпимо, а в то же время слушал бы и слушал без конца эту буйную радость чужой любви, слушал бы, как прекрасную песню, под которую и своя любовь становится еще дороже, еще желаннее… Где Наталка? Кажется, встал бы и сквозь посвист пуль, сквозь колючую проволоку и окопы, сквозь вражеские заставы пошел и пошел бы разыскивать ее, свою синеокую… Ночь гудит ветром, тучи над степью летят, сквозь их клубящиеся седые пласты луне никак не пробиться. И так же, как луна, что только угадывается за тучами, чудится Даньку где-то там и Наталка и кажется иногда, что вот она уже выплыла из светлой бездны и, на какой-то миг застыв, улыбается ему оттуда.








