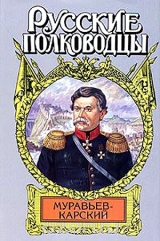
Текст книги "Судьба генерала"
Автор книги: Олег Капустин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 36 страниц)
Во второй половине марта этого года семья Муравьёвых жила в Сырцах, родовой вотчине Николая Николаевича старшего, собираясь, правда, в ближайшее время переехать в Москву, к отчиму отца князю Урусову, в его огромный дом на Большой Дмитровке. Время это было необыкновенное. Все ждали чего-то нового и непременно хорошего от молодого царя. Возбуждение взрослых передалось и детям. Поэтому шестилетний Николушка очень внимательно вслушивался во всё, что говорили взрослые, но, конечно, многое понять не мог. И как-то раз он играл в кабинете отца с многочисленными коробками из-под английского табака. Его отец, Николай Николаевич, был заядлый курильщик. Николушка построил целую стенку под большим письменным столом на ковре и улёгся за ней уморившись, дело было после обеда. Мальчик и не заметил, как заснул. Проснулся, услышав голоса. Это говорили отец и гость, дальний родственник Иван Матвеевич Муравьёв-Апостол. Сорокалетний дипломат, вице-канцлер Коллегии иностранных дел, он был птицей высокого полёта в высших сферах тогдашней власти. И сейчас он, потягивая такую приятную послеобеденную сигару, о чём-то солидно повествовал. Иван Матвеевич любил поговорить, а уж рассказать он много чего мог жившему из-за расстройства имущественных дел в деревенской глуши, хотя и неподалёку от Петербурга, предводителю дворянства Лужского уезда, тридцатитрёхлетнему отставному гусарскому подполковнику.
– Ну и что же император? – с придыханием спрашивал Николай Николаевич.
Николушке показалось странным, что обычно такой уверенный и звонкий голос отца звучит так взволнованно-приглушённо, словно он говорит через платок, приложенный к губам. Мальчик прислушался.
– Да он спрятался за ширмой, этот ирод, перепуганный до смерти. Как издеваться над людьми безнаказанно, так герой, а как за него самого принялись, так в штаны наложил, – негромко ответил Иван Матвеевич.
«Ирод?» – удивлённо подумал Николушка.
Совсем недавно, дело было на Святках, он смотрел вертепный кукольный спектакль. К ним в усадьбу приходили комедианты с домиком, разделённым на два яруса. На верхнем, оклеенном голубой бумагой, изображалась пещера с домашними животными, яслями и младенцем, а нижний – малиновый, там представляли царя Ирода, восседающего на троне и дающего зверские приказания об убийстве младенцев. Мальчик вдруг представил этого изверга в треуголке, с курносым носом, он хорошо запомнил внешность Павла со времени встречи в Летнем саду.
– Ну так кто же его порешил-то? – хрипло спросил Николай Николаевич. Отец Николушки терпеть не мог Павла, переведшего его из Балтийского военно-морского флота в гусарский полк на юг Украины. Этим сумасбродным решением он поломал старшему Муравьёву всю так хорошо складывающуюся флотскую карьеру.
– Поговаривают, что измайловец штабс-капитан Скарятин своим шарфом придушил ирода, но это дело тёмное, на него накинулось их столько! Там были и полковник Яшвиль, и майор Татаринов, и Горданов, – в общем, крепко он насолил гвардейцам, отвели они той ночью душу. Кто-то саданул ему ещё по виску табакеркой...
– Ужас! Хотя я и не любил покойного, но, честно говоря, я ему не желал такого конца.
– Да чёрт с ним, – заключил спокойно Иван Матвеевич. – Теперь надо думать о будущем, а не о прошлом. Я ведь, как ты знаешь, с Паниным конституцию составил, Александр Павлович-то обещал её подписать, но сейчас что-то не торопится император выполнять свои обещания...
Николушка уже ничего не мог понять, о чём это толковали взрослые. Он закрыл глаза и снова представил, как Ирод в треуголке и с курносым носом отдаёт приказание избить младенцев, а потом вдруг рядом с ним появляются офицеры в красивых гвардейских мундирах и начинают его лупцевать, один из них бьёт его по виску табакеркой, а потом другой набрасывает на него шарф с серебряными нитями, что носят обмотав вокруг пояса парадных мундиров, и душит.
– Так ему и надо, так ему и надо, злодею этакому, – бормочет себе под нос мальчик, которому страшно не понравился тот дядька в Летнем саду, и снова засыпает. Когда проснулся, то никого в кабинете уже не было. Он услышал, как по комнатам ходит горничная и зовёт его чай пить. Николушка вылез из-под стола, разбросав пёстрые коробки от табака, и кинулся в столовую.
– Ты где был, родимый? – спросила его мама, сидевшая, по русскому обычаю, у самовара и разливавшая чай гостям в голубые фарфоровые чашки.
– Я спал и сон видел! – громко выкрикнул Николушка, садясь на свой высокий детский стульчик.
– О чём сон-то?– улыбаясь задал вопрос отец, принимая от жены чашку с чаем.
– О царе Ироде, о том, как его убили гвардейцы, табакеркой врезали, а потом шарфом придушили. И поделом ему, не будет, гад, младенцев убивать.
Рука отца вздрогнула, расплёскивая чай на блюдечко и на белую камчатную скатерть; он внимательно посмотрел на сына, а тот уже обращался деловито к матери:
– Мама, мне побольше клубничного варенья, оно вкусное!
Николай Николаевич переглянулся с Иван Матвеичем. Гость изумлённо и даже чуть испуганно покачал головой.
– Да, кстати, слышали новость? – громко проговорил Иван Матвеевич, переводя разговор в другое русло, – наш родственник Николай Саблуков сейчас охраняет императрицу-мать, Марию Фёдоровну, но в недавней нашей беседе признался мне, что хочет в ближайшее время оставить службу и уехать вообще из страны.
– Куда же он собрался? – спросила Александра Михайловна, ставя перед Николушкой розетку, полную его любимого варенья.
– Кажется, в Англию, – ответил небрежно дипломат. – А другой твой двоюродный брат, – обратился он к Николаю Николаевичу, – Александр Волков, поручик Преображенского полка, пошёл в гору: получил чин капитана и флигель-адъютанта. Он в ту роковую ночь был со своими солдатами во внутренних покоях императрицы Марии Фёдоровны. Она его теперь особо выделяет и покровительствует ему.
Отец Николушки улыбнулся, вспомнил свой разговор в Летнем саду с двоюродными братьями. «Слава богу, что мой совет пошёл обоим на пользу», – подумал, вдыхая тонкий аромат китайского чая, который пил из полупрозрачной фарфоровой чашки.
А на другом конце Европы в дворце Тюильри в Париже в этот же самый час первый консул обсуждал с министром иностранных дел внешнеполитическую ситуацию.
– Теперь эти подлые английские лавочники могут торжествовать, чёрт их всех побери. Они промахнулись по мне на улице Сан-Никез, но попали в Петербурге. Мерзавцы сорвали такой грандиозный план! Ведь Индия была у нас в руках.
– Лучше синица в руках, чем журавль в небе, – проговорил наставительно Талейран, поправляя густые светло-русые волосы. – Теперь нам нужно думать о скорейшем мире с этими лавочниками. Причём, как мне подсказывает чутьё, мы можем его подписать на выгодных прежде всего нам условиях. Мои агенты из Англии доносят, что новый кабинет Аддингтона желает перемирия с нами, как манны небесной. И знаете кого прочат нам в послы? Лорда Уитворта.
– Вот сволочи! – зарычал Наполеон. – Они что, хотят и мне устроить апоплексический удар? Не выйдет! Я всё-таки своего добьюсь, поставлю Европу на колени, доберусь до этой русской лисицы Александра и не мытьём, так катаньем заставлю его вступить, как его покойного отца, в союз со мной, и мы всё-таки пойдём с казаками в поход на Индию. Ради этого я готов даже сначала завоевать Петербург или Москву.
– Этого человека ничего не исправит, – пробормотал себе под нос, брезгливо морщась, Талейран. – На этой бредовой идее он и сломает себе шею.
– Чего это вы там ворчите, Талейран? – спросил министра, подозрительно прищурившись, Наполеон.
– Да так, нога что-то ноет – наверно, к непогоде, Ваше Величество, – любезно улыбаясь, ответил старая лиса.
– Ваше Величество? – удивлённо взглянул на него первый консул. – Вы что, произвели меня в императоры?
– Ну, за этим дело не станет, – ответил с поклоном коварный дипломат, – благодарное Отечество скоро само поднесёт вам этот титул. А я тем временем пойду составлять послание английскому правительству с предложением мира. Надеюсь, завтра я ещё вас застану в Тюильри, чтобы согласовать все формулировки наших предложений англичанам, вы, надеюсь, не успеете отправиться в ваш Индийский поход?
Попрощавшись, министр, хромая, заковылял к двери.
– Вот змея, – теперь уже Наполеон ворчал себе под нос, – но я и его заставлю поверить в реальность всех моих планов. Для этого я просто их осуществлю!
Великий полководец был верен себе. Миллионам и миллионам людей придётся пожертвовать своим счастьем, а многим и жизнями, добиваясь их осуществления или противоборствуя этим планам. И среди них будет и Николенька Муравьёв, который через десять лет волею судьбы окажется втянутым в эти водовороты всемирно-исторической схватки за обладание контроля над миром, длившейся весь девятнадцатый век и приведшей в конце концов к чудовищным катаклизмам уже века двадцатого.
Часть вторая
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 года
ГЛАВА 1
1 морозное раннее мартовское утро, когда на улицах и площадях Петербурга всё ещё тускло горели, поскрипывая и покачиваясь на невысоких столбах, заправленные конопляным маслом фонари, слабо освещавшие желтовато-жидким светом мостовые, припорошённые ещё не вытоптанным снежком, Кушелев дом, вот уже больше полувека стоящий на Дворцовой площади напротив Зимнего дворца, ещё спал чутким старческим сном, темнея чёрными глазницами узких и высоких окон. После того как восемь лет назад сгорел помещавшийся здесь Немецкий театр, дом был перестроен и перешёл в ведение Свиты Его Величества, или Главного штаба. И теперь вместо актёров и актрис в напудренных париках по его длинным полутёмным коридорам гулко шагают в подкованных сапогах офицеры-квартирмейстеры и колонновожатые. В большой чертёжной здесь создаются подробнейшие карты Российской империи, за которые готовы отвалить изрядные мешочки с золотом агенты Наполеона, обитающие, кстати, неподалёку на Дворцовой набережной в просторном здании французского посольства. Но не так просто проникнуть в этот дом, где царствует князь Пётр Михайлович Волконский, главный квартирмейстер русской армии. У парадного подъезда стоит часовой. Вот и сейчас он мерным шагом проходит перед длинным фасадом здания. Штык на его ружье, закинутом на плечо, тускло поблескивает, когда солдат вступает в круг жёлтого фонарного света.
морозное раннее мартовское утро, когда на улицах и площадях Петербурга всё ещё тускло горели, поскрипывая и покачиваясь на невысоких столбах, заправленные конопляным маслом фонари, слабо освещавшие желтовато-жидким светом мостовые, припорошённые ещё не вытоптанным снежком, Кушелев дом, вот уже больше полувека стоящий на Дворцовой площади напротив Зимнего дворца, ещё спал чутким старческим сном, темнея чёрными глазницами узких и высоких окон. После того как восемь лет назад сгорел помещавшийся здесь Немецкий театр, дом был перестроен и перешёл в ведение Свиты Его Величества, или Главного штаба. И теперь вместо актёров и актрис в напудренных париках по его длинным полутёмным коридорам гулко шагают в подкованных сапогах офицеры-квартирмейстеры и колонновожатые. В большой чертёжной здесь создаются подробнейшие карты Российской империи, за которые готовы отвалить изрядные мешочки с золотом агенты Наполеона, обитающие, кстати, неподалёку на Дворцовой набережной в просторном здании французского посольства. Но не так просто проникнуть в этот дом, где царствует князь Пётр Михайлович Волконский, главный квартирмейстер русской армии. У парадного подъезда стоит часовой. Вот и сейчас он мерным шагом проходит перед длинным фасадом здания. Штык на его ружье, закинутом на плечо, тускло поблескивает, когда солдат вступает в круг жёлтого фонарного света.
А в доме тишина. Только изредка поскрипывают старые деревянные перекрытия да в офицерских квартирах на верхних этажах потрескивают бог знает как сюда попавшие сверчки, устроившиеся, по своему обыкновению, в щёлках поближе к печкам, выложенным голубой кафельной плиткой. В одной из этих казённых квартир и открыл глаза ранним мартовским утром молоденький прапорщик Николай Муравьёв. Было ещё темно. Прямоугольник окна чернел, не закрытый гардинами, и только призрачные тени иногда виделись в нём. Это отражались от свежего снега блики фонарей на площади. Николай ещё не проснулся до конца, и, находясь в этом странном состоянии на грани сна и бодрствования, он вдруг почувствовал себя маленьким мальчиком и увидел, даже скорее ощутил, как над ним склоняется мать и гладит его по головке, приговаривая: «Вставай, Николушка, вставай, засоня». Её мягкие белокурые кудри касаются его щёк, и слышится запах духов, которыми душилась только мама. Вот уже три года, как её нет в живых, а Николушка никак не привыкнет к этому. Он вспоминает акацию над могилой мамы в Девичьем монастыре в Москве, и слёзы наворачиваются на глаза. Хотя юноша и считает себя взрослым, но ведь ему только семнадцать лет, и так тоскливо в этом холодном, казённом Петербурге, и хочется домой в Москву, в тёплый дом на Большой Дмитровке, где живёт его дружная семья. Правда, без мамы это только разбитые осколки семьи, их никак не может склеить отец, Николай Николаевич Муравьёв, подполковник в отставке, радушный, весёлый, говорливый, талантливый, но и безалаберный, и вспыльчивый, и немного непутёвый, любящий хорошо пожить, – в общем, типичный московский барин, хотя и родился и вырос в Петербурге, но пришедшийся ко двору именно в хлебосольной, широкой, такой же безалаберной и непутёвой Москве, являющейся полной противоположностью деловой, чопорной, затянутой в мундир столицы на Неве.
Хорошо, что братья живут с ним в этой квартире, а то бы совсем волком можно было бы завыть. Вот они рядом на кроватях продолжают ещё досматривать сны, такие сладкие в это морозное, седое от инея и тумана утро. Они тоже офицеры квартирмейстерской части. Старший, Александр, уже подпоручик, спал, вытянувшись во весь немалый рост, закинув голову назад. Рядом с его кроватью валялась книга, а на тумбочке у изголовья виднелся подсвечник с полностью догоревшей свечкой. Улыбнувшись, Николай поднял с пола солидный, в обложке из телячьей кожи, с золотым тиснением томик. Ему и не надо было читать его название, и так знал, что это, конечно, масонский труд, повествующий о сложных таинственных обрядах и заумной философии вольных каменщиков[8]8
Вольные каменщики – масоны.
[Закрыть]. А в кровати у окна посапывал, свернувшись калачиком, младший брат, Мишка. У него на тумбочке у изголовья, конечно, лежал деревянный макет топографического прибора, который он сам изобрёл. Лучший математик в семье, где, начиная с деда, Николая Ерофеевича Муравьёва, генерал-инженера, создателя первой русской алгебры и сенатора в век Екатерины, все мужчины отлично знают математическую науку; этот большеголовый парнишка умудрился, на удивление старшим братьям и отцу, в четырнадцать лет создать первое в России Математическое общество, перевести несколько книг известных математиков с французского и немецкого, да ещё и сам преподавал в нём высшую математику в таком объёме, который был недоступен ещё даже для московского университета. И в Петербурге, поступив в квартирмейстерскую службу вслед за старшими братьями, заменил Николая, тот около года преподавал математику в школе колонновожатых и исполнял обязанности дежурного надзирателя.
Николай поправил одеяло на юном учёном и подошёл к окну. Через площадь напротив высился Зимний дворец. Несмотря на ранний час, там уже во многих окнах можно было увидеть неровное мерцание свечей, к подъездам подъезжали и уезжали сани с фельдъегерями, прислугой, по огромной крыше дворца уже сновали мужики в валенках и с деревянными лопатами – счищали только что выпавший снег. Николаю нравилось наблюдать за жизнью, кипевшей почти круглые сутки на площади. Он смотрел на огромные роскошные чертоги российских императоров, и смутные и страшные, но такие притягательные романтические слухи и предания, как живые, вставали перед его взором. Представлял себе, что и царь Александр Павлович вот также смотрит сейчас на площадь, на Кушелев дом, носящий имя давно уже почившего адмирала, первого его хозяина, и тоже о чём-то мечтает. Интересно, о чём думается заложнику абсолютной власти, наследнику одновременно великого и злополучного рода Романовых, принёсшего и себе, и России столько славы и горя? И может ли вообще сладко спаться человеку, который одиннадцать лет назад вынужден был самой судьбой перешагнуть через труп полусумасшедшего родителя и сесть на престол, сопровождаемый убийцами с ещё не смытой кровью на руках? Юному романтику вдруг стало не по себе, словно и в самом деле на него был направлен тоскливый и ужасный взор страдающего властелина, вынужденного до конца своих дней нести бремя вины за те роковые шаги, которые творят историю, но уродуют и разрушают человеческую личность.
2Как ни странно, но именно в это время царь, проходя по анфиладе залов второго этажа, остановился и стал вглядываться в ещё утопающую в темноте площадь.
Подняв глаза, увидел, как в большом Кушелевом доме напротив появился мерцающий свет в одном из верхних окон. Это Николай зажёг свечу.
– И там тоже проснулась ранняя пташка, как и я, – пробормотал по-французски император. – Интересно, какие заботы заставили и её так рано встать?
Сам он эту ночь почти не спал. Да и разве можно было заснуть, когда так тоскливо воет ветер в печных трубах и только задремлешь, как чувствуешь холодную руку генерала-заговорщика, который трясёт тебя за плечо и, склонив над тобой мертвенно-бледное лицо, повторяет настойчиво, как в ту злополучную мартовскую ночь, когда законный и преступный одновременно наследник престола, содрогаясь, втиснулся в кресло, не в силах и слова произнести дрожащими, побелевшими губами:
– Извольте царствовать, государь! Да извольте же царствовать, чёрт вас побери! – Генерал брезгливо поглядывал на цесаревича, которому только что поднёс корону окровавленными руками.
А потом вдруг оказывается, что это никакой не генерал, а отец склонил над ним курносую клоунскую физиономию и с какой-то мерзкой ухмылкой повторяет:
– Изволь царствовать, сынок! Изволь же царствовать!
И не поймёшь, то ли он дико хохочет, то ли рыдает. Открываешь глаза и слышишь: это воет мартовская вьюга где-то в трубе – наверно, пьяный служитель забыл закрыть вьюшку. Ты вскакиваешь весь в поту, подбегаешь босиком по холодному паркету к окну, откидываешь гардину и прижимаешься к ледяному стеклу. Спасительный холод остужает горячий лоб. Успокаиваешься, поглядывая на площадь, по которой, чтобы согреться, марширует, как на параде, рослый гвардеец, но вдруг сквозь туман твоего дыхания, оседающий на стекле полупрозрачными, медленно стекающими слезами, ты видишь, как солдат оборачивается, и на тебя вновь издевательски взирает сумасшедшее курносое лицо и слышатся слова, как ядом пропитанные злобной иронией:
– Изволь царствовать, сынок! Изволь...
Порыв тоскливо завывающей вьюги заглушает его слова. Фигура гвардейца расплывается, и то ли ветер уносит её, то ли он сам шагает, высоко вытягивая носки, куда-то вдаль мимо Кушелева дома, растворяясь во мгле. А на шее у него развевается белый офицерский шарф, страшное и неотвязное видение орудия убийства. И сквозь вьюгу всё глуше и глуше доносятся слова:
– Изволь царствовать, сынок, изволь... изволь... изволь...
И вдобавок ко всем этим жутким видениям, рвущим душу и ставшим такими привычными, словно глухая боль в застуженных суставах, тебе каждый день докладывают о приготовлениях Наполеона к войне с Россией. Вчера удручённый император с чёрными мешками под глазами долго беседовал с прибывшим из Парижа флигель-адъютантом, полковником Чернышовым. Он привёз надменное послание императора Франции. Бонапарт нагло грозил войной, если Россия не будет строго придерживаться континентальной блокады Англии.
– Господи, это мне, царю всея Руси, императору российскому, угрожает какая-то корсиканская рвань! – Александр судорожно сжал кулаки. Холёные ногти впились в мягкие ладони.
Но документы, которые Чернышов сумел выкрасть через своих агентов во французском Военном министерстве, говорили ясно, что Наполеон уже давно и бесповоротно решил напасть на Россию и будет царь соблюдать блокаду или нет – это, по сути дела, ничего не изменит. Александр Павлович отлично знал о всех приготовлениях коварного корсиканца. Военный министр Барклай де Толли и главный квартирмейстер князь Волконский докладывали ему почти каждый день о численности и месте дислокации каждого французского корпуса, о малейшем изменении в стане врага. Царь не просто знал – всей своей нежной кожей чувствовал, как каждый день французский удав подползает к границе всё ближе и ближе, свёртывает вдоль неё мощные кольца в виде корпусов, дивизий, бригад, полков, чтобы в один страшный день мгновенно кинуться на Россию, на самого Александра Павловича и задушить страну и императора в этих жутких объятиях. Было от чего мучиться бессонницей. А царь последнее время почти не спал. Ему не помогало ничего: ни снотворное, ни вино, ни женщины. Так можно было сойти с ума. И впервые это удушье, это жуткое состояние жалкого кролика перед огромным удавом почувствовал император, когда обнялся с этим маленьким, полненьким человечком в простом мундире французского генерала. Это произошло пять лет назад на плоту на Немане в Тильзите, когда он встретился с корсиканским чудовищем и прилюдно назвал его, к своему позору, императором и своим братом.
– И что же мне делать, что? – барабанил Александр Павлович по стеклу острыми, покрытыми бесцветным лаком ногтями.
Этот вопрос задавал и себе, и своим советникам все годы после Тильзита, после своего унижения там, на плоту. И никто не мог ответить членораздельно и убедительно на этот вопрос. Предлагали чёрт знает что! Один отъявленный фанатик военного дела, известный теоретик, прусский генерал – создать укреплённый лагерь в Литве и засесть там с основными силами армии, обороняясь от Наполеона. Другие – заманить французскую армию в глубь страны и ждать морозов. Находились и такие, кто рубил правду-матку в глаза царю-батюшке, как генерал от инфантерии Багратион. Он, сердито пофыркивая своим огромным носом, словно породистый жеребец, сказал как отрезал, показывая волосатой пятерней на огромной карте расположение французских корпусов у российских границ:
– Неприятель, собранный на разных пунктах, есть сущая сволочь. Прикажи, Ваше Величество, помолясь Богу, наступать... Военная система, по-моему, лучшая та, при которой кто рано встал и палку в руки взял, тот и капрал.
Даже от воспоминаний обо всех этих советах у императора дыбом вставали золотисто-рыжеватые волосы, обычно красиво обрамлявшие солидную лысину. Александр Павлович посмотрел на себя в зеркало, висевшее между окнами. В свете свечей, которые держал на серебряном шандале рядом стоящий лакей, отражение округло-изящного облика императора, этого первого обольстителя своего времени, приобрело какой-то странный мерцающе-завораживающий вид, как на старинной картине: лицо мертвенно-бледное, волосы взъерошены, глаза горят каким-то таинственным, мрачным огнём.
– Это чёрт знает что! Я уже стал похож на злодея из готического романа ужасов Анны Радклиф, – сказал вслух и рассмеялся.
Но неестественный смех отозвался таким жутким в этой пустой зале эхом, что даже ко всему привыкший и вышколенный до положения автомата лакей вздрогнул. Свечи в его руке задрожали, одна из них погасла.
– Нет, этот Буонапарте за всё ответит, ублюдок! Он превратил меня в какого-то неврастеника с трясущимися, липкими руками. Из-за этой постоянной нервотрёпки у меня волосы вылезают, словно с задницы шелудивого пса! Меня уже женщины почти не интересуют! – взвизгнул Александр Павлович и испуганно обернулся: не слышал ли кто этого признания? Но кроме лакея, слава богу, рядом никого не было.
Да, последнего император простить этому негодяю с претензиями Александра Македонского никак не мог, ибо любовь считал главной сладостью земного существования, и если уж отказывать себе в этом, то зачем, спрашивается, жить? Чтобы подписывать бумаги да принимать парады? И тут в воображении возникла картина действа, дававшего ему не меньшее наслаждение, чем сладостные дары Эроса. Он представил, как мимо него, мерно шагая, проходят построенные в шеренги молодцы, одетые в щегольские мундиры, как восхитительно ясно, ритмично звучит этот чётко отбиваемый шаг целых рот и батальонов, как будоражит кровь музыка полковых оркестров... Измождённое лицо Александра Павловича вдруг расплылось в блаженной улыбке. Ведь ему сегодня предстоит инспектировать свой любимый Семёновский полк перед отправкой его в поход к западной границе. Да, императора ожидало просто пиршество его солдафонской души, взращённой под дробь барабанов в Гатчинском дворце отца. Чего-чего, а любить и ценить во всех многообразных оттенках поэзию фрунта научил его сумасбродный папаша, страстный приверженец прусского милитаризма, особенно его внешних форм, так пышно выражающихся в парадомании. Уж в этом-то он знал толк! И – о, чудо! – император зевнул, ему захотелось спать. Взглянув на стоящие неподалёку большие немецкие часы с какими-то рыцарями над циферблатом, прикинул, что вполне ещё успеет выспаться до инспекции полка, а Военный совет, назначенный на ранний утренний час, просто пошлёт к чёрту, надоело ему строить из себя стратега, всё равно, если сказать честно, ни черта в этом не разбирается, пусть Барклай, военный министр, и переливает из пустого в порожнее, а уж император займётся делом, которое любит и которое действительно знает. И Александр Павлович быстрым шагом направился в спальню.
– О боже, как же иногда просто разрешаются сложнейшие проблемы, – бормотал себе под нос император. – Не берись решать то, в чём ты ни ухом ни рылом не смыслишь! Дай поработать специалистам. А сам займись тем, что можешь. И предоставь остальное – и судьбу империи, и свою собственную – в руки Божьего промысла... Вот пусть Боженька голову и ломает, что ему с этим корсиканцем делать! – закончил размышления такой богохульной мыслью довольный собой Александр Павлович, сбросил халат в руки лакея и бухнулся в постель. О, какое это было наслаждение просто, беззаботно завалиться спать, а там пусть весь мир катится в тартарары!







