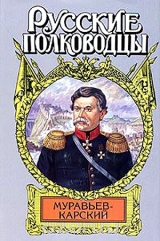
Текст книги "Судьба генерала"
Автор книги: Олег Капустин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц)
Николай, печально свесив голову, поехал в Главную квартиру. Его поразила эта неожиданная и такая страшная смерть молодого красавца генерала. Прапорщик пересёк Семёновский овраг и выехал в тыл 7-го пехотного корпуса, которым командовал генерал-лейтенант Раевский. И тут неожиданно встретил генерала Алексея Петровича Ермолова, поспешно направляющегося на левый фланг. С ним были две конноартиллерийские роты и командующий артиллерией всей армии граф Кутайсов. Николай доложил о событиях на Семёновских флешах.
– Ну, слава богу, – вздохнул Ермолов, – а мы уж с главнокомандующим думали, что наш левый фланг смят. Теперь можно и не спешить так, – махнул он рукой артиллеристам.
Но тут его внимание привлекла горсточка солдат, выбежавших из-за рощицы.
– Вы кто такие?
– Из Орловского полка мы, двадцать седьмой дивизии, ваше превосходительство, – ответил седовласый солдат без кивера, с перевязанной головой. – Француз там нашу батарею Раевского взял и сюда прёт.
– А вы, значит, убегаете от него? – вскинул брови генерал.
– Мы свой манёвр осуществляем, – проговорил бойкий молодой рыжеволосый солдат из-за спин товарищей и, явно испугавшись своих нахальных слов, вжал голову в плечи и спрятался за высокого артиллериста в полуразорванном, прожжённом мундире.
Все ожидали, что грозный генерал закричит на нахальное замечание солдатика, но Ермолов улыбнулся широкой улыбкой и проговорил, подмигивая:
– А теперь мы будем вместе осуществлять, но уже не ваш манёвр подальше в тыл, а мой – наоборот, вон туда, – показал он на виднеющуюся за рощицей верхушку только что потерянной русскими войсками высоты в самом центре своих позиций. – Кругом, за мной шагом марш, – приказал генерал и поскакал к Курганной высоте.
Когда Николай вслед за генералом обогнул рощу, он увидел печальное зрелище. Нестройные толпы солдат в зелёных мундирах отступали от укреплённого холма, прозванного уже во всей русской армии батареей Раевского. Французы же назвали его мрачно-торжественно – «Редутом смерти». Среди этих покрытых пороховой копотью, грязью окопов и пылью дорог угрюмых вояк бился как рыба об лёд маленького роста пехотный генерал. Это был начальник 26-й пехотной дивизии генерал Паскевич. Он пытался остановить своих бойцов, но ему это не удавалось. И, боже мой, в каком он был виде! Николай запомнил его по бою у стен Смоленска. Там он шёл в атаку в белоснежных перчатках, с сигарой в зубах, в отутюженном мундире. Сейчас же был без шляпы, лицо в копоти и грязи, полы мундира оторваны, одного эполета нет вовсе, другой же держится только на нескольких нитках и свисает на спину. Сорванным голосом пытается кричать, но его было еле слышно даже идущим рядом солдатам. Положение сложилось критическое.
Ермолов, мгновенно оценив ситуацию, быстро подозвал бредущего мимо барабанщика и приказал бить «сбор».
– Ты какого полка? – спросил его генерал.
– Уфимского, третьего батальона, первой роты, рядовой Иван Кошелев, – ответил солдат, и бодрая барабанная дробь разнеслась по полю.
Алексей Петрович вскочил на коня и мощно, на все окрестности рявкнул:
– Третий батальон Уфимского полка, строиться в батальонную колонну!
Услышав бой барабана и знакомые команды из уст величественного генерала, возвышающегося над всеми на рослом гнедом коне, солдаты стали привычно строиться. По их лицам стало видно, что они приходят в себя, вновь чувствуют локоть товарища, ощущают себя не бегущей толпой, а частью мощного целого.
– Я – генерал-майор Ермолов, начальник штаба Первой Западной армии, – обратился он к солдатам. – Сейчас мы с вами исправим нашу же ошибку: мы возьмём батарею назад, пока французишки радуются победе и никак нас не ожидают. Нас поддержит многочисленная артиллерия, которую я с собой привёл. Она сметёт всё с этой высоты, и нам останется только дать пинок под зад этим ошалевшим лягушатникам.
Рядом с колоннами солдат уже разворачивались две конноартиллерийские роты, которыми командовал начальник артиллерии русской армии генерал Кутайсов. Он ехал вместе с Ермоловым на левый фланг. Раздались выстрелы наших орудий. Это очень подбодрило пехотинцев. Отдав распоряжение генералу Паскевичу, сгорающему от стыда, что оказался в таком положении на виду у других генералов, собрать ещё сколько возможно солдат из его отступающей дивизии, Ермолов встал во главе уфимцев и, обнажив шпагу, повёл батальон на штурм высоты. Дерзкая атака удалась. Николай шёл в первых рядах и хорошо видел, как над редутом, покачиваясь в теплом, пронизанном солнечными лучами воздухе, стояли столбы пыли и серебристого порохового дыма. Вот, видимо, осколок гранаты разбил бочонок с дёгтем, которым артиллеристы смазывают оси орудий и повозок, и немедленно багровое пламя полилось по земле, извиваясь как рассерженная змея. Чёрный густой дым стал подниматься вверх, сливаясь с облаками и отбрасывая на землю тёмные густые тени. На высоте метались немногочисленные французские артиллеристы и пехотинцы. Они никак не ожидали, что русские так быстро оправятся да к тому же подтянут мгновенно и пушки, которые накрыли ещё не изготовившуюся к бою французскую батарею. Многие захваченные русские орудия не были ещё даже повёрнуты в обратную сторону. Дерзкий расчёт Ермолова оправдался. Всего лишь один батальон с первой атаки вернул высоту. Вскоре на батарее Раевского и вокруг неё обосновалась 24-я дивизия Лихачёва, а за ней выстроились полки свежего 4-го пехотного корпуса под командованием генерал-лейтенанта Остерман-Толстого, ставшего известным всей России своей фразой, произнесённой в бою под Островно в июле месяце, когда он на взволнованные слова одного из подчинённых: «Что же делать, ваше превосходительство? Противник теснит нас с неимоверной силой!» – ответил хладнокровно: «А ничего не делать, стоять и умирать!» Командующий правого фланга нашей позиции Барклай де Толли знал, кого поставить на самый трудный участок позиции: во второй половине дня здесь решался исход боя.
Контуженный Ермолов мог с удовлетворением сдать командование на батарее Раевского в надёжные руки и возвращаться к выполнению своих прямых обязанностей начальника штаба 1-й Западной армии, но он был печален. Погиб его друг, двадцатисемилетний блестящий генерал Кутайсов. Тело его не было найдено, конь вернулся без седока, седло и чепрак были в крови. Вероятно, в генерала попало ядро.
«...И содрогается Ка-олт, дух испуская. Его белая грудь запятнана кровью, и рассыпались кудри по праху родимой земли! – вспомнил Ермолов, как Александр читал вчера ночью возвышенные строки стихов Оссиана и слёзы восторга катились у него из больших карих глаз. – ...И рассыпались чёрные кудри по праху родимой земли!» – повторил генерал, мрачно опустив голову.
Николай же скакал за Ермоловым в восторженном состоянии духа. Ему уже удалось участвовать в трёх атаках, и каких! С последней же во главе с Алексей Петровичем по дерзости, лихости и успешности мог сравниться, пожалуй, только штурм дивизией Неверовского Шевардинского редута.
«И везде принял участие я, Николай Муравьёв! – думал гордо прапорщик, поправляя сползающий набок офицерский кивер, который подобрал на месте сражения, когда потерял свою родную, рыжую от дождей и солнца, прожжённую и прострелянную картечью квартирмейстерскую треуголку. – Расскажу братьям, они помрут от зависти», – продолжал сам с собой разговаривать молодой герой.
Но первое же известие, с которым он столкнулся, приехав в расположение Главной квартиры в Горках, заставило его забыть о всех подвигах.
– Это кровь вашего брата, – сказал, показывая на свою бурку, только что прискакавший от генерала Беннигсена с левого фланга князь Голицын. – Ядро попало в лошадь, на которой он сидел, и сбросило его наземь, но я не знаю, жив ли он или нет, меня сразу же после этого послали сюда к главнокомандующему.
Муравьёвы, Александр и Николай, кинулись искать младшего брата. Но его нигде не было. Содрогаясь, ходил Николай по оврагам и лощинам, заполненным ранеными, многие умирали в судорожных страданиях в лужах крови. Повсюду слышались человеческие стоны и вопли, перекрываемые свистом пролетающих ядер, взрывом гранат, ржанием раненых, обезображенных лошадей. Погибали все – и солдаты, и офицеры, и генералы. Так, ближе к полудню был смертельно ранен старший брат погибшего на Семёновских флешах Александра Тучкова генерал-лейтенант Николай Алексеевич Тучков. Он вёл в роковой для него момент в атаку Павловский гренадерский полк на Утицкий курган, захваченный польскими пехотинцами из 5-го корпуса наполеоновской армии под командованием племянника последнего польского короля генерала Понятовского. Когда лежащего без сознания русского генерала увозили с поля сражения, его коляску догнал казак. Он обратился к адъютанту:
– Як генералу Тучкову.
– Не видишь, что ли? – посмотрел на него зло офицер, показывая на сидящего в коляске с окровавленными бинтами на груди генерала.
– Эх, жалость-то какая! – воскликнул казак, снимая шапку и крестясь. – Меня вот послали передать, что брата его превосходительства убило на Семёновских флешах. А его, значит, и самого подстрелили.
Глаза генерала дрогнули, он посмотрел вполне осмысленно на говорившего и снова закрыл их. Перед раненым вновь предстала вчерашняя сцена прощания: палатка, погасшие свечи и мрак, в которую уходит его брат, и он, оставшийся один в темноте ночи, лежащий на походной кровати...Николай Алексеевич не боялся смерти, но было очень жаль брата, любимого Сашку. Слеза покатилась по щеке генерала. Он скончался через три недели в Толгском монастыре под Ярославлем.
8К двум часам дня, несмотря на неимоверные усилия, приложенные французами, чтобы завладеть Багратионовскими флешами, исход боя был неясен. Левый фланг русских после ранения Багратиона и потери укреплений отошёл под командованием Коновницына за Семёновский овраг и вновь неприступной стеной встал перед дивизиями наполеоновской армии. Свежие гвардейские Измайловский и Литовский полки, присланные сюда Кутузовым, построившись в каре, уверенно отбивали атаки французской конницы. Русские драгуны, кирасиры, гусары и уланы ожесточённо сражались, отбрасывая кавалерию противника за овраг и делая дерзкие вылазки во фланги уставшей и обескровленной пехоте основных французских корпусов – маршала Даву и Нея. Наполеон был мрачнее грозовой тучи. Корпус Понятовского застрял на левом фланге у русских в Утицком лесу. Друг юности французского императора, разжиревший Жюно со своим 8-м корпусом, состоявшим из неповоротливых немцев, которые отнюдь не жаждали умирать здесь, на подмосковных полях, за славу французского императора, тоже не мог прорвать оборону 2-го пехотного корпуса русских, предводительствуемого генералом Багговутом. Только час назад левый фланг наполеоновской армии отбил дерзкий рейд в их тылы казаков Платова и кавалеристов Уварова.
– В моей шахматной партии ещё слишком много неясного, чтобы я рисковал своим последним резервом – гвардией, находясь за восемьсот лье от Франции, – ворчал император на сыпавшиеся со всех сторон просьбы ввести гвардию в дело.
Бонапарт, скрестив руки на груди, подавшись вперёд, сидел на походном стуле на холме впереди Шевардинского редута, положив левую ногу на барабан, и мрачно смотрел на поле сражения. В чёрной треуголке, надвинутой на лоб, он походил на насупившегося ворона. Наполеон подозвал к себе стоявшего неподалёку генерала Огюста Коленкура.
– Я поручаю вам возглавить Второй кавалерийский корпус вместо погибшего Монбрена. Ваша задача – во чтобы то ни стало взять редут в центре русской позиции и при поддержке других частей рассечь армию противника и обратить её в бегство. Осталось ещё только чуть-чуть поднажать – и спелый плод победы будет у нас в руках. Именно там находится ключ к нашему общему успеху. Если вы им овладеете, то решите исход битвы, я возлагаю все свои надежды на вас, Коленкур, и на ваших железных людей (так Наполеон называл кирасиров, облачённых в металлические латы и каски), – напыщенно проговорил император и показал рукой по направлению «Редута смерти», как прозвали батарею Раевского уже во всей французской армии.
– Живым или мёртвым, но я буду на редуте, – коротко ответил Коленкур, надел сверкающую на солнце каску, простился с братом, стоявшим неподалёку в свите императора, и вскоре уже скрылся за пожелтевшими перелесками, над которыми витали облака дыма и пыли ожесточённого сражения.
Через полчаса, скоординировав свои действия с осунувшимся и превратившимся от порохового чада из светло-рыжего в брюнета маршалом Неем, «железные люди» Огюста Коленкура понеслись в атаку на русские позиции. Генерал скакал в передних рядах. Французские кирасиры, выполняя замысел командира, сначала ринулись на стоящие рядом с редутом батальоны 24-пехотной дивизии и эскадроны 3-го кавалерийского корпуса русских, но, достигнув линии позиции противника и частично потеснив его, вдруг развернулись влево и бросились всей своей тяжёлой массой на редут, обходя его сбоку и сзади. Это была одна из самых лучших кавалерийских атак в истории конницы всех времён и народов. Сверкающая на солнце масса с глухим грохотом тысяч копыт и ожесточённым рёвом всех солдатских глоток нахлынула на полуразрушенное укрепление в центре русских позиций. Пушки били по кирасирам в упор картечью. То там, то здесь каски и латы, сверкая на солнце, взлетали вверх вместе с оторванными головами, руками и перебитыми туловищами кавалеристов. Залпы орудий проделывали в рядах кирасиров целые борозды, но уже ничто не могло остановить эту сверкающую железную лаву. Огюст Коленкур один из первых ворвался на редут и тут же получил пулю в лоб. Он взошёл на свой Олимп, о котором так мечтал, и не его вина, что его самопожертвование оказалось бесполезным для исхода всей битвы.
Русские артиллеристы и пехотинцы дрались отчаянно, никто не просил пощады. Начальник 24-й дивизии пятидесятичетырёхлетний генерал-майор Лихачёв, оставшись один, рванул на груди мундир и бросился на штыки французских гренадеров. Ни у кого из них не поднялась рука, чтобы убить отважного генерала с окровавленной головой. Вскоре он уже предстал перед Наполеоном, очень обрадованным известием, что хоть один генерал взят в плен в этом сражении, где русские показывают такую ожесточённую смелость и пугающую даже загрубелых наполеоновских вояк силу духа.
– Мы не в театре, чтобы демонстрировать на публику своё благородство, – ответил гордо еле стоящий на ногах израненный русский генерал и отказался принять из рук французского императора свою шпагу.
Наполеон был вне себя. Тем более, что ему уже сообщили о гибели его любимца Огюста Коленкура. И поступали всё новые неутешительные новости: русские прочно встали на новых позициях за редутом и отбросили и кавалерию Мюрата, и пехоту принца Евгения Богарне. Все жертвы, которыми оплатили французы взятие «Редута смерти», оказались напрасными. После ожесточённых схваток в центре полей, ставших огромной могилой французской кавалерии, гигантское сражение стало затихать.
К восьми часам вечера артиллерийская перестрелка по всей линии фронта от Утицкого кургана на юге до села Бородино на севере становилась всё менее ожесточённой. Гул орудий стал слышаться всё реже и реже. Русские войска, отступив от исходных рубежей на один километр, нигде не расстроив своих позиций, готовилась к продолжению сражения. Французские войска тоже на ночь отошли назад с поля, устланного трупами. Наступила ночь. В обеих армиях воцарилась тяжёлая тишина.
ГЛАВА 5
1Николай Муравьёв не удивился, когда в полночь Кутузов отдал приказ войскам отходить с Бородинского поля. Потери во всех частях были огромными. И по тому, как быстро из-за малочисленности на марше проходили мимо главнокомандующего, стоящего рано утром на обочине дороги, дивизии, бригады и полки, всем стало ясно, что армию надо спасать во что бы то ни стало. Второго подряд генерального сражения она не выдержит. Но, как водится, эти трезвые мысли, которые посетили „даже прапорщиков-квартирмейстеров при ознакомлении с состоянием армии после битвы, были затуманены у многих генералов и офицеров соображениями, никакого отношения к военному делу не имеющими. У некоторых, таких как начальник штаба армии генерал Беннигсен, голова была занята только тем, как подсидеть Кутузова и занять его место главнокомандующего, и на русскую армию ему, честолюбивому ганноверскому немцу, у которого руки были по локоть в крови отца нынешнего императора, седому разбойнику, как его прозвал Барклай де Толли, было просто наплевать. У большинства же военных русских людей от мысли, что придётся отдать неприятелю матупгку-Москву, Первопрестольную столицу, голова шла кругом и хотелось просто сжать в руках ружьё или саблю и кинуться на врага на пороге своего родного дома, а там будь что будет! Но Михаил Илларионович Кутузов не мог поддаваться в этот роковой для его Родины час ни благим порывам, ни тем более шкурническим. Несмотря на старческую немощь, он железной рукой вёл армию, а значит, и всю страну по единственно в то время правильному пути. Дальнейшие события показали верность его стратегии. Но какой ценой ему досталась эта победа над самым мощным противником, когда-либо приходившим до этого с мечом на Русь! Недаром он всего только на три месяца пережил «Великую армию», которую так беспощадно разгромил. Ведь приходилось если не воевать почти со всеми подчинёнными генералами, рвавшимися в бой, то уж держать их в узде – это точно. А сил у Кутузова становилось всё меньше. Он это чувствовал. Поэтому-то и вынужден был вести даже на войне покойный, неторопливый образ жизни, так раздражавший всех молодых, честолюбивых и полных сил генералов. Но Михаил Илларионович молил Бога только об одном: ему надо было дожить до того момента, когда последний неприятель или погибнет на русской земле, или будет вышвырнут вон.
«А там уж и помирать можно. Но до этого – ни-ни! Вези свой воз, покряхтывай, но вези. Это твой долг перед Родиной, матушкой-Россией, а всё остальное не имеет никакого значения!» – думал частенько старый полководец, поглядывая на многочисленную норовистую свиту или перечитывая нетерпеливые и раздражённые письма царя.
Вот и сейчас рано утром, после одного из величайших сражений в истории человечества, в котором его армия бесстрашно выстояла в битве с гениальным полководцем, он не предавался гордым иллюзиям, а уже деловито размышлял о том, что будет делать после того, как оставит Москву. А пока мудрый стратег играл партию с гениальным тактиком, исподволь заманивая его в западню, – военная жизнь, полная не только суровых испытаний, страданий и горя, но и высокого полёта патриотического духа русской армии, всего народа и страны в целом шла своим роковым чередом: москвичи покидали свой родной город. Тому, кто никогда не переживал раздирающего душу чувства бессильной ненависти и стыда, которое овладевает всем существом военного, вынужденного отдать врагу свой родной кров, свой город, где он родился и вырос, тому просто не понять, что переживал Николай Муравьёв, проезжая по московским улицам 31 августа 1812 года.
Прапорщик с трудом пробирался на коне по центру Москвы. Человеческое море захлёстывало его. По улицам сплошным потоком ехали роскошные кареты рядом с простыми телегами, щегольские дрожки и обшарпанные, просторные семейные рыдваны. Вот мимо остановившегося прапорщика проезжает на скрипучей, старой коляске поп, надевший одну на другую все свои ризы. По его медному круглому лицу катятся крупные капли пота. Но он даже утереться не может широкими рукавами: на его коленях – огромный узел с церковной утварью, сосудами и старинными книгами. Рядышком пристроился с большой иконой дьячок, зажатый между попом и дородной попадьёй, в руках которой весело блестит на теплом солнце самовар. Их коляску тащат, выбиваясь из сил, старая кляча и припряжённая ей в помощь корова, она испуганно смотрит по сторонам и громко, жалобно мычит. А рядом с ними в открытой коляске, забитой всяким домашним скарбом, на вьюках и перинах восседает купчиха в парчовом наряде, жемчугах и разноцветных шалях, во всём, что не успела уложить в сундуки. Мимо продолжали проплывать странные фигуры: то мужчина в каком-то платке на голове с кастрюлей в руках, то женщина в мужской шинели, а вот другая в байковом сюртуке. Плакали дети, цепляющиеся за юбки матерей, сидящих в экипажах или бредущих по пыльной дороге. У Николая было такое впечатление, что весь этот люд опрометью выбегал из своих домов, хватая из своего добра то, что попадётся под руки. В общем, ехали кто в чём попало, лишь бы вывезти побольше с собой, не оставлять же в добычу злодею! Над всей этой толпой стояло облако пыли, слышалось громкое ржание лошадей, мычание коров, и что особенно неприятно поразило молодого прапорщика, так это почти непрерывный, жалобный и тоскливый вой собак, сопровождавших своих хозяев.
Николай с трудом пробился сквозь толпу, на которую хотелось смотреть то улыбаясь, то плача, и наконец въехал во двор большого дома на Дмитровке, где вот уже двенадцать лет жила его семья. Отец прапорщика, Николай Николаевич Муравьёв, был управляющим у князя Урусова, своего отчима, он завещал ему за многолетние труды этот дом и подмосковное имение Осташево, кстати, сейчас уже занятое французами. Громко стуча каблуками по ступенькам лестницы, прапорщик взбежал наверх в бельэтаж, в знакомые комнаты, которые покинул полтора года назад, уезжая на службу в Петербург. Его шаги глухо раздавались по пустым залам просторного особняка. Семья Муравьёвых уже давно выехала в Нижний Новгород, оставив здесь только несколько слуг. Навстречу вышел в расстёгнутом нараспашку мундире старший брат Александр, служивший также квартирмейстером в армии.
– Тише, тише, не шуми, – проговорил он, размахивая длинными руками, – Михайла умирает. У него антонов огонь показался, и теперь ему операцию делают.
Николай осторожно вошёл в кабинет, где на столе лежал младший брат. Над его ногой склонился доктор с засученными рукавами и скальпелем разрезал загнившую рану, пуская из неё кровь и гной. Михаил посмотрел на вошедшего мутными от нестерпимой боли глазами и кивнул. Закусив побелевшие губы, он не издавал ни звука, только громко сопел, набычившись.
Николай почему-то вспомнил, что младший братишка вот так же вёл себя в этих же стенах кабинета, когда отец, строгий преподаватель военных наук и математики, спрашивал его урок, который он не успел выучить. Стоял, вобрав большую, круглую голову в плечи, и, насупившись, тяжело сопя, молчал. Правда, это бывало редко. Михаил обладал блестящими способностями, особенно к математике. В ней он преуспел больше всех, хотя со времён деда, автора первой русской алгебры, в семье Муравьёвых эту науку все мужчины знали блестяще.
Оба старших брата вышли из кабинета. Вскоре к ним присоединился и доктор, лучший в Москве оператор-хирург, швейцарец Лёмер. Он помыл свои жилистые волосатые руки в тазике, принесённом старым слугой, вытер их о белое полотенце и, застегнув манжеты, закурил сигару.
– Надежда есть, молодые люди, но очень небольшая, – проговорил он сквозь зубы и вынул большую серебряную луковицу часов. – Я покидаю вас, господа, – поклонился чопорно, – у меня ещё один визит, и затем мне тоже пора выезжать из города.
Братья остались одни в гостиной. Из приоткрытого окна слышался шум толпы, запрудившей Дмитровку, а рядом стоявшие часы пробили полдень и заиграли старинный минуэт. Эти знакомые до боли милые домашние звуки гулко отдавались мрачным прощальным эхом под лепными сводами высоких комнат родного дома, который они через несколько часов должны были покинуть, отдав врагу. За дверью послышался стон и голос младшего брата. Он просил воды. Братья бросились в кабинет. Им было почему-то стыдно, что они живы и здоровы.
Вскоре братья уже отправили умирающего Михаила в Нижний Новгород в сопровождении известного московского доктора Мудрова. А сами на следующий день тоже покинули родной город.







