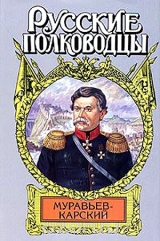
Текст книги "Судьба генерала"
Автор книги: Олег Капустин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)
Часть пятая
ВОЙНЫ ЗА КАВКАЗОМ
ГЛАВА 1
1 мае в Тифлисе в 1827 году было уже по-летнему жарко. В полдень не продохнуть. Серо-голубое марево стояло над Курой и притихшим под палящим солнцем плоскокрышим городком. Застыла тишина и в большом доме Ахвердовых. Он стоял на пологом склоне, близ бойкой речушки Салалык, резво бегущей вниз. На её берегу раскинулся просторный сад, разбитый здесь лет пятнадцать назад, когда был ещё жив генерал Ахвердов, Фёдор Исаевич, командовавший в те годы артиллерией Отдельного Грузинского корпуса. Теперь в нём проживала семья генеральской вдовы Прасковьи Николаевны Ахвердовой. У неё снимал флигель грузинский князь Александр Герсеванович Чавчавадзе, командовавший Нижегородским драгунским полком. Но в Тифлисе он почти не бывал, проводя всё время в Караагаче, где был расквартирован его полк, и в своём знаменитом имении Цинандали. Его же супруга, княгиня Саломе, никуда не выезжала из полюбившегося ей дома Ахвердовых, сдружившись с её хозяйкой, Прасковьей Николаевной, женщиной с сильным и бодрым характером, которая ходила по дому завернув по локоть рукава платья и зычно отдавая приказания слугам. Так и жили вместе две семьи, и обе мамаши, одна блондинка, другая брюнетка, частенько не могли и разобрать, где её дети, а где чужие. Правда, чужих уже не было, все семеро стали родными. Поэтому и воспитывали, и баловали, и наказывали их всех вместе. Естественно, что главой этой большой семьи была Прасковья Николаевна. Она и за уши их драла, и французскому обучала, и рисованию с живописью, ведь мать-командирша, как её называл весь Тифлис, была к тому же ещё и известной художницей. Её изящные портреты хранились не в одной богатой усадьбе по всей России и Закавказью.
мае в Тифлисе в 1827 году было уже по-летнему жарко. В полдень не продохнуть. Серо-голубое марево стояло над Курой и притихшим под палящим солнцем плоскокрышим городком. Застыла тишина и в большом доме Ахвердовых. Он стоял на пологом склоне, близ бойкой речушки Салалык, резво бегущей вниз. На её берегу раскинулся просторный сад, разбитый здесь лет пятнадцать назад, когда был ещё жив генерал Ахвердов, Фёдор Исаевич, командовавший в те годы артиллерией Отдельного Грузинского корпуса. Теперь в нём проживала семья генеральской вдовы Прасковьи Николаевны Ахвердовой. У неё снимал флигель грузинский князь Александр Герсеванович Чавчавадзе, командовавший Нижегородским драгунским полком. Но в Тифлисе он почти не бывал, проводя всё время в Караагаче, где был расквартирован его полк, и в своём знаменитом имении Цинандали. Его же супруга, княгиня Саломе, никуда не выезжала из полюбившегося ей дома Ахвердовых, сдружившись с её хозяйкой, Прасковьей Николаевной, женщиной с сильным и бодрым характером, которая ходила по дому завернув по локоть рукава платья и зычно отдавая приказания слугам. Так и жили вместе две семьи, и обе мамаши, одна блондинка, другая брюнетка, частенько не могли и разобрать, где её дети, а где чужие. Правда, чужих уже не было, все семеро стали родными. Поэтому и воспитывали, и баловали, и наказывали их всех вместе. Естественно, что главой этой большой семьи была Прасковья Николаевна. Она и за уши их драла, и французскому обучала, и рисованию с живописью, ведь мать-командирша, как её называл весь Тифлис, была к тому же ещё и известной художницей. Её изящные портреты хранились не в одной богатой усадьбе по всей России и Закавказью.
В этот жаркий полдень глава русско-грузинского семейства, позёвывая, шагала по жёлтой песчаной дорожке своего сада, испещрённой голубоватыми тенями от колеблющейся на ветру листвы толстых чинар. Она подошла тяжёлой походкой к беседке, где под листьями хмеля и винограда отдыхала в тени рыхлая и болезненная княгиня Саломе. Рядом с ней сидели её дочери: стройная, уже расцветающая четырнадцатилетняя красавица Нина и худенькая Катя, обещавшая совсем скоро вслед за старшей сестрой превратиться из гадкого утёнка в прекрасного лебедя. Здесь же играла на дорожке у беседки маленькая Дашенька, дочь Ахвердовой. Рядом с грузинками сидела и Соня, старшая дочь генерала Ахвердова и княжны Юстиниани, тоже рано умершей, как и её муж. Соня в апреле месяце вышла замуж за полковника Муравьёва, исполнявшего сейчас обязанности помощника начальника штаба Кавказского корпуса. Они все расположились вокруг небольшого круглого стола и пили шербет – смесь виноградного сока и грузинского красного вина со льдом.
– Ох и жарища сегодня, – проговорила Прасковья Николаевна, позёвывая и останавливаясь у беседки. Она почесала голову длинной тонкой стальной спицей, просунув её под белоснежный чепец с атласными оборками, возвышающийся на её голове как заснеженный Эльбрус. – Хочется, как наш Тузик, высунуть язык и завалиться куда-нибудь под куст в тенёчек, – проговорила Ахвердова и только собралась усесться на деревянную скамью беседки, как к ней подбежал оборванный, загорелый до черноты мальчишка и громко прокричал:
– Ваш Давидчик с моста в реку сиганул, а тётка Ефросиния, что бельё полоскала, выловила его из воды и выпорола мокрым полотенцем, чтобы дурья голова больше так не делала.
– О Господи Иисусе! – перекрестилась княжна Саломе и упала в обморок.
Вокруг неё засуетились дочки и Сонюшка.
– А что с ним, с Давидчиком, не расшибся он, когда прыгал-то? – спросила, хмуря брови, Прасковья Николаевна.
– Да ничего с ним не сделалось. Жив-здоров. Даже тётку Ефросинию так за руку укусил, что она кричала как оглашённая, – сиплым баском ответил мальчишка.
– Вот тебе, Серёженька, – протянула пряник Ахвердова солдатскому сыну, а заодно и дала гривенник.
В конце дорожки появился мокрый и злой чёрненький мальчишка. Он громко ругался, поворачиваясь назад, и грозил кому-то своим кулачком:
– Ты, Ефросиния, куриные мозги, ещё поплатишься за своё самоуправство! Это оскорбление всего грузинского дворянства... А ты что тут делаешь? – набросился он на Серёжку. – Уже наябедничал?
– Давидчик, живой? – кинулась к нему пришедшая в себя княжна Саломе, обнимая его и целуя. – Горе ты моё. Мокрый-то весь. Ты и вправду с моста прыгнул? Наверно, спихнули тебя с него эти базарные босяки. Я ведь сколько раз тебе твердила, не ходи ты на ту сторону, да и вообще теперь из сада чтоб ни ногой! Ведь кончится тем, что тебя или кинжалом пырнут, или в мешок засунут – и в горы! Ну почему ты такой непослушный у меня?
Она снова заплакала.
– Никто меня с моста не спихивал, – обиделся Давидчик, – я сам прыгнул на спор. До меня никто этого не делал. Там знаешь по дну какие каменья несутся, просто жуть! – гордо закончил юный герой.
– Как? Сам, говоришь?! – вскрикнула его мать в сердцах. Слёзы высохли в её больших карих глазах. – Ах ты паразит этакий! А ты обо мне, о папеньке или о сестрёнках своих подумал, перед тем как бросаться в этот водоворот? Что с нами будет, ты подумал, когда тебя мёртвого у нас на стол положат? Ах ты паразит, ирод ты мой. – Мамаша влепила ему подзатыльник. – Прасковья, выпори ты этого бесёнка, я бы хотела это сделать, да сил у меня нету.
– Опять пороть? За одно преступление дважды не наказывают, – взвыл возмущённый нарушением элементарных юридических норм Давидчик, вырвался из слабых рук матери и кинулся по дорожке в глубь сада.
– Лови его, лови! – крикнула слугам зычным голосом Прасковья Николаевна и громко захохотала.
Но то ли маленький Давид был таким юрким, то ли слуги только для вида расставляли руки, но мальчишка пронёсся как вихрь мимо них и скрылся в саду. Все сидящие в беседке рассмеялись.
– Залезет сейчас наш мокрый юный герой на голубятню и будет жаловаться своим воркующим любимцам на свою злую судьбу, – проговорил полковник Муравьёв, поднимаясь со скамейки. – Отдохнул маленько, пора и честь знать – бумаг в штабе столько накопилось, что ещё работать и работать, тем более что скоро в поход выступаем. – И он, наклонившись, поцеловал жену в щёку, поклонился всем и пошёл уверенной, упругой походкой по дорожке сада.
– Да, повезло тебе, Сонюшка, – проговорила, усаживаясь на скамью, Прасковья Николаевна своей падчерице. – Хороший тебе, дочка, муж достался: и человек серьёзный, не финтифлюшка какая-нибудь, и бравый молодец.
– «И метит в генералы», – подмигнула, звонко рассмеявшись, сидящая рядом Нина Чавчавадзе. Она знала совсем недавно написанную Грибоедовым комедию «Горе от ума» наизусть.
– И это тоже неплохо, – улыбнулась Ахвердова.
– Кстати, Александр Сергеевич Грибоедов должен скоро пожаловать, – заметила Соня, игриво поглядывая на свою подругу Нину. – Что-то ему уж больно нравится музыкой заниматься с нашей звездой Востока.
Нина вспыхнула, показала язык подруге и побежала по саду. За ней, смеясь, кинулась и Соня.
– Эх, замужняя уже женщина, а прыгает, как девчонка, – покачала головой Прасковья Николаевна, делая вид, что сердится.
– Ещё остепенится, – проговорила княжна Саломе, ласково и немного грустно улыбаясь. – Я ведь тоже, когда за Александра замуж вышла, порой тайком ещё со своими куклами играла. Пока молодые, пускай повеселятся. А вот за Давидчиком нужно получше приглядывать, а то он и себя и нас – всех в могилу сведёт. Как представлю, что он с моста в Куру прыгает, так у меня мурашки по коже и голова кружиться начинает. – Она достала дрожащими руками откуда-то нюхательную соль и открыла флакон.
А из сада раздавались звонкие крики детей и громкое весеннее пение птиц. Во всём же изнывающем от жары городке – ни движения. Только трепещут на лёгком ветерке, дующем с гор, листья высоких тополей-раин и высоко в небе над плоскими крышами кружит горный орёл, словно высматривающий чего-то. Вот он снизился и стремительно пронёсся над брустверами, высившимися у Куры. Послышался орлиный клёкот. Ему же в ответ раздавалось добродушное похрапывание часовых, прислонившихся в тенёчке к лафетам пушек и умело использующих длинные ружья для упора. Издали можно было подумать, что бравые вояки просто задумались, глядя на просторы Востока, расстилавшиеся перед ними.
2Вечером, как всегда, в гостеприимном доме Ахвердовой было полным-полно гостей. Выделялся среди них стройный мужчина с седыми висками, одетый в синий фрак и остро взирающий на всех своими живыми умными глазами из-за стёкол очков в золотой оправе. Это был уже известный всей России Грибоедов. Однако он не поддерживал умные разговоры, которые с ним пытались заводить генералы и полковники да их солидные жёны. Александр Сергеевич как сел после обеда за рояль, так и проиграл до ночи не вставая. Сначала импровизировал весёлые детские танцы. Младшее поколение обоих семей с жаром прыгало и бегало под эти волшебные звуки. Не отрываясь, как зачарованная смотрела маленькая Дашенька на то, как быстро летают по клавишам длинные белые пальцы Александра Сергеевича. Приоткрыв рот, она вплотную подошла к нему. Грибоедов вдруг перестал играть и, схватив в охапку девочку, сверкая озорным взглядом из-под очков, подбросил её вверх. Даша хохотала и визжала от удовольствия. Вся неугомонная детская орава набросилась на великого писателя. Правда, тогда ещё почти никто и не догадывался о будущей бессмертной славе и трагической судьбе этого остроносого господина в элегантном синем фраке, белоснежном галстуке, с живыми, близоруко щурящимися глазами.
Муравьёв, в отличие от детей, поглядывал на драматурга и дипломата без особой приязни. Очень много воды утекло с того дня, когда Николай первый раз увидел этого стройного мужчину в очках, приехавшего десять лет назад на Кавказ никому не известным, скромным чиновником по дипломатическому ведомству. Сейчас же он был, можно сказать, правой рукой своего родственника, генерала Паскевича Ивана Фёдоровича, сменившего на посту главнокомандующего корпусом знаменитого и всеми любимого Алексея Петровича Ермолова. Новый наместник Кавказа люто ненавидел всё и всех, хотя бы косвенно связанных с бывшим главнокомандующим. В основе этого лежала, конечно, зависть. Паскевич, маленького роста, кудрявый, живой малоросс, никак не мог завоевать уважение у подчинённых. Они его постоянно сравнивали с Ермоловым. И сравнение это было отнюдь не в пользу нового командира корпуса. Поэтому он демонстрировал решимость полностью уничтожить все те порядки, которые царили на Кавказе при Алексее Петровиче. Это грозило большими отрицательными последствиями для боеспособности войск. Ведь шла война с персами, а новый главнокомандующий резал по живому. Иван Фёдорович не ценил и даже боялся всякой инициативы подчинённых, пользовавшихся большой свободой в принятии решений, к чему их всегда подталкивал Ермолов. Невозможно было успешно управлять таким огромным и диким краем, не доверяя своим сотрудникам и не опираясь на их разумную инициативу. И одним из первых, кто столкнулся с новым курсом Паскевича, был привыкший к совершенно другому стилю работы Муравьёв, который из-за болезни своего начальника Вельяминова фактически один руководил штабом корпуса. На него и посыпались все первые шишки.
Поэтому-то и посматривал Николай косо на родственника нового главнокомандующего, подозревая его, может быть и ошибочно, в предательстве несправедливо отставленного Ермолова. Александр Сергеевич же вёл себя с полковником Муравьёвым как и прежде – непринуждённо-дружески. Он был большого ума человек.
Вскоре Муравьёвы простились с гостями и удалились на покой. Прасковья же Николаевна засиделась за полночь, играя в карты, которые очень любила.
Стояла тёплая лунная ночь. В спальне у Муравьёвых было открыто окно. Аромат цветущей сирени накатывал волнами с потоками прохладного ночного воздуха, дующего с гор, на лежащих в кровати.
– Эх, как бы этот гномишка в генеральских эполетах не наломал дров, – проговорил негромко Николай. – Ведь Алексей Петрович целых десять лет расставлял умных, инициативных людей по всему Кавказу. Разве можно их в одночасье тасовать так небрежно, словно засаленную колоду карт? А этот дурак, как слон в посудной лавке, норовит всё смести и начать с нуля. Ну разве это возможно? Особенно когда идёт война.
– Что, твой дружок Аббас-мирза к нам в гости пожаловал? – спросила, улыбаясь и зевая, Соня.
– Ишь ты, какая отважная, – повернул к ней голову Николай. – У Аббаса сейчас неплохое и побольше нашего войско, хорошие английские советники, есть артиллерия. Так что тут его просто так шапками не закидаешь.
– А мы его из пушки прямо в лоб, – взмахнула красивой обнажённой рукой Соня. – Нечего, Коля, кручиниться. Как говорит моя матушка, бивали мы всегда этих персиян и турок и бить будем.
– Ха-ха-ха! – громко и весело рассмеялся Муравьёв. – Ты у меня настоящая жена офицера, образцовая можно сказать... – Он толкнул её локтем.
– Да тише ты, весь дом разбудишь, этакая у тебя глотка лужёная, командирская, ну прямо труба иерихонская, – тихонько засмеялась Соня, закручивая усы мужа кверху.
Полковник обнял стройную супругу за талию и начал целовать её щёки и длинную белую шею. Вскоре как-то само получилось, что опустился пониже и уже лобызал пламенно упругую грудь жёнушки.
– Да оставь, Коленька, уже утро на дворе, а мы ещё не спали, – делая вид, что отталкивает мужа, ворковала Соня. – Ой, ну ты разошёлся-то как, ведь медовый месяц-то уже закончился, – ойкала она от удовольствия.
Вскоре уже не могла сказать ни слова, слышалось только её горячее дыхание. А за шторами уже алели верхушки дальних гор. Из звёзд только одна ещё не погасла и весело поблескивала, словно заглядывала в спальню. В саду громко пели соловьи.
В это же время по другую сторону Кавказских гор над степью поднималось солнце. Густой, серый, влажный туман таял на глазах. Коляска, запряжённая резвой тройкой, неслась по вязкой чёрной дороге. Комья грязи, блестящей как антрацит, летели с колёс и копыт лошадей. Молодой офицер в зелёном, распахнутом на груди армейском пехотном сюртуке и фуражке с красным верхом, сдвинутой на самый затылок, посматривал, зевая, по сторонам. А вокруг раскинулась роскошная степь, какой она бывает только поздней весной. Все пологие холмы вокруг заросли сплошным ковром из цветущего тёмно-лилового шалфея. Только кое-где можно было разобрать белые пятна клевера и ярко-жёлтые – козлобородника. Одурманивающе пахло влажным разнотравьем. В воздухе гудели шмели, пчёлы и другие невидимые насекомые. От мокрой, поблескивающей мириадами искр, блестяще-чёрной, быстро высыхающей дороги шёл пар. Солнечные лучи начали припекать.
– Ну как, Степан, скоро этот чёртов Ставрополь появится на горизонте? – спросил, покашливая спросонья, офицер.
– Никак не раньше полудня, ваше сиятельство, подъедем, – ответил своему хозяину Александру Ивановичу Стародубскому густым, очень низким голосом, словно из глубины вместительной пустой бочки, худой верзила, сидящий рядом с ямщиком на облучке.
У него на голове красовалась сине-золотая фуражка, а шинель, накинутая на сутулые плечи, сияла на солнце серебряным галуном. Степан, казалось, был одет побогаче своего хозяина – графа Александра Ивановича Стародубского. Поэтому на постоялых дворах все принимали его за весьма важную персону.
– Хенерал не хенерал, а уж шишка, брат, пребольшущая! – качали своими подстриженными под горшок головами ямщики, поглаживая окладистые бороды. – Вон сколько галунов-то на шинелишке, лампасы-то, лампасы-то, глянь, широченные какие, нет, ты только посмотри!
Степан подтверждал всю значительность своей персоны голосищем, от которого аж лошади вздрагивали, а половые в трактирах, завидев импозантную, сияющую нашивками фигуру и крупные кулаки, кланялись как заводные, тряся кудрями и белыми, в пятнах полотенцами на прижатой к груди правой руке, повторяя сладко-испуганно:
– Чего изволите, ваше высокобродь? Чего изволите?
А дело объяснялось весьма просто с этой ослепительно яркой и значительной птицей, залетевшей на Ставропольский тракт. Степан, отставной солдат, служил у отца молодого офицера, графа Ивана Васильевича Стародубского в его просторном петербургском доме швейцаром. И когда сына старого графа отправили на Кавказ, то Степан дал согласие ехать вместе с ним и присматривать там за беспокойным отпрыском графской фамилии. Такого доверия старый солдат заслужил своим солидным и добронравным поведением, а ещё тем, что сам пятнадцать лет оттрубил в Кавказском отдельном корпусе, был ранен и демобилизован с почётом как заслуженный инвалид и доблестный защитник царя и Отечества.
– На этом Капказе меня каждая собака знает. Ещё бы, я ведь ихнюю породу капказскую во как держал, – показывал швейцар здоровенный кулачище, объясняя кухарке и горничной кое-какую специфику своей военной карьеры.
Он частенько пивал чаи на графской кухне из большого голубого блюдечка, высасывая чай со свистом и подрагивая серебристыми усищами. Любо-дорого было смотреть на его распаренную физиономию. Сахаром хрустел так громко, показывая желтоватые прокуренные зубищи, что от этих зверских звуков да и от его баса по полным спинам дебелых женщин морозные мурашки пробегали, руки и ноги слабели и становилось уж так томно, так томно...
– Да, любят бабы военного человека, ох любя-ят! – завистливо говаривал, опершись на метлу, дворник Игнат, делясь с коллегами своими впечатлениями от редких для него теперь кухонных чаепитий, после того как на небосклоне графского дома взошла военная звезда.
Степан был георгиевским кавалером. Он с гордостью носил на груди солдатские медали, заслуженные им кровью и потом, но больше всего гордился тем, что служил не в какой-то там пехтуре, а в кавалерии, в знаменитом Кюринском драгунском полку, и достиг в своей военной карьере высокого чина вахмистра. И теперь старый, но ещё полный сил вояка возвращался к местам своих былых подвигов в роскошной швейцарской форме, свидетельствующей о его новом социальном взлёте – теперь уже на гражданском поприще.
– Эх-хе-хе! Заныли мои старые косточки то ли от тумана, то ли от вида горушек родимых, – потирая раненую ногу и плечо, пробасил Степан, глядя вперёд на высящиеся на горизонте каменные громады, которые, правда, сейчас можно было принять за скопище серо-фиолетовых облаков.
Молодой граф тоже поглядывал на тёмно-серые клочья тумана, вспоминая, как совсем недавно, прошлой осенью, служил он в Гвардейском корпусе в Петербурге и даже не подозревал, что через какие-то несколько месяцев судьба забросит его к чёрту на куличики в эти безлюдные степи. А началось всё... Александр задумался. С чего же, право, всё началось? Может быть, с той сырой и холодной осенней ночи, когда он, Александр Стародубский, прапорщик первого батальона Павловского гвардейского гренадерского полка, нёс, как обычно, караульную службу во внутренних царских покоях Зимнего дворца. Расставив солдат своего взвода на посты у парадных и служебных лестниц и в гулких пустынных коридорах, Александр постоял тогда в одном из залов, прислушиваясь к затихающей жизни огромного царского дома. Он любил это сумрачно-таинственное время начинающейся во дворце ночи. Рядом тикали большие, в человеческий рост, часы, украшенные позолоченными амурами и пастушками. Откуда-то сверху, с третьего этажа, доносились приглушённые звуки шагов, иногда далёкий женский смех. Это фрейлины всё никак не угомонятся после посещения вместе с императрицей Александрой Фёдоровной итальянской оперы.
Прапорщик пересёк залу, стараясь ступать бесшумно по цветному, наборному, кое-где уже поскрипывающему паркету, приблизился вплотную к высокому незашторенному окну. От стекла повеяло приятным холодком. Перед ним простиралась Нева. Воды было не видно. Густой серо-фиолетовый туман поднимался над рекой. Выглянула луна и осветила зеленовато-белым светом Петропавловскую крепость, вернее, остроконечный собор, а бастионы уже почти потонули в лиловых волнах тумана. Александр повернул голову налево. Там тихо плыл, как огромный корабль, в зеленоватом тумане Васильевский остров. Только Ростральные колонны холодно поблескивали в лунном свете и верхняя часть широкого портика Биржи призрачно белела, напоминая чем-то старинный мавзолей. Чуть правее виднелись верхушки мачт торговых кораблей. Во всей этой картине было что-то нереально-фантастическое и одновременно такое притягательное, романтически прекрасное, что Александр тут же вспомнил театр, итальянскую оперу... Звуки музыки, как лёгкий ветерок, коснулись его лица. И конечно же, он вспомнил чудесный голос. Это пела Натали. Её белокурые кудри мягко струились по точёным обнажённым плечам, а голубые глаза сияли ярче, чем колье из фальшивых брильянтов у неё на груди. Как только закончится караул, он сразу же покатит к ней, на квартирку при театре. А там вновь эти поцелуи, её сверкающее белизной горячее тело...
Вдруг в самый сладкий момент страстных мечтаний в уши прапорщика ударил бесцеремонный шум чьих-то тяжёлых, самоуверенных шагов. Александр резко повернулся. В проёме распахнутой двери зала виден был приближающийся, колеблющийся свет.
«Кто бы это мог быть?» – подумал офицер.
В ответ на его немой вопрос в дверях появилась высокая фигура царя в накинутой на плечи шинели. Николай Павлович, в свою очередь, увидел на фоне залитого лунным светом окна чью-то неподвижную фигуру в военной форме. Сзади неё виднелся шпиль Петропавловского собора.
«Уж не привидение ли повешенного год назад в крепости декабриста пришло за мной?» – промелькнула вдруг в голове императора совсем шальная мысль.
Пепельные редкие волосы зашевелились у него на голове. Он вздрогнул, но быстро взял себя в руки.
– Ты кто такой? – рявкнул царь, подрагивая кончиками топорщащихся в разные стороны усов. – Почему прячешься? А ну живо ко мне!
Александр не испугался. Во время опасности он, наоборот, свирепел. Сжав решительно губы и выпятив подбородок, офицер бодро пересёк залу и три последних шага отпечатал, как на параде, высоко поднимая ногу и лихо оттягивая носок. Приложив руку к киверу, он доложил:
– Прапорщик первого батальона Павловского гвардейского гренадерского полка граф Александр Стародубский по вашему приказанию прибыл.
– Так что же, прапорщик, ты здесь делаешь? – подозрительно уставился на него царь.
– Проверял посты, Ваше Величество, и заметил в этом зале подозрительную тень, поспешил проверить – нет ли злоумышленников.
– Ну и что, обнаружил?
– Ничего, Ваше Величество! Просто штора колыхнулась на сквозняке.
– Да, чёрт побери, – облегчённо вздохнул царь и посмотрел на лакея, стоящего рядом с горящей, зеленоватого стекла круглой лампой в руках, – и когда вы все эти щели заделаете? Сквозняки во дворце бешеные гуляют! Вечно с осени до весны у меня насморк из-за этого. Чтобы завтра в покоях ни одного сквозняка не наблюдалось! – категорически, как всегда, отдал приказание император.
Лакей преданно склонил седеющую голову в знак безоговорочного послушания. Царь тоже взглянул вниз на его короткие белые панталоны, застёгнутые с боков позолоченными пуговицами, и белоснежные шёлковые чулки, буркнул себе под нос:
– Ну, то-то же! – и поднял свои оловянные, навыкате глаза на молоденького офицера.
Лакей тут же услужливо сделал шаг вперёд и осветил прапорщика с ног до головы. Николай Павлович с видом знатока осмотрел обмундирование гренадера. На высоком офицерском кивере из чёрной кожи масляно поблескивал позолоченный двуглавый орёл, широко раскинувший свои крылья. Жёлтая золотая чешуя опускалась с висков под подбородок. Тёмно-зелёный мундир с воротником светло-синего цвета с красной выпушкой и красными широкими лацканами на груди сидел на высоком широкоплечем малом как влитой. Штаны из белого фламандского полотна с обтяжными пуговицами, заправленные в высокие, начищенные до зеркального блеска сапоги, плотно облегали стройные ноги. На боку висела шпага в чёрных лакированных ножнах, позолоченной гардой[33]33
Гарда – часть эфеса клинкового холодного оружия, предназначенная для защиты от удара пальцев руки, обхватывающих рукоятку.
[Закрыть] и эфесом на портупее, надетой под мундир.
– Ай да молодец! – выдохнул восхищённо царь, на лице которого появилось выражение человека, выпившего рюмку водки и закусившего чем-то очень вкусным. – Не офицерик, а картинка, – почмокал Николай Павлович губами, – а ну-ка пройдись. Круго-ом! Ша-агом марш! – скомандовал он хрипловато-зычным командирским голосом.
Александр лихо повернулся через левое плечо и легко, стремительно зашагал по залитой лунным светом зале, высоко поднимая прямые ноги и до хруста в костях оттягивая носки.
– Кру-угом! – послышалась вновь команда.
Прапорщик непринуждённо, легко на всём ходу развернулся и зашагал назад.
– Стой, ать-два! – выдохнул довольный император и прослезился. – Вот это молодец, гренадер, уважил отца-командира! Как, значит, тебя зовут? Александр Стародубцев? Молодец, Саша, служи верно, а император тебя не забудет. Ну что ж, орёл, продолжай в том же духе, проверь-ка ещё раз посты, рвения по службе никогда лишнего не бывает, – похлопал по золотому, без бахромы эполету прапорщика Николай Павлович и пошёл дальше по коридору, стремительно и бесцеремонно шагая, выпятив грудь колесом.
– А, чёрт, – донеслось уже издали гнусавое царское причитание, – сквозняки проклятые! Портьеры как живые шевелятся... Проходной двор какой-то, а не дворец императора всея Руси...
В конце коридора мелькнула высокая фигура царя в шинели внакидку и вкрадчиво скользящего рядом с ним лакея в алой ливрее с зеленоватой лампой в вытянутой руке.
Гренадер усмехнулся и пошёл в кордегардию – караульное помещение во дворце.
– Николаша в своём репертуаре! – иронично пробормотал прапорщик. – Родился солдафоном, солдафоном и помрёт!
И правда, больше всего на свете царь любил мундиры и бравую выправку. Эта военная поэзия, воплощающаяся в киверах с двуглавыми орлами, золотых петлицах, красных выпушках, этишкетах из белого шнура и прочего, и прочего в том же духе, услаждала его душу больше, чем даже фрейлина, знаменитая своей античной красотой, к которой он сейчас направлялся. Впечатление, произведённое на него молоденьким, легконогим прапорщиком-гренадером, продолжало греть его солдафонскую душу и даже после того, как он опустил своё грузное тело на широкую кровать рядом с люби мой. Целуя её беломраморные плечи и даже занимаясь с ней любовью, Николай бубнил себе под нос:
– Ать-два, ать-два...
И перед его глазами молоденький офицер продолжал шагать по залитой лунным светом зале легко и бесшумно, словно милое и славное привидение.
– Ать-два, ать-два...
Вдруг прапорщик оборачивается, и опешивший Николай Павлович, незаметно сам для себя проваливающийся в сонное небытие, видит улыбающуюся курносую физиономию своего отца – Павла Первого.
– Ать-два, ать-два! Продолжай, сынок! – гаркает покойный император. – Ать-два...
И вот уже лёгкая фигурка прапорщика отрывается от земли и лихо шагает вверх по лунному лучу, пробившемуся в тёмный угол залы через неплотно задёрнутую гардину бокового окна. Полупрозрачная фигурка офицера всё шагает и шагает...
– Ать-два, ать-два...
Вот уже он под потолком. Бьют часы с амурами. Полночь. Фрейлина заботливо укрывает заснувшего рядышком императора, крестится на лампадку, алеющую под иконой Божьей Матери в уголке спальни, и сама чуть устало откидывается на подушку, тоже проваливаясь в сонную тьму. Ей снится итальянская опера, но на сцене вместо всемирно известного тенора главную партию исполняет красавец Алексей Орлов, фаворит императора, его друг и первый любовник двора Его Величества, в постель к которому мечтала забраться чуть ли не половина дам большого петербургского света. Чем они хуже императрицы Александры Фёдоровны? Ведь, как украдкой поговаривали в столице, царица цепко держала в своих руках этого бравого кавалериста. Алексей Орлов, аппетитно подрагивая ляжками, обтянутыми белыми лосинами, сияя зеркально начищенными ботфортами и музыкально позвякивая шпорами, страстно пел о любви, а фрейлина внимала этим чудным звукам в кресле бенуара. В театре было почти темно. Темно-красный бархат на креслах и портьерах мягко переливался в лучах редких горящих свечей. Фрейлина была одна в огромной зале и совсем голая... Придворным дамам тоже снились мундиры и бравые военные.
А Его Императорское Величество громко сопел рядом со своей разомлевшей в мечтаниях любовницей и изредка повторял во сне:
– Ать-два, ать-два...
За окнами клубился серо-лиловый туман, и по Дворцовой площади шагал то ли часовой, то ли покойный папаша в треуголке и развевающемся на ветру белом шарфе.
– Ать-два, ать-два... – гулко и уныло раздавалось на площади.
Шаги медленно затихали вдали.
– Ать-два, ать-два...
Граф приоткрыл глаза.
«Где это я? А, это опять кубанские степи», – подумал он.
Дорога поднялась на один из холмов и стала спускаться на плоскую, как стол, равнину. Степь здесь была совсем другой. Вокруг всё было затянуто сплошь серебристо-седой пеленой.
– Ого, красотища-то какая! – воскликнул Александр. – Это что же такое, Степан?
– Ковыль, ваше сиятельство, ковыль. Начало лета – самое его время, – улыбался бывший вахмистр, потягивая трубочку и пуская клубы дыма перед собой.
Коляска поплыла по серебристому морю. Пелена из бесчисленных перьев ковылей колыхалась под ветром. Седые волны плескались у колёс и убегали к горизонту. Прапорщик опять в полудрёме опустился в омут воспоминаний: осенняя петербургская ночь окутала его зеленовато-лиловым туманом.
В кордегардии было неуютно. Горели три свечи на заплывшем от воска старом шандале. Его придвинули к себе поближе три кавалергарда. Они дулись в карты. Свет свечей едва освещал их возбуждённые лица. Белые колеты были расстёгнуты на груди. Один из игроков мрачно постукивал изгрызенными ногтями по лакированной, потемневшей от времени столешнице – видимо, крупно проигрывал.
– А чёрт с ним, – выругался он, почёсывая в затылке, поросшем густыми чёрными и толстыми, как щетина у кабана, волосами, – была ни была! Давай ещё.
Взял карту, взглянул на неё и швырнул на груду смятых ассигнаций на столе ещё одну, видно последнюю.
– Ставлю ещё одну сотню. Бог не выдаст – свинья не съест! – И тряхнул круглой головой.
Один из кавалергардов пристально посмотрел на него, сжал в бледную ниточку губы и бросил карты перед собой.
– Я пас! – хрипло проговорил он.
– А я ставлю двести, – спокойно проговорил бледный, но решительный банкомёт.
Черноволосый уставился своими круглыми, налитыми кровью глазами на него.







