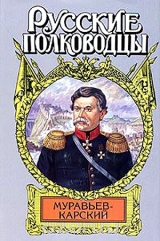
Текст книги "Судьба генерала"
Автор книги: Олег Капустин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 36 страниц)
На следующий день, 24 августа, в восьми километрах западнее от расположения русских войск на Бородинском поле раздались звуки артиллерийской канонады. Это вёл тяжёлый арьергардный бой отряд генерал-лейтенанта Коновницына. В это же время на правом берегу речки Колочи, текущей не спеша рядом с новой Смоленской дорогой, русские бородатые ратники Московского ополчения срочно возводили редут. Неподалёку от деревеньки Шевардино слышны были удары кирок и ломов о твёрдый и каменистый грунт кургана, крепкая ругань и громкие приказы обер-офицеров сапёрного и пионерного полков, указывающих ополченцам, куда высыпать на бруствер землю, которую они приносили на носилках с соседнего поля. Раздался топот копыт, рядом со строящимся укреплением остановился всадник. Это был Николай Муравьёв. Он легко соскочил с коня и, отдав повод одному из ополченцев, взбежал на вершину кургана. Здесь, на высоте, в знойное августовское утро тёплый воздух приятно пахнул полынью и высыхающими, не убранными хлебами. Николай, одетый в потрёпанный тёмно-зелёный общеармейский сюртук с перетянутым через плечо поперёк груди офицерским шарфом в подражание Кутузову, снял прожжённую чёрную треугольную шляпу и, вытирая вспотевший крутой загорелый лоб, осмотрелся.
– Михаил Илларионович приказывает ускорить работы, – обратился он к невысокому, полному штаб-офицеру сапёрного полка, наблюдавшему за подчинёнными. – На подходе уже дивизия Неверовского и батарейная рота, им надо занимать позиции.
– Господи, ну почему у нас, сапёров, судьба такая? – всплеснул руками штаб-офицер, вытирая большим коричневым платком круглое лицо в веснушках. – Нет чтобы заранее задачу поставить и обеспечить всем необходимым. А то ведь вы в штабах своих в последний момент перед сражением спохватитесь: нужно на особо опасном направлении возвести укрепления, приказ в руки полковнику Богданову и – вперёд, чтобы из зубов кровь, а к утру редут должен стоять! Но ведь настрочить бумажонку легко. А как, я вас спрашиваю, господа штабные, полковник Богданов выполнит приказ, когда у него ни рабочей силы, ни шанцевых инструментов – ни шиша в наличии? А? Этот болтун московский генерал-губернатор Растопчин, вместо того чтобы афишки свои дурацкие сочинять, лучше бы вовремя лопаты с ломами да кирками в армию прислал из Первопрестольной. А то вот пришли бородатые мужички с голыми руками, а тут грунт до того каменист и твёрд, что и кирки наши сапёрные ломаются. Пока мы им всё нужное собрали...
– Господин полковник, вы слышите? – нетерпеливо прервал его и показал нагайкой на запад прапорщик, откуда раздавался звук приближающейся артиллерийской канонады. – Французы уже на носу, а у вас ещё ничего не готово. А вон, – Николай обратился на восток, – батарейная наша рота приближается, ей уже надо занимать позиции, а куда, спрашивается, орудия устанавливать?
– А ну быстрей, – заорал во всю свою охрипшую глотку сапёрный офицер на подчинённых, – бегом шевелитесь, бегом! Вы что, не понимаете, что здесь сейчас или французы окажутся – так они вас всех, как собак, переколют штыками и перестреляют, или наши артиллеристы, и это отнюдь не лучше, потому что они вас просто живьём слопают, ведь им же пушечки свои некуда поставить. Внутрь валов, я вам говорю, внутрь землю сыпьте! Внутреннюю плоскость укрепления поднять надо, а то они и противника не увидят из-за этого бруствера, – чуть не плакал толстый сапёр. – Заставь дураков Богу молиться, так они себе лбы порасшибают, идиоты. Ну куда вы столько навалили? – размахивал руками и суетливо бегал по вершине редута полковник Богданов.
А французы с запада и наши пехотинцы и артиллеристы с востока неумолимо приближались. Через несколько часов здесь уже завязался упорный бой. За ним с высокого кургана у Семёновских флешей, которые ещё только возводились, наблюдал Кутузов. Он сидел на деревянной скамеечке, которую за ним постоянно носил конвойный казак, в коротком тёмно-зелёном, довольно обтрёпанном сюртуке, расстёгнутом на груди, на голове фуражка без козырька с красной тульёй. Главнокомандующий внимательно следил за ходом сражения в подзорную трубу. К нему то и дело подбегали адъютанты, быстро докладывали и снова исчезали.
– Ого, с трёх сторон нажимают, – проговорил Михаил Илларионович и добавил, обращаясь к генералу Багратиону, стоящему рядом: – Пётр Иванович, ты подтяни поближе парочку пехотных дивизий и оставь их пока в резерве, а вот поближе к вечеру, если наших потеснят – а судя по тому, как противник рвётся вперёд и подбрасывает всё новые и новые силы, он это в конце концов сделает, тем более что три пехоты дивизии они уже согнали на это дело, – так вот, когда наших-то потеснят, тогда и бросишь резерв на подмогу Горчакову, но бога ради, не раньше, не раньше, батюшка ты мой. Продержаться на редуте надо до глубокой ночи, чтобы эти прыткие французишки не зашли нам за левый фланг, пока у нас здесь флеши не построят, ну а уж ночью я пришлю приказ отходить.
– Я гренадер Мекленбургского и Воронцова подтяну, – ответил Багратион, кивая своим длинным носом. – А может, и кавалерии ещё подбросить, а то вон поляки от Утицкого леса уж больно нагло лезут?
– Хватит кавалерии, хватит, батюшка, вон кирасиров целая дивизия да драгунов полка четыре, ну, куда, голубчик ты мой, ещё-то? – замахал полными белыми ладонями Кутузов и посмотрел насмешливо и опасливо одновременно на нетерпеливо переминавшегося рядом командующего 2-й армией. – Знаю я твой горячий характер, знаю, Пётр Иванович, дай тебе волю, так ты прямо сейчас и начнёшь генеральное сражение вокруг этого редутика.
– А чего тут тары-бары разводить, – мотнул головой Багратион, как породистый жеребец, которому всадник не даёт броситься с места в галоп, натягивая узду. – Врезать бы по этой сволочи, пока они в боевые порядки не развернулись, вот этим фланговым-то ударом через Утицу, по старой Смоленской дороге. Посмотрел бы я, как они повертелись в этом случае.
– Остынь, голубчик, остынь, навоюешься ещё, успеешь, – улыбался Михаил Илларионович, – вот завтра подготовимся получше к бою, а уж послезавтра и начнём с Богом, – перекрестился главнокомандующий и снова стал внимательно осматривать поле боя, затянутое серебристыми клубами порохового дыма.
– Да, главный удар Наполеон собирается здесь проводить, по нашему флангу нанести намерен, это несомненно, иначе бы они так поспешно за этот редут не взялись бы. Мешает он им развернуться, ох мешает, как чирей на заднице, ха-ха-ха! – по-стариковски дробно, с хрипотцой рассмеялся Кутузов и подозвал возглавлявшего квартирмейстерскую часть при штабе главнокомандующего генерал-майора Вистицкого, элегантного, с седыми висками, больше похожего на придворного, чем на кадрового военного. – Вот что, Михаил Степанович, ты пошли какого-нибудь своего архаровца, да попроворней, к редуту, пусть посмотрит, как идёт бой, и назад прямо ко мне, доложит обстановку. И пусть передаст Горчакову мои слова: отступать только по моему приказу, а до ночи и не помышляет отдать редут. Хоть зубами в него пусть вцепится, но держится! Да, и предупреди своего подчинённого, что он посылается не воевать, а только для наблюдения, а то эта молодёжь всё рвётся подвиги совершать, все, черти полосатые, в Наполеоны метят, а надо просто лямку свою усердно тянуть, ведь недаром в народе говорится: всяк сверчок должен знать свой шесток. Иди, иди, Михал Степаныч, поторапливайся, я здесь до ночи-то не собираюсь просиживать. – И он снова, что-то ворча себе под нос, принялся смотреть в подзорную трубу.
А тем временем бой у Шевардинского редута становился всё ожесточённее. Пехотинцы в синих мундирах 5-й французской дивизии под командованием генерала Компана, которого сам Наполеон называл мастером по взятию редутов, ворвались в деревеньку Доронино, вытесняя русских егерей, ведших ожесточённый огонь из широко развёрнутых цепей, и взобрались на стоящий всего в двухстах пятидесяти шагах от русских позиций курган. И через полчаса отсюда уже вела огонь французская батарея, а 61-й линейный полк дивизии Компана шёл на приступ редута. Гордые тем, что им первым доверил император начать великую битву, французские пехотинцы шагали под барабанный бой с устрашающей невозмутимостью. Многие офицеры и ветераны-рядовые этого прославленного полка сражались ещё в Египте под началом их маленького капрала, как они любовно называли генерала Бонапарта.
Пехотинцы дивизии Компана из 61-го полка пробежали под непрерывными картечными залпами шестьдесят шагов, которые их отделяли от редута, и сцепились врукопашную с пехотой уже ставшей знаменитой 27-й дивизии Неверовского. Она и здесь оказалась в первых рядах. Однако натиск французов был так мощен, что через полчаса они вытеснили русских артиллеристов и пехоту с редута и уже стали поворачивать захваченные орудия против их бывших хозяев, как раздалась мощная барабанная дробь. Русские батальоны остановились и быстро перестроились. Перед ними показался коренастый генерал в тёмно-зелёном мундире с густыми рыжеватыми баками и пронзительными карими глазами, в чёрной треуголке и с длинной шпагой в руке.
– Вы что же меня позорите, братцы? – обратился генерал Неверовский к своим солдатам, смущённо отводившим глаза. – Подумаешь, эка невидаль, французов всего-то в три раза больше. Да мы под Красным разбили три корпуса кавалерии Мюрата, а там их было в десять раз больше, чем нас. Вы и под Смоленском дрались, как львы, а там их было в двадцать раз больше. Так чего сейчас-то опешили? Нет, голубчики, так не пойдёт. Вы уже зарекомендовали себя перед всей нашей армией героями, так извольте подтверждать сбою славу и в этом бою. Живей стройся батальонными колоннами, командиры и ветераны – в первые ряды, музыканты играй, песенники запевай! Покажем же этим нехристям, что мы в бой как на праздник идём! – И сам встал впереди одной из колонн.
И тут случилось то, что потом все, кому судьба дала возможность дожить до седых волос, вспоминали как чудо: Тарнопольский, Симбирский, Одесский полки пошли в атаку с музыкой и песнями. Даже французы на редуте затихли, вслушиваясь в странные для поля боя звуки.
– Господи, они песни поют! – проговорил с ужасом молоденький французский офицер из третьего батальона 61-го полка, засевшего на редуте.
И ни ожесточённая канонада французских орудий, ни ружейная пальба в упор не заставила замолчать лихие русские песни. В эту удивительную атаку вместе со всей дивизией Неверовского шёл и прапорщик Муравьёв, который хотя и был послан на редут для наблюдения и со строгим указанием ни во что не вмешиваться, но не мог стоять в стороне от могучего порыва русского духа. Он вспоминал эту фантастическую атаку с песнями под свист картечи из вражеских орудий всю свою долгую военную жизнь, и она стала для него мерилом воинской отваги и бесстрашия. Весь третий батальон 61-го линейного полка дивизии Компана остался на редуте. Никому не удалось уйти. И когда на следующий день Наполеон лично проводил смотр этого полка, он недоумённо спросил:
– А где третий батальон?
Командир дивизии, потирая старый длинный шрам на скуле, мрачно ответил:
– Он там, на редуте, – и показал на покрытый чёрным трауром развороченной земли и пороховой гари курган у деревни Шевардино, ставший на вечные времена памятником русской славы и могилой для завоевателей.
Вскоре, поддерживая атаку пехотинцев Неверовского, во фланг дивизии Компана ударили русские драгуны с оранжевыми погонами на плечах при поддержке русской артиллерии. Всё это заставило остатки 61-го полка ретироваться с поля боя. Вскоре стемнело. Генерал-майор Горчаков, племянник великого Суворова, лично поблагодарил и пожал руки главному герою этого боя: генералу Неверовскому, а также офицерам, принимавшим участие в контратаке на редут. Среди них был и Николай Муравьёв.
– Господа, благодарю за инициативное, умное руководство боем, – проговорил, прохаживаясь у костра, скрытого от глаз вражеских артиллеристов за курганом, стройный молодой тридцатитрёхлетний генерал. – Благодаря вашей отваге и находчивости мы выполнили нашу задачу: держим редут до ночи, через несколько часов получим приказ к отходу, а пока будьте начеку, французы сделают всё, чтобы с нами расквитаться за понесённый ими конфуз.
После ожесточённой ночной резни, отбив все атаки остервенелых французов, русские батальоны в полночь не спеша покинули напрочь разрушенный редут и отступили к уже возведённым Семёновским флешам. Здесь дивизию Неверовского через день опять ждали суровые испытания. Она оказалась в самой горячей точке битвы. А прапорщик Николай Муравьёв поскакал по холмам и долам, залитым лунным светом, мимо многочисленных костров, у которых солдаты, только что вышедшие из боя, составив ружья в козлы, грелись у огня, варили кашу и балагурили, в село Татариново, где расположился штаб Кутузова, докладывать главнокомандующему обо всём, что он видел. Но разве расскажешь в сухих словах военного рапорта всё, что пережил молоденький офицер в этот день?! Даже своему брату Михаилу он не смог передать и сотой доли того восторга, что переполнял его при воспоминании о стойкости и отваге простого русского солдата. Молодые прапорщики долго шептались в душистой темноте овина, куда они забрались переночевать, и заснули только под утро. Все другие помещения уже были заняты ранеными. Подступало главное испытание Отечественной войны – Бородинское сражение, и пролог к нему выиграли русские воины сегодня на Шевардинском редуте! Николай в этом был уверен.
3День перед битвой выдался пасмурным, накрапывал мелкий холодный дождик. Оба войска готовились к битве. Наполеон в простой серой шинели без знаков различия и чёрной треуголке провёл почти весь день в седле. Он не просто осматривал позицию русских – казалось, что он её обнюхивает, выискивая слабые места. У деревни Бородино по нему даже выстрелили картечью – так близко полководец подъехал к переднему краю. И это несмотря на почти непрекращающийся сухой кашель, который душил французского императора, насморк и боли в желудке: язва давала о себе знать.
Кутузов наблюдение за противником доверил своим подчинённым. Сам же, сев в просторную коляску, объезжал свои войска. С ним возили старинную икону Смоленской Божьей матери, которую генерал Ермолов приказал месяц назад вывезти из осаждённого города. Помолившись у святой реликвии, Михаил Илларионович разговаривал запросто с солдатами. Он отлично понимал, что именно от них зависит исход завтрашнего сражения.
– Вам придётся защищать землю родную, послужить верой и правдой до последней капли крови, – говорил Кутузов, встав перед строем Симбирского пехотного полка 27-й дивизии Неверовского, уже прославившего себя в боях под Красным, в обороне Смоленска и во вчерашнем бою у Шевардинского редута. – Кому, как не нам, заслонить своей грудью матушку-Русь, кто же, кроме нас, это сделает? Это наша святая обязанность, и это огромная честь, которая выпала на нашу долю. Не посрамим же русского оружия, вся Россия с надеждой смотрит на вас, богатырей земли русской. За веру, царя и Отечество!
Раздалось громкое «ура». Михаил Илларионович смахнул слезу, побежавшую по полной, плохо выбритой щеке, и сел в коляску.
– Кому, как не нам! Да, братцы, кому, как не нам, – бормотал себе под нос старый генерал.
– Вы что-то сказали, ваше высокопревосходительство? – спросил его сидящий рядом полковник Кайсаров.
– Ничего, ничего, – проворчал Михаил Илларионович, стыдясь своих слёз, – поехали-ка, Паисий, в Татариново. Богу помолились, с солдатушками поговорили по душам, пора и нам отдохнуть. Завтра тяжёлый день предстоит.
Ночь прошла спокойно. Русские солдаты и офицеры были настроены серьёзно, одевали чистое бельё, многие даже положенные сто грамм не пили.
– «И тогда зловещий, ревущий, глубокий и яростный сумрак сраженья простёрся словно туман, когда бури застят мирный солнечный свет небес, – вдохновенно читал в одной из палаток русского лагеря черноволосый кудрявый молодой человек в распахнутом на груди генеральском мундире с алой шёлковой подкладкой без эполет. – Вождь во всеоружии шествует впереди, словно гневный дух пред тучей. От руки его падает Курах и содрогается Ка-олт, дух испуская. Его белая грудь запятнана кровью, и рассыпались светлые кудри по праху родимой земли», – печально опустил голову молоденький генерал.
Это был граф Александр Кутайсов, сын фаворита императора Павла Первого. Талантливый математик и военный, он в свои двадцать семь лет возглавлял всю артиллерию русской армии. Сейчас перед боем молоденький граф, конечно, не мог уснуть и пришёл в палатку начальника штаба 1-й Западной армии, своего друга, тоже артиллериста по своей первой военной профессии, Алексея Петровича Ермолова, чтобы почитать вслух своего обожаемого Оссиана, древнего шотландского барда, за именем которого скрывался бывший школьный учитель Джеймс Макферсон, написавший эти песни-стилизации под древнюю поэзию в глуши вересковых пустошей и скал своей суровой и гордой родины. Звуки северной лиры приводили душу экспансивного Александра Кутайсова в сладкое неистовство. Вот и сейчас не смог удержать слёз, они крупными прозрачными каплями катились по его смуглым щекам из блестящих красивых карих глаз, похожих на мокрые сливы.
– Ты знаешь, Алексей, – вдруг проговорил негромко граф, глядя задумчиво перед собой, – я вдруг понял, что меня завтра убьют.
– Да брось ты, Саша, чушь пороть, – нахмурился и махнул рукой Ермолов, сидящий за столом, на котором стояли небольшой походный самовар и чашки с недопитым крепким чаем. – Начитался этой заунывной поэзии, вот и кажется чёрт знает что! Хочешь, я Митьку-денщика позову, он нам на балалайке сыграет?
– Нет, это был знак свыше, – ответил печально Александр, – я ведь наугад томик открыл, и вот попались эти строки... Вещие строки...
На золотых дубовых листьях, которыми был обшит красный воротник его мундира, мягко играли отблески колышущихся на теплом ночном ветерке язычков свечей. Одна из них погасла. Оба генерала посмотрели на погасшую свечу, над которой курился прозрачный дымок, пахнувший тёплым воском, с тревогой. Перед боем все военные суеверны.
В это же время в походной палатке на опушке деревни Утица, на самом левом крае позиции русских войск, за столом сидели тоже два генерала. Это были два брата Тучковы. Тот, что постарше, командир 3-го пехотного корпуса генерал-лейтенант Николай Алексеевич Тучков, мужчина лет пятидесяти, невысокого роста, с удивительно доброй улыбкой на широком, чуть рябоватом лице, смотрел на своего младшего брата, Александра, с чисто отцовской нежностью. Он был старше его на тринадцать лет и привык всегда заботиться о Саше. Младший брат был на голову выше старшего. Видно было с первого взгляда, что и по характеру он не похож на энергичного, грубоватого вояку Николая. Александр был очень красив и больше напоминал поэта или художника, переодетого в генеральский мундир. Что-то томно-меланхолическое было в выражении его вытянутого усталого лица с орлиным носом. Может быть, именно потому, что они так несхожи, братья много лет хорошо ладили. Пехотная бригада, которой командовал Александр Тучков, входила в 3-й корпус. Завтра им обоим предстояло вместе идти в бой.
– Эх, много бы я дал, чтобы узнать, как наш Павлуша чувствует себя у французов, – сказал старший брат, Николай Алексеевич, выпуская перед собой клубы дыма из массивной трубки с длинным чубуком. В бою под Валутиной Горой генерал-майор Павел Тучков попал в плен.
– Томится, конечно, здесь такие события разворачиваются, а он не у дел. Но ничего, нам надо побыстрее расправляться с Бонапартом, и тогда вызволим брата. Хотя у меня такое чувство, что я его больше никогда не увижу. Три недели назад, ещё тогда, на Смоленской дороге, у меня сердце похолодело, когда мы расставались. Предчувствие у меня нехорошее... – Александр рассматривал своё отражение в чашке очень крепкого чая.
– Не надо Саша, перед сражением все эти мысли начисто выметай из головы, – наставительно произнёс Николай.
– Не так-то это легко сделать, братец. Не хотел я тебе рассказывать о том, что случилось со мной и Марго на последнем привале, когда мы расстались под Смоленском, но, видно, не удержусь.
Александр так звал свою жену Маргариту. Они очень друг друга любили. Но в их чувстве было столько экзальтации, страсти, что это даже пугало здравомыслящего Николая. Он этого не одобрял. Так относиться к друг другу впору было трагическим любовникам из пьесы Шекспира, а не супругам, прожившим в браке уже шесть лет. Так же считала и мать братьев, строгая русская барыня, Елена Яковлевна Тучкова, души не чаявшая в своих любимцах Коле и Саше.
Младший брат встал, прошёлся по просторной палатке командира корпуса и остановился перед картой, расстеленной на столе.
– Ты знаешь, я узнал о существовании вот этой деревеньки под названием Бородино почти месяц назад. Тогда мы спали в избе в последний раз вместе с Марго, на следующий день она уезжала в Москву. И вдруг ночью она будит меня и спрашивает: «Что это за местечко Бородино? Ты его не встречал на картах?» Я с удивлением смотрю на её мертвенно-белое в лунном свете лицо и ничего не могу ответить спросонья. Но она заставила меня встать – мы спали прямо на полу, на сене, покрытом попонами, – и найти большую карту. Искали мы, искали, но тогда так и не нашли эту деревеньку. А дело в том, что ей приснилось, как она идёт по какому-то селу и вдруг видит на стене простой избы надпись: «Твоя судьба решится здесь, у Бородино». И ты знаешь, Николай, меня как обухом ударило, когда я услышал пару дней назад, что мы, оказывается, даём генеральное сражение у деревни Бородино.
Красивое лицо Александра в лунном свете, падающем через открытый полог палатки, было смертельно бледным. Глаза смотрели на брата как-то странно.
– Сейчас у меня такое же чувство, которое было, когда мы расставались с Павлушей.
– Перестань хныкать, Сашка! – рявкнул на брата Николай. – Иди лучше приляг и поспи, завтра нам предстоит очень трудный день.
Братья помолчали и встали, пора было расходиться. Они обнялись. В этот момент порыв ночного ветра загасил все свечи, стоявшие в медном шандале на столе. Братья оказались в ночном мраке. Александр ничего не сказал, повернулся и вышел. Николай вдруг тоже почувствовал, что они видятся в последний раз. Он скрипнул зубами и одетым лёг на походную постель. Никакие предчувствия не могли поколебать его чувство долга. Генерал заставил себя заснуть хотя бы на полчаса, он знал, как это важно перед сражением. Так же делали и большинство русских солдат, инстинктивно понимая, что завтра великий день для них и их Родины и сейчас уже не место для размышлений, колебаний и подтачивающих силу души воспоминаний.
Во французском лагере не было той строгой, серьёзной, праведной атмосферы, которая царила в русском. Среди многоязычной орды, пришедшей на Русь за хорошей добычей и думавшей только о том, как бы прорваться к богатой Москве и обеспечить себя удобными зимними квартирами да безбедным существованием на будущее, раздавались до глубокой ночи громкие пьяные выкрики, хохот. Эти загрубелые вояки, завоевавшие уже почти всю Европу, радовались, что наконец-то им представился случай накинуться на очередную богатую жертву. Казалось, все были уверены в завтрашней победе.
Однако в некоторых палатках «Великой армии» царило совсем другое настроение. Так, обер-шталмейстер императорского двора Арман де Коленкур, склонив свою посеребрённую густой сединой голову над бокалом темно-красного вина, грустно-иронично слушал восторженные речи своего младшего брата, одного из самых блестящих кавалерийских генералов, которых когда-либо рождала Франция.
– Эх, Огюст, – печально улыбнулся старший Коленкур, – неужели ты не видишь, что мы, как в болоте, увязаем в этой огромной России. Ну, хорошо, завтра мы всё же выиграем битву, я в этом тоже уверен. Но какой ценой? Ты же сам отлично знаешь, как русские ожесточённо дрались под Смоленском и во всех арьергардных боях. Завтра же они нам дадут такой отпор, какого мы ещё никогда и нигде не получали, треть или даже половина нашей «Великой армии» будет потеряна. А что будет с остальной её частью, когда мы всё-таки ворвёмся в Москву?
– Мы получим отличные зимние квартиры и скорый мир с поверженным русским медведем! – бодро проговорил Огюст, выпивая вино из бокала.
– Ну зачем ты повторяешь с таким глупым апломбом всю эту чушь из официальных бюллетеней? – поморщился Арман.
– Ну ты же сам их сочиняешь и одновременно называешь чушью, – усмехнулся младший брат.
– Господи, какими только глупостями или гадостями мне не приходится заниматься при дворе! Но что поделаешь, такова жизнь! – вздохнул обер-шталмейстер. – Однако, что бы нас ни заставляла делать судьба, наш император или наше честолюбие, надо никогда не терять своего «я» и смотреть на всё со своей, не зависимой ни от чего и ни от кого, просвещённой точки зрения. И уж совсем глупо обманывать самого себя.
– И ты считаешь, что я занимаюсь самообманом? – спросил Огюст, вдруг так же тонко и иронично улыбнувшись, как и его старший брат. – Арман, разве я как неглупый человек и, поверь мне на слово, неплохой военный не понимаю, что в погоне за этими недостижимыми химерами, как Индийский поход, мы залезли в такие дебри, откуда можем просто не выбраться? Понимаю, конечно. – Генерал помолчал, налил себе ещё один бокал вина, поднял его и посмотрел на свет, льющийся от многочисленных свечей, горящих на серебряных шандалах, доставшихся ему как трофей после грабежа одной из богатых усадеб под Смоленском и подаренных им любимому и уважаемому старшему брату.
Вообще почти всё, что окружало этих просвещённых французов, было взято как военная добыча во всех частях Европы. Считая себя цивилизованными людьми, французы наполеоновской Франции на самом-то деле вели себя как гунны, без малейшего зазрения совести грабя народы, страны и континенты. И вот теперь с благословения своего императора они решили перенести грабёж на весь мир, пытаясь прорваться сквозь просторы России к Индии, где засели колонизаторы-англичане, которые в этом роковом для всего человечества году застыли от ужаса при виде ещё более наглого и кровожадного завоевателя, чем они сами.
– Арман, я всё хорошо понимаю, и твоим официальным бюллетеням не по силам запудрить мои мозги. Но я сделал свой выбор: встал под знамёна самого величайшего полководца всех времён и народов и пойду за ним до конца. Сладость жизни не в том, чтобы протянуть её как можно дольше и трясущимися от старости руками хапать всё больше богатства, почестей и наслаждений. Сладость жизни в её яркости и той страсти, с которой ты проживаешь каждую отведённую тебе судьбой минуту. И поверь мне, я хоть и моложе тебя, но повидал немало, нет в жизни ничего прекрасней любви и боя. Только в этих двух сферах нашего бытия мы в экстазе приближаемся к богам, поэтому я пью за мою любовь, оставленную на родине, и за завтрашний бой – это будет величайшее сражение как в истории Франции, так и в моей судьбе, это будет мой Олимп, и я взойду на него с высоко поднятой головой. Лучшей судьбы я себе и не желаю. – Огюст выпил бокал до дна и встал. – Давай прощаться, брат, у тебя своя, не менее достойная жизнь, так что вспоминай своего сорвиголову младшего братишку и не вешай носа, прощай.
Они обнялись, поцеловались, и кавалерийский генерал, беззаботно позвякивая шпорами, ушёл в ночь.
А кумир одной армии и злой гений другой в это время не находил себе покоя в своём императорском шатре.
– И тебе тоже не спится, мой Жан? – спросил Наполеон, входя в отделение палатки, где помещался дежурный генерал.
– Да разве тут уснёшь, Ваше Величество, когда тебя каждые полчаса теребят с рапортами с аванпостов, да потом, и ночи стали уже свежими, – ответил, поднимаясь со стула, генерал-адъютант Жан Рапп, который прошёл со своим императором все его военные кампании, начиная с Итальянской 1794 года, когда Наполеон был всего лишь молодой, подающий надежды генерал. Много лет он был его адъютантом.
– Садись, Жан, выпьем-ка горячего пуншу, а то и вправду стало что-то свежо, а у меня никак простуда не проходит, – показал на кресло, обитое алым шёлком, рядом со столом император.
Рапп позвонил в колокольчик. Камердинер с заспанным лицом откинул полог палатки. Выслушав приказание, он неслышно удалился, мягко ступая по коврам туфлями с золотыми пряжками. Его белые шёлковые чулки, доходившие до колен, были на удивление белоснежными и без единой морщинки.
Наполеон вдруг подмигнул генералу и сказал:
– А помнишь нашу первую итальянскую кампанию? Тогда у нас и в помине не было лакеев в белых чулках.
– Да у нас тогда ничего не было, – кивнул головой Рапп, – даже чистых рубашек, но зато мы дали жару этим австрийцам, сбили с них спесь.
– Ага, – кивнул Наполеон, улыбаясь вдруг молодой, задорной улыбкой, – я тогда ходил в дырявых сапогах, а чтобы не показывать итальянцам, что на мне нет рубашки, наглухо застёгивал ворот сюртука. А итальянцы удивлялись: как же высокомерен этот французский генерал, в такую жару он застегнут на все пуговицы!
Им принесли горячий пунш в высоких хрустальных бокалах. Отпив глоток обжигающего, приятно пахнувшего специями вина, император закашлялся и, отдышавшись, продолжил:
– Теперь же у нас есть всё, да только радости от этого никакой, – махнул он вяло рукой. – Как ты думаешь, Рапп, хорошо у нас пойдут завтра дела? – вдруг перевёл резко разговор, как обычно это делал всегда, в другое русло.
– Без сомнения, Ваше Величество, мы исчерпали все свои ресурсы, да и отступать нам некуда. Мы должны победить по необходимости.
– Хорошо, что старый Кутузов тебя не слышит, – усмехнулся Наполеон. – Мы должны победить, деваться нам некуда, в этом-то ты совершенно прав.
Помолчал, мелкими глотками отпивая пунш.
– Но счастье – самая настоящая куртизанка. Я часто говорил это, а вот теперь начинаю испытывать это на себе, – вздохнул император.
– Вы мне сказали ещё там, под Смоленском, – заметил генерал, – что дело начато и теперь мы просто обязаны довести его до конца, чего бы это нам ни стоило.
– Дело в том, Рапп, что цены всё поднимаются и нам приходится платить по счетам судьбы всё дороже и дороже, как бы в решающий момент наши карманы не оказались пусты! – ответил император с горькой усмешкой. – Ну ладно, посудачили – и хватит, уже светает, надо теперь заняться делом. Вызови-ка сюда Бертье, – приказал, решительно отметая всё в сторону, Наполеон и резко встал, откидывая со лба прядь волос. Для него битва уже началась.







