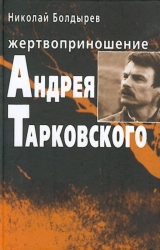
Текст книги "Жертвоприношение Андрея Тарковского"
Автор книги: Николай Болдырев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
Для Тарковского человек, не способный к самопожертвованию, – неподлинный человек. Если мы любим, то жертвуем. Так что для Тарковского это не проблема соревновательности полов. Мир персонажей-мужчин в его фильмах – это мир рыцарей самопожертвования, от Ивана до Александра. Но их служение – не женщине, а сакрально-изначальному в человеке и в космосе.
На поверхностный взгляд может показаться, что раз Тарковский сформулировал сущность женщины как "подчинение и унижение себя из любви", то сущность мужчины должна им пониматься как некое торжествующее повелева-ние. Однако это не так. Вспомнив еще раз самоотрешающуюся, жертвенно-страдательную сущность его героев, мы понимаем, что если бы ему пришлось отвечать на вопрос, в чем сущность мужчины, то он, скорее всего, повторил бы ту же формулу – "в подчинении и самоумалении из любви"*.
* В реальной анкете на вопрос, в чем сущность мужчины, Тарковский ответил: "в творчестве", что для художника равнозначно ответу: "в любви".
Различие лишь в адресе и адресате этого подчинения. Если женщина представительствует роду и духу Земли, то мужчина – Небу и космосу. Как и положено "рыцарю", мужчина взваливает на себя более тяжелую ношу, однако смысл земной миссии мужчины и женщины один и един: служение духу в себе и, соответственно, во всем, ибо дух вездесущ. Смысл жизни для нас – в возвратном обожении мира, в поднятии его, насколько позволяют силы, из низин опошленности, в восстановлении Творения в его изначальном статусе. И начинать надо с ближайшего от тебя, с ближнего – с ближнего человека, лица, вещи, пейзажа. Но ведь наиближайший – это ты сам, повернувшийся лицом к своему духу и отдавший свою плоть и душу ему в подчинение. А затем семья, в которой женщина-созидательница подчиняет себя мужчине как духу и вдохновляет его на творчество, связанное с выходом "в космос" большего диапазона, чем семья. Женщина, созидающая если не священный, то просто гармонический брак, поднимающая его из сегодняшних пучин и грязных луж, созидающая здоровую семью ("святую семью", по терминологии В. Розанова), – что может быть величественнее? Что может быть космологичнее, чем возврат земному пейзажу гармонии инь и ян, то есть истинно (в соответствии с законами космоса) женского и мужского начал?
(4)
Случайно ли Тарковский употребил слово "растворение", "раствориться в..."? Является ли этот процесс сущностью одной только женщины? И что вообще есть растворение, когда речь идет о человеческом существе, где духом синтезированы душа и тело?
Растворение есть динамический, длящийся акт медитации, в процессе которой ты находишь "себя" в другом.
В "Андрее Рублеве" Тарковский дает напряженно-эротическую по атмосфере сцену прощания Андрея и Данилы с удивительным для Рублева монологом: "Исповедаться должен. Примешь?.. Не смогу я без тебя ничего. Сколько лет в одной келье прожить... Твоими глазами на мир гляжу, твоими ушами слушаю, твоим сердцем... Данила..." Оба плачут, после чего Андрей целует Даниле руку.
Чего-чего, а уж самозаконно-тщеславного самоутверждения Рублева в своей самости, в своем таланте мы отсюда никак не вычитаем, тут иные истоки творческого поведения. Женственность рублевского дара здесь очевидна. Творчество для Тарковского есть во многом способность саморастворения в том "космическом порядке", который на самом деле всегда рядом – рукой подать. В этой способности касаться трепетной рукой и затем растворяться, проходить через опыт растворения и через это возвращаться в "себя" новым, более пластичным, то есть познавшим еще одну грань "сердца мира", – Рублев у Тарковского и осуществляет и свой крестный путь, и свое творческое самостановление. "Самость" в нем словно бы выгорает, остается эссенция, выгорают "чувства", остается, точнее, возрастает, обнаруженный и воплощенный "дух". И "дар смотрения на мир глазами любимого", через что проходит отрок и мужчина Рублев, его не только не разрушает и не выхолащивает, совсем напротив, с точки зрения автора фильма – это дар, без которого медитация творчества просто невозможна.
Рублев вновь и вновь "растворяется": в языческих "оргиях", в весенних паводках природы, в Дурочке и ее судьбе, в Даниле, в опыте и опытах Феофана Грека, в отчаянии Бориски... Рублев женствен, и все потому, что "младенческое" в нем волшебным образом еще не умерло, еще бьется. Ведь младенец не знает, мужчина он или женщина.
И потому так пластически-женственно, неотвлеченно звучит из уст Андрея монолог – цитата из апостола Павла: "Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан... Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем..."
Из этого монолога исходит важнейший для Тарковского внутренний посыл: не познавший опыта любви потерпел самое сокрушительное поражение на этой Земле. В своем пафосе сравнения любви со всеми мыслимыми дарами, дарованиями, моральными подвигами, предельными достижениями в познании ("знаю все тайны") апостол и вместе с ним Рублев вновь и вновь ставят любовь на непостижимо высокое место, так что совершенно ясно: она здесь имеет изначально сущностную, а не моральную значимость, свидетельствующую о некой трансформации, которой не дает ни "знание тайн", ни "дар пророчества", ни даже сама вера.
И вот вам ответ швейцарской журналистке.
Таков Андрей Рублев – растворяющийся. Но таков же, по Тарковскому, вообще подлинный художник: он творит на восточный, не на западный лад, он не самовыражается, не свои преходящие, плотско-душевные боли, впечатления и радости воплощает на холсте или в звуках, а находит свой дух в "акциях любви" к другому: лицу, пейзажу, мысли, предмету – как это делал Питер Брейгель Старший или Иоганн Себастьян Бах.
Потому-то японское средневековье так Тарковского и привлекало. Он неизменно восхищался, например, хокку Басё, прокомментировав однажды процесс их восприятия так: "Читающий хокку должен раствориться в нем, как в природе, погрузиться в него, потеряться в его глубине, утонуть, как в космосе, где не существует ни низа, ни верха. Художественный образ в хокку глубок настолько, что глубину его просто невозможно измерить. Такой образ возникает только в состоянии непосредственного прямого жизненного наблюдения..."
(5)
Считать фильмы Тарковского неэротичными, сухими может только крайне наивный или крайне невнимательный зритель. Здесь все пропитано влажным огнем, синонимичным мировому эросу. И мужчина здесь спасается эросом, и это настолько сущностно для Тарковского, что в последней кинокартине спасительницей мира становится "ведьма Мария", отдающаяся Александру в акте жертвенно-сострадающей, в подлинном смысле сердечной любви* и тем снимающая с героя (и через него, давшего обет Богу, с мира) губительное заклятье безбожности.
* Тот, кто внимательно еще раз посмотрит эти сцены, не сможет не поразиться парадоксальнейшему характеру этого "соблазнения" и затем "соития". Здесь очевидна магически-христианская подоплека, соединение как бы несоединимого, здесь явные черты возврата к некоему древнему забытому ритуалу.
Этот внезапный и весьма парадоксальный сюжетный поворот чрезвычайно много говорит об индивидуальном мироощущении Тарковского, о его интуитивном понимании сути мировой дисгармонии, рокового дисбаланса, роковой болезни человечества. Вернется на землю сакральный эрос – и мир будет спасен, – так в самой элементарной форме можно сформулировать одну из скрытых мыслей картины.
Вообще говоря, физическая близость мужчины и женщины в фильмах Тарковского (не только в "Жертвоприношении") – это всегда сокровенный акт воспарения, замедленного, "космического" полета, экстаза, отрыва от Земли. И любопытно, что, когда однажды по сюжету (в "Ивановом детстве") герои пытаются сойтись, одолеваемые обычной чувственностью, Тарковский моментально выдает соответствующую метафору: Маша в объятиях Холина зависает над черным провалом "могильного" рва.
Еще до "Жертвоприношения" мужчина в фильмах Тарковского бродит в "женской" стихии, ищет исцеления, взывает к женщине-целительнице, но она его не слышит. Впрочем, в "Зеркале" этот конфликт лежит на такой глубине, что фактически непереводим в словесный ряд. Женщина здесь (женщина-мать, женщина-жена, женщина – жена врача, девочка, в которую влюблены военрук и Алексей) владеет миром и во многом творит его, как бы руководя волшебством света, цвета и пластики, она дирижирует "жизненной магией" и спасающе хранит душу мальчика-героя в созвучиях духовных Баховых ритмов. Кстати, эту сквозную пропитанность фильма женской стихией, где мать выступает как животворная созидательная сила, сам режиссер осознал не сразу. "Я просто всем обязан матери. Она на меня оказала очень сильное влияние. Влияние – даже не то слово. Весь мир для меня связан с матерью. Я даже не очень хорошо это понимал, пока она была жива. И только когда мать умерла, я вдруг ясно это осознал. Я сделал "Зеркало" еще при ее жизни, но только потом понял, о чем фильм. Хотя он вроде бы задуман был о матери, но мне казалось, что я делаю его о себе. Как Толстой писал "Детство. Отрочество. Юность". Лишь позже я осознал, что "Зеркало" – не обо мне, а о матери".
Вообще во всех фильмах Тарковского побеждает не разум, а интуиция, глубинный инстинкт. Побеждает женственное начало не только мира, но и самого мужчины, побеждает "слабость и гибкость", "свежесть и нежность", по определению Сталкера, неустанно взывавшего к духу Лао-цзы. И совершенно закономерно появляется спасительница Мария в финале творчества. Кстати, в первом сценарном варианте фильма мистико-эротический характер спасения героя (а не мира, как в "Жертвоприношении") женщиной был проявлен значительно резче и четче. Вот как описал это сам автор в "Запечатленном времени" (немецкое издание):
"Первый вариант назывался "Ведьма", в центре его действия предполагалось странное исцеление смертельно больного мужчины, которому его домашний врач открыл всю ужасную правду о его очевиднейшем близком конце. Больной понимает свою ситуацию; узнав, что приговорен к смерти, он приходит в отчаяние. Но вдруг однажды в его дверь раздается звонок. Перед ним возникает человек (прототип Отто, почтальона в "Жертвоприношении"), который, словно бы в соответствии с некой традицией, передает весть, что он. Александр, должен пойти к одной обладающей чудесной магической энергетикой женщине, прозываемой ведьмой, и переспать с ней. Больной повинуется, познает божественную милость исцеления, что вскоре и констатирует изумленный врач, его друг: Александр совершенно здоров. Но потом внезапно та женщина, ведьма, появляется сама; она стоит под дождем, и тут еще раз происходит непостижимое. Повинуясь ее воле, Александр бросает свой уютный, прекрасный дом, расстается с прежним своим существованием, выскальзывает из дома в стареньком пальто, похожий на клошара, и исчезает с этой женщиной.
Это, резюмируя, история жертвоприношения, но также и спасения. То есть я надеюсь, что Александр был спасен, что он, как и тот персонаж в снятом мною в Швеции в 1985 году фильме, исцелился в смысле гораздо более емком, нежели простое избавление от болезни, пусть даже и смертельной, исцелился в нашем случае благодаря женщине..."
Удивительно, что этот сюжет явился Тарковскому еще до того, как он почувствовал и узнал, что смертельно болен. То есть для него важнее был момент жертвоприношения – безрассудство дара, которое в окончательном варианте фильма выступает намного ярче и эффектнее, подчеркнутее. Александр отказывается от дома, от малыша, позволяя счесть себя безумным и уходя в пожизненное речевое безмолвие.
Сюжет исцеления соитием с женщиной, обладающей тайным знанием, уходит в те исторические временные глубины, когда человек считался с духом. Однако и во вселенной Андрея Тарковского, если мы всмотримся и вслушаемся, все, что связано с женщиной, пронизано этим древним духом постижения ее космического служения. И потому одновременно: восторг и ужас. Это ясно уже из того, как Тарковский относится к материи, к вещам (материя – это женское начало, мать-материя, в то время как дух – мужское): материальный мир у него пронизан духом, священный брачный союз здесь, в таинстве творческого процесса, уже свершился. И восстание Тарковский поднимает в своем творчестве не против материи и материального во имя духа (как он декларирует часто в интервью и текстах), а против бездуховной материальности и плоти.
Литургические черты в отношениях Криса и Хари не могли не броситься в глаза еще зрителям "Соляриса". Возлюбленная, даже в оболочке антиматерии, для автора и его героя – нечто много большее, чем просто женщина, и потому Крис встает перед ней на колени.
В "Зеркале" же это отношение к матери и возлюбленной настолько многомерно пронизывает ткань фильма во все мыслимые стороны и во все "подтексты", что ткань просто вибрирует. Строки "Первых свиданий" Арсения Тарковского, звучащие в фильме, проникнуты сквозным пафосом священнодействия – как главного чувства при общении с любимой. Свидание – "как богоявленье". "Алтарные врата отворены..." "И ты держала сферу на ладони..." Чувства, почти смешные в нашу эпоху.
Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявленье,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла.
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.
Когда настала ночь, была мне милость
Дарована, алтарные врата
Отворены, и в темноте светилась
И медленно клонилась нагота,
И, просыпаясь: «Будь благословенна!» -
Я говорил и знал, что дерзновенно
Мое благословенье: ты спала,
И тронуть веки синевой вселенной
К тебе сирень тянулась со стола,
И синевою тронутые веки
Спокойны были, и рука тепла.
А в хрустале пульсировали реки,
Дымились горы, брезжили моря,
И ты держала сферу на ладони
Хрустальную, и ты спала на троне,
И – Боже правый! – ты была моя.
Ты пробудилась и преобразила
Вседневный человеческий словарь,
И речь по горло полнозвучной силой
Наполнилась, и слово ты раскрыло
Свой новый смысл и означало: царь.
На свете все преобразилось, даже
Простые вещи – таз, кувшин, – когда
Стояла между нами, как на страже,
Слоистая и твердая вода.
Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как миражи,
Построенные чудом города,
Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы поднимались по реке,
И небо развернулось перед нами...
Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.
В этой тональности и заключена суть постижения эроса Арсением Тарковским, отцом режиссера, какого бы стихотворения "о любви" мы ни коснулись.
Отнятая у меня, ночами
Плакавшая обо мне, в нестрогом
Черном платье, с детскими плечами,
Лучший дар, не возвращенный Богом,
Заклинаю прошлым, настоящим,
Крепче спи, не всхлипывай спросонок.
Не следи за мной зрачком косящим,
Ангел, олененок, соколенок.
Из камней Шумера, из пустыни
Аравийской, из какого круга
Памяти – в сиянии гордыни
Горло мне захлестываешь туго?
Я не знаю, где твоя держава,
И не знаю, как сложить заклятье,
Чтобы снова потерять мне право
На твое дыханье, руки, платье.
Кажется почти невероятным, что режиссер, интуитивно постигший сущность эроса как важнейшего звена в том возвратном обожении мира, которое следует неустанно творить, нашел в своем отце поэта, чей "поэтический эрос" мистичен.
(6)
Швейцарская журналистка, специально прилетевшая в Лондон, чтобы взять у Тарковского интервью, не заметила такой бросающейся в глаза черты его кинематографа, как неуклонная "семейственная троичность": отец, мать, сын. Обвиняя режиссера чуть ли не в презрении к женщине, она сама вела разговор как женщина-одиночка, не как мать, или жена, или любящая, в то время как Тарковский постоянно говорил о семье, исходя из семьи как из естественности. Но и в кинофильмах у него эта троичность всюду, даже в "Ивановом детстве", где утрата материнского начала обрекает мальчика на смерть, несмотря на то что мужчины всеми силами пытаются заместить ему и материнскую любовь тоже.
В "Сталкере" девочка по прозвищу Мартышка постоянно в мыслях своего отца. Сталкер – не одиночка. Несмотря на глубочайшее метафизическое одиночество, он семьянин. И глубинные основы этого брака мы уже отмечали; достаточно вспомнить, как открываются двери в их спальню – как царские врата в храме.
В "Ностальгии" Горчакова непрерывно сопровождает дух "отца" – "его" книгой стихов и звучащим их звукорядом – и видения матери-жены. Однако именно "Зеркало" создает миф об идеальной Матери, некой современной Изиде, и в отсутствии мужа и в утрате его продолжающей хранить ему верность и поддерживать миропорядок таким, каким бы он был, если бы Озирис был рядом. И то, что
"Первые свидания", согласно разысканиям Марины Тарковской, посвящены не Марии Вишняковой, для мифологии фильма не имеет никакого значения. Тем более что это всего лишь гипотеза. Дух Матери и дух Отца в фильме внутренне синхронны, гармонически-едины. И в известном смысле женщине этого должно быть достаточно – достаточно верности духу, если, конечно, женщина способна на восприятие брака как ничем и никем не отменяемого события.
У Тарковского есть чудесный рассказ "Белый день", опубликованный в 1970 году, – воспоминание о том, как он с матерью в детстве ходил в Завражье в дом врача Соловьева продавать серьги и кольцо. Частично рассказ использован в сценарии "Зеркала". Удивительного в небольшом рассказе много. Чудесная пластика, многосмысленная недосказанность, аромат неизъяснимости жизни как таковой. Одним словом, рассказ о совершенно бесполезном походе. День, "похожий на затянувшиеся сумерки". Текущая, словно ручей, тишина. Молчаливость окружающих и словно бы наполняющих весь мир растений. Мистическое чувство вещей. Но самое главное – таинственность матери, ее странное, идущее из каких-то неведомых далей поведение. Странная мать, откликающаяся, как и сын, на свои глубинные порывы и в этом равная своему сыну. Два таинственных, не переводимых на рациональный язык островка, плывущие рядом.
И что меня больше всего всегда поражало и в этом рассказе, и в фильме – необъяснимость внезапного, почти панического бегства матери из дома Надежды Петровны. Все трое наблюдают за чудесным ребенком в кроватке. И далее финал рассказа:
"Затаив дыхание, я глядел на него, раскрыв рот и вытянув шею. В тишине раздался счастливый смех Надежды Петровны. Я обернулся и посмотрел на мать. Глаза ее были полны такой боли и отчаяния, что я испугался. Она вдруг заторопилась, шепотом сказала что-то Соловьевой, и мы вышли обратно в прихожую.
– А они идут мне, правда? – спросила ее хозяйка, закрывая за собой дверь. – Только вот кольцо... Как вы думаете, оно не грубит меня, нет? Как вы думаете?
Наш уход был словно побег. Мать отвечала невпопад, не соглашалась, говорила, что передумала, что это слишком дешево, почти вырвалась, когда Соловьева, уговаривая, взяла ее за локоть.
Когда мы возвращались, было совсем темно, шел дождь, так же булькала Унжа где-то в стороне. Я не разбирал дороги, то и дело попадал в крапиву, но молчал. Мать шла рядом. До меня доносился шорох кустов, которые она задевала в темноте.
И вдруг я услышал всхлипывания. Я замер, потом, стараясь ступать бесшумно, стал прислушиваться, вглядываясь в темноту.
Мы молчали всю дорогу, всю дорогу я напряженно вслушивался до звона в ушах, но так ничего и не услышал больше.
В Юрьевец мы вернулись глубокой ночью, продрогшие под дождем. Стараясь не шуметь, я разделся, вытер ноги и осторожно влез под одеяло, стараясь не разбудить сестру".
Удивительная концовка. Тайна хрупкости и уязвимости психики матери, так и оставшаяся тайной.
Думаю, на этой ноте Тарковский и ушел: на этой ноте, мелодии и симфонии тайны, которую представляет собой каждый человек, каждая судьба, и твоя собственная жизнь прежде всего. Та жизнь, которая, однажды начавшись, уже не кончается. Тарковский знал, что продолжение следует.
Созерцатель
(Эпилог)
Завершая книгу и подводя, так сказать, итог, хочу вернуться к мысли, намеченной в предисловии, акцентировав ее. Тарковский, конечно же, был по своей исконной сути созерцателем, в чем он не раз вслух признавался, но этого как-то не сумели услышать, и, я думаю, потому, что в нашем современном западноцентристском обществе созерцательность инерционно воспринимается как некая ущербность. Полагали, что Тарковский признается в слабости. Однако Тарковский на самом деле признавался в своей силе, ибо созерцание – это не только древнейшее на земле искусство, не только высшая форма внимания к миру, но единственный путь к познанию своих истоков.
Древние истины следует открывать заново. И Тарковский заново открыл искусство чистого созерцания, выключающего шумы интеллекта с его постоянным ассоциированием, концептуализацией и символизацией – тщеславной жаждой самодемонстрации. Сущность фильмов Тарковского – молитвенность, смиренная и всепроникновенная, столь мощно и столь радикально замедляющая шаг и взор человека, что он не просто выходит из законов мира бытовой активности, но оказывается в новом измерении: во времени вневременности и в пространстве внепространственности.
Здесь и открывается подлинно неназываемое. К некоему центру в себе подходит внимание созерцателя. Пройдя вместе с Тарковским все стадии успокоения ума и замедления внутреннего движения, он вдруг переходит некую черту (в себе ли, в созерцаемом ли?), где мир как бы останавливается, открывается исконный покой, в котором пребывает вселенная, и созерцатель оказывается в благоговейном акте безмысльного прикосновения к истечению Сути.
Этот созерцательный транс, в котором Тарковский был мастером, на Востоке называется самадхи, являясь главным средством внутреннего освобождения. Р. Блайс, свой человек в дзэн, писал, что "самадхи подразумевает правильное ощущение созерцаемого объекта". Что значит "правильное"? Это значит ощущение его духовного ритма. Но что значит "духовного"? Это значит ритма, в котором вещь пребывает в бесконечности, то есть опять же вне нашего мира конечных целей, но во вневременном времени и во внепространственном пространстве. "Поэтому самадхи – это состояние сознания поэта, который видит вещи такими, каковы они есть". То есть каковы они в своем чистом, бесцельном бытийствовании, не принадлежные ни человеку, ни его разумению. (Помня при этом, что "Я есмь" – это имя Бога.)
Но в созерцании Тарковский не только благоговейно касается тончайших, заветнейших струн мира, сердцевинной сути вещей, но реализует высшую форму любви. Не случайно Горчаков в "Ностальгии" говорит о любви, где раскрывает себя энергия необладания, энергия чистой благоговейной созерцательности ("Ни-каких поцелуев... ничего!.."), как о высшей форме эротического чувства. Впрочем, это хорошо известно поэтам, будучи ярчайше выражено, скажем, в опыте Петрарки или Данте.
Обладание прерывает тот космизм внимания, где более всего страшатся нанести какой-либо ущерб, например нарушить цельность внутреннего ритма "объекта" или отклонить его судьбу. Потому-то и говорится, что высшая (или идеальная) любовь – не от мира сего.
Не случайно и то, что Тарковский вновь и вновь на протяжении жизни возвращался к словам отца, услышанным от него в ранней юности: "Добро пассивно. Зло – активно". Такие обычные, казалось бы, слова, но в устах Арсения Тарковского они звучали для сына не как сожаление, а как констатация сути вещей. И действительно, для Андрея Тарковского добро по самой своей сути пассивно: исполнено энергии недеяния, необладания, проникновенной созерцательной молитвенности, а зло по самой своей сути – активно, обладая всеми обертонами агрессивности. Всюду, где мы наблюдаем активность, мы должны понимать, что имеем дело со злом, в той или иной степени завуалированным. Да, конечно, в нынешнем измерении нашего мира никто из нас не может вполне избежать активности. Да, в значительной мере нынешний человек живет во зле, однако драма в том, говорит Тарковский, что нынешний человек не осознает природу своего зла. Напротив, он полагает, что активность – это добро, не замечая, например, чем на поверку оказывается и к чему ведет американский (или любой другой, скажем имперско-советский) реализуемый лозунг "активного добра" – формула очевидно абсурдная для Тарковского.
Величайшее зло, война, – максимально активна. Величайшее добро в видимом мире осуществляют святые, устанавливающие контакт с тончайшими планами бытия и предоставляющие вещам следовать естественному и непостижимому потоку превращений*.
*Именно потому, думается, внутренний опыт святых так неудержимо привлекал позднего Тарковского.
Суть в том, что зло не может реализовать себя не в активных формах. Зло жаждет разделять, ищет различий, цепляется за различия. Но сам корень добра – благоговейное созерцание предмета (человека) с переходом в "божественное" чувство "я есмь", когда граница между тобой и предметом, прочерченная умом, уходит... "То ты еси..."
Тарковский был великим созерцателем. Что же созерцается в созерцании? Священность бытийствования.
И все же было и на нем родимое пятно той "омраченной просветленности", что столь свойственна его героям. Так, например, на вопрос "Что такое любовь?" Тарковский дает двоякий ответ. Как интеллектуал он говорит: "Любовь – это когда женщина отрекается от себя до самоунижения". И приводит в доказательство или в пример довольно умозрительный образ жены Сталкера с ее неубедительным монологом и убедительными истериками. То есть дает ответ исключительно православного, старинно-русского образца. Но как художник-дзэнец он дает другой ответ, который, если бы его перевести в слова, звучал бы так: "Любовь – это полнота внимания к тому, кто (или что) рядом с тобой. И чем целостнее и глубиннее это внимание, тем мощнее и чище эта любовь, тем она молитвеннее, тем она неназываемее, тем непохожее на что-то, что тебе уже известно из человеческих рассказов о ней".
Альберт Швейцер признавался, что его мышление о мире пессимистично, в то время как воля-к-жизни неизменно оптимистична. То же самое можно сказать о Тарковском. Его мышление, его интеллект, то есть поверхностная часть его личности, претерпевали все драмы и трагедии безысходно пессимистического наблюдения за миром и людьми, но глубинная часть его личности, то живое мистическое чувство, чувство "я есмь", которое пронизывало его интуицию и одновременно истекало из нее, давали ему неслыханно оптимистический запас созерцательности, благодаря которой он вновь и вновь оказывался в истине истоков своего сердца.
Хроника жизни Андрея Арсеньевича Тарковского
4 апреля 1932 – родился в селе Завражье Юрьевецкого района Ивановской области в семье поэта и переводчика Арсения Александровича Тарковского.
1935-1936 – уход отца из семьи.
1939 – поступает в московскую среднюю школу № 554 и в первый класс районной музыкальной школы.
1941 – в конце августа уезжает в эвакуацию в г. Юрьевец на Волге с матерью, сестрой и бабушкой.
1941-1943 – учится в начальной школе г. Юрьевца.
1943, лето – возвращение в Москву.
1947, ноябрь – заболевает туберкулезом.
1951 – заканчивает среднюю школу.
1951-1953 – учеба в Институте востоковедения, на арабском отделении.
1953, апрель – зачислен коллектором в Туруханскую экспедицию московского института Нигрозолото.
1954 – поступает во ВГИК на режиссерский факультет.
1957 – женитьба на сокурснице Ирме Рауш.
1961 – получает диплом с отличием. Принят режиссером на киностудию "Мосфильм".
1961, лето – начало работы над фильмом "Иваново детство". 1962
9 мая – премьера "Иванова детства" в кинотеатре "Центральный";
август – поездка на международный кинофестиваль в Венецию. Главный приз "Золотой лев Святого Марка". Поездка в Индию и на Цейлон.
30 сентября – рождение сына Арсения.
1964 – член жюри Венецианского кинофестиваля;
ноябрь – начало работы над "Андреем Рублевым".
1965 – на Всесоюзном радио создает радиопостановку по рассказу Фолкнера "Полный поворот кругом".
На съемках "Рублева" знакомится с Л.П. Кизиловой, будущей женой.
1966, декабрь – "закрытая" премьера "Андрея Рублева" в Союзе кинематографистов СССР.
1967 – участвует в работе над фильмом А. Гордона "Сергей Лазо" в Кишиневе.
1969, май – внеконкурсный показ "Рублева" на Каннском кинофестивале.
1970 – приступает к фильму "Солярис". Оформляет развод с Ирмой Payш-Тарковской и заключает брак с Л.П. Кизиловой.
7 августа – рождение сына Андрея.
1971 – "Андрей Рублев" выходит наконец на экраны страны.
1972 – читает лекции на Высших режиссерских курсах. Поездка на Каннский фестиваль с "Солярисом". Большой приз "Золотая пальмовая ветвь".
Поездка в Лондон.
1973 – поездка в Уругвай и Аргентину; лета – начало съемок "Зеркала".
1974 – премьера фильма "Зеркало" в Центральном Доме кино.
1976 – работа над шекспировским "Гамлетом" в Московском театре им. Ленинского комсомола.
1977 – съемки кинофильма "Сталкер".
1978 – поездка во Францию;
апрель – переносит микроинфаркт.
1979 – завершение "Сталкера";
апрель – поездка в Италию;
июль – двухмесячная командировка в Италию.
5 октября – смерть матери.
1980, с апреля по сентябрь – поездка в Италию для работы над фильмом "Время путешествия Андрея Тарковского и Тонино Гуэрры" и над сценарием "Ностальгии".
1981 – поездка в Англию, Шотландию и Швецию.
1982, 6 марта – отъезд в Италию для съемок фильма "Ностальгия". Завершение документального фильма "Время путешествия"; конец года – приезд в Италию жены, Ларисы Тарковской.
1983, май – участие фильма "Ностальгия" в Каннском кинофестивале. Три приза;
сентябрь – поездка с женой и К. Занусси на Телорайдский кинофестиваль (США);








