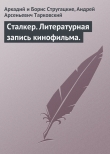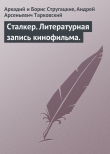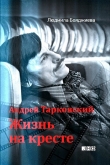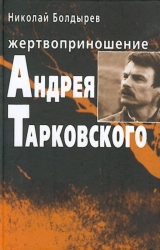
Текст книги "Жертвоприношение Андрея Тарковского"
Автор книги: Николай Болдырев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 33 страниц)
обрел в моих соотечественниках зрителей и смогу продолжать вести с ними диалог и после своей смерти".
А 5 ноября он составил официальное завещание, в котором, в частности, писал:
"В последнее время, очевидно в связи со слухами о моей скорой смерти, в Союзе начали широко показываться мои фильмы. Как видно, уже готовится моя посмертная канонизация. Когда я не смогу ничего возразить, я стану угодным "власть имущим", тем, кто в течение 17 лет не давал мне работать, тем, кто вынудил меня остаться на Западе, чтобы, наконец, осуществить мои творческие планы, тем, кто на пять лет разлучил нас с нашим сыном.
Зная нравы некоторых членов моей семьи (увы, родство не выбирают!), я хочу оградить этим письмом мою жену Ла-ру, моего постоянного верного друга и помощника, чье благородство и любовь проявляются теперь как никогда (она сейчас – моя бессменная сиделка, моя единственная опора), от любых будущих нападок.
Когда я умру, я прошу ее похоронить меня в Париже, на русском кладбище. Ни живым, ни мертвым я не хочу возвращаться в страну, которая причинила мне и моим близким столько боли, страданий, унижений. Я – русский человек, но советским себя не считаю. Надеюсь, что моя жена и сын не нарушат моей воли, несмотря на все трудности, которые ожидают их в связи с моим решением" ("Известия", 2004, 3 апреля).
Воля покойного (скончался 29 декабря в парижской клинике) была исполнена, и Тарковский был похоронен (5 января 1987 года) на русском кладбище городка Сент-Женевьев-де-Буа в пригороде Парижа, вначале на временном месте. Через год было перезахоронение. Отпевание проходило по православному чину в храме святого Александра Невского. На ступенях церкви любимую Тарковским мелодию Иоганна Себастьяна Баха играл великий виолончелист Мстислав Ростропович.
"Человеку, видевшему ангела" – такую надпись жена Тарковского заказала выбить на его надгробной плите из пиренейского темно-зеленого гранита. В одном из интервью она объяснила эту надпись тем, что Андрей Арсеньевич всю жизнь мечтал снять в какой-нибудь из своих лент ангела. Однако по разным причинам это не получилось или не случилось. И вот эту его, как считала жена, затаенную мечту, о которой он не говорил никому, она вынесла на надгробье. В наивной форме здесь, как ни странно, выражено очень важное. Тарковский несомненно видел ангела каждой вещи, к которой прикасался как художник и как метафизик, видел ангелов и духов пейзажей, с которыми имел дело, духов вод, дождей, деревьев, трав. Все это совершенно очевидно для внимательного зрителя. Видел он, быть может, и ангела человека в человеке. К этой теме он, собственно, и подбирался в финальных своих сценариях, которые не успел осуществить. Так что в известном смысле тема ангела, мелодия ангела – ведущая в его кинематографе, раскрывающем святость и священство нашего дальнего мира, показывающем те условия, при которых этот мир согласен впустить нас в святая святых. Я бы даже сказал, что взор камеры Тарковского – это и есть во многом именно ангелический взор, взор почти бесконечно неторопливый, величаво-отрешенный и одновременно благоговейный и именно потому вводящий нас в Реальность: в пространство внутри пространства и во время внутри времени, говоря словами самого Тарковского.
После смерти мужа Лариса Павловна продолжала жить с семьей в Италии и во Франции. Одной из первых ее акций была подготовка к изданию и издание избранных страниц дневников великого режиссера. Первыми эти солидные тома вышли на немецком языке. С тех пор они были переведены на многие языки мира. Не выходили лишь на языке оригинала. Такова Русь, такова судьба Тарковского*.
* Удивительно ли, что дом на Щипке, где прошли детство и юность Тарковского и где планировалось открыть музей его имени, был все же снесен?
Чара Бога
Наверное, не было более интригующего вопроса, чем этот: что произошло бы с Тарковским и с его творчеством, не порази его столь внезапно болезнь? "Жертвоприношение" ошеломило многих предгрозовой своей атмосферой, огромным сгущением туч при отсутствии традиционных для режиссера струящихся потоков и дождей. Не упало сверху ни капельки – только сгущается облачность в ожидании могучей непогоды и приходящего с ней грозового очистительного пламени. А приносит ожидание сухую, неплодородящую, безливневую грозу – грозу с одним только огнем. Так и завершилась мировоззренческая жизнь Тарковского.
Но очевидно, что намечалась настоящая, гармоническая гроза с молниями – и с ливнями. Что это была бы за гроза, и что за новый огонь, и какие плодоносные дожди пошли бы затем, какие хлынули бы ливни? А то, что они бы хлынули, – несомненно: накопление материала и идей в последнее десятилетие шло интенсивное, возникала своего рода прессовка нереализованных, но продуманных до мелочей, до мизансцен проектов, так что этот интеллектуально-образный "гумус" уже как бы сам собой переходил в некое новое качество. Можно сказать, что это новое качество было производным всей той безысходности житейской, которая именно потому должна была излиться в творческом процессе, в поиске нового миросозерцания.
Основания для этого нового миросозерцания уже были заложены немалые. Были задачи духовного воина (почти в соответствии с донжуановским учением Кастанеды), к решению которых Тарковский уже подбирался. Скажем, к внутреннему "стиранию личной истории"), проиллюстрированному им средневековой японской сагой о странствующем анонимном художнике, постоянно расстающемся с собой вчерашним. Достаточно вспомнить его Рублева или Горчакова, не говоря уже о последней ленте. Вообще внутреннее движение в направлении "неизвестности самого себя" Тарковский проделал огромное. Знаменитая даосская техника "неделания" (описанная Кастанедой, но до Тарковского эти тома не дошли) в картинах режиссера предстает блестяще разработанной и реализованной во множестве потоков и нюансов: как обновление форм и даже самих принципов созерцания мира.
Тарковский весьма близко подошел и к так называемому второму вниманию – к способности созерцать и ощущать мир "умом тела", принципиально внеинтеллектуальными рецепторами. Список его достижений "ловца духа" можно было бы продолжать.
Но, помимо этого, шли интенсивные "опыты". У Тарковского были подробные разработки нескольких фильмов по Достоевскому (в том числе "Двойник" по мотивам его биографии и прозы), было ясное внутреннее видение двух фильмов по Толстому – "Бегства" и "Смерти Ивана Ильича". Далее шли Гофман, шекспировский Гамлет, "Искушение святого Антония" – это лишь самый краткий перечень. Все эти замыслы кипели в котле его интенсивнейших продумываний, проходивших отнюдь не в направлении чисто эстетического на зрителя воздействия. Здесь именно-таки вырабатывалось новое миросозерцание, то новое миросозерцание, где две до сих пор расходящиеся или шедшие параллельно тропинки "сада Тарковского" – дзэнское всеприятие "мира сего" и исконно-христианское его неприятие, устремленность в потустороннее (в глубины мироотрешенности) – должны были таинственным образом сойтись. И не просто сойтись – слиться в естественной гармонии.
Современный человек внутренне раздроблен, расщеплен, погружен в безумие бесчисленных "специализаций". Все мы больны страшной болезнью – расколотостью сознания, где плотское выступает как всецело плотское, а духовное как нечто оторванное от земли и чувственности. Тарковский страдал от этой болезни, как страдают немногие, понимающие весь ее ужас. Страдал и искал выхода, искал пути к возврату в целостность.
Задача стояла нешуточная: найти путь парадоксального примирения двух мироощущений – западно-христианского, стоящего на платформе убежденности, что изначальная природа человека греховна, и восточно-дзэнского, уверенного, что изначально, исходно сознание и чувственность человека чисты. В чем же исток греха? Эта мысль-вопрос не оставляла Тарковского. Герои его внутренне устремлены в потустороннее, в его исходную благость и святость, прочь от тела, в то время как сам метод режиссера, интуиция его взора (то есть формы выражения его интуитивной философии) раскрывали уникальную тайну священности всего без исключения – здесь и сейчас. Получалось так, что интуиция режиссера, равно как созерцающее внимание зрителя, знали об этой дзэнской тайне мира, но герои фильмов мучительно брели хотя и поблизости от нее, но все же не в ней. Когда же они откроют ее? И если откроют, то что произойдет? Каким окажется этот новый человек, новый герой, не различающий мирское и священное (ибо все для него свято), видящий неразрывное единство плоти и духа и потусторонне ощущающий в каждом мгновении этого конкретного, текучего времени?
Потому-то Тарковскому так хотелось в зарубежный свой период даже не столько снимать, сколько "поосмотреться в мире", постранствовать, понаблюдать за происходящим вокруг в ритмах отрешенности, побыть по-настоящему наедине с самим собой, с природой, "всерьез позаниматься медитацией, буддизмом" (из дневника). Его душа искала этот переход, этот тоннель между двумя мирами.
Роковой диагноз сломал естественное течение, и все потекло уже в трагически-изломанных рамках. Тарковский имел лишь короткие передышки от болей, чтобы работать над новыми замыслами. Что же владело его воображением вблизи реально надвигающейся смерти?
27 января 1986 года Тарковский писал в дневнике: "Если и в самом деле снова смогу работать, то придется сделать выбор между: "Гамлет", "Святой Антоний", "Евангелие по Штайнеру (Голгофа)"".
31 января: "Если выживу, что буду снимать: Апокалипсис или историю Иоанна Крестителя? Гамлета? Святого Антония?
Гамлет – слишком известен и вторичен. Святой Антоний – тема интимного характера, идущая, с другой стороны, в глубину. Евангелие по Штайнеру? Важна ли вообще для меня эта тема? Я хотел бы, чтобы она была для меня важна. Смогу ли ее осилить? А что, если вместо всего Евангелия взять из него лишь один эпизод?
Ясно одно – если я буду это снимать, то дай Бог, чтобы я отважился на нечто, к чему действительно готов..."
Здесь очевидно и явно речь о некой новой, качественно новой готовности.
Из списка этих реальных (что может быть реальнее того, что является перед лицом смерти?) идей видно, что все будущие его персонажи – это те, кто либо бежит от общества, либо не принимает его, его законов, тех законов, по которым все высокое должно прислуживать низкому. Все они не приемлют тот пафос профанации, которому подвержено сегодня все, так что священное и святое именуются в этом мире чем-то случайным, в принципе ему не свойственным. (Но если это так, то можно ведь, конечно, и распоясаться?..)
Тарковский готовился к религиозному кино и в самом прямом, то есть сюжетном значении слова. Штайнер, на которого он хотел опереться, рассматривал Иисуса Христа как великого Посвященного, полностью реализовавшего в себе внеличностный абсолют. "Жизнь посвященного, – писал философ, – является типической, и ее можно описать независимо от отдельной личности. Более того, об отдельной личности можно лишь тогда сказать, что она стоит на пути к божественному, если она прошла через типические переживания. Такой личностью был для своих последователей Будда; такой же явился для своей общины Иисус". Для Штайнера Иисус – это "воплощенная мистерия", что, безусловно, было близко Тарковскому, мир и само сознание воспринимавшему мистериально.
По Штайнеру, в полном соответствии с легендой о древнеиндийском Пурушу, Бог принес себя в жертву: "В бесконечной любви Он отдал сам Себя, излил Себя в многообразие вещей..." И вот человек может возвратно "творчески освободить Его". Все это было очень близко Тарковскому, который, подобно Альберту Швейцеру, чувствовал в жертвенности важнейшее звено в устройстве мироздания. Один из способов для человека пробудить себя к духовной жизни (реанимировать атрофированную "половину твоего существа") – жертвенность. В немецком издании "Запечатленного времени": "Говоря строго и по большому счету, человек, не чувствующий в себе хотя бы в самой скромной мере способности
пожертвовать собой во имя другого или во имя дела, перестает быть человеком. Он обменивает свою жизнь на существование механически функционирующего робота... Разумеется, мне известно, что сегодня мысли о жертве весьма далеки от популярности – едва ли у кого возникает желание пожертвовать собой за другого или за что-то. Решающими, однако, остаются неумолимые последствия такого поведения: потеря индивидуальности ради еще более ярко выраженного эгоцентризма, определяющего не только межличностные отношения, но и взаимодействия целых групп населения в их совместной жизни. Но главным образом это потеря последней, еще остающейся у нас возможности вернуться к духовному развитию вместо материального "прогресса" и тем самым вновь сделать возможным достойное существование".
Один из путей "самопожертвования" – жертвование частью плотских интересов ради того, чтобы освободившаяся энергия обратилась к реанимации духовных импульсов.
В штайнеровском Христе, идущем к Богу путем возвратной жертвы, несомненно был этот потенциальный желанный переход меж двух тропок "сада Тарковского". Штайнер, например, писал: "Бог не открыт для твоих чувств и не открыт для рассудка, объясняющего тебе чувственные восприятия. Но Бог зачарован в мире. И чтобы найти Его, ты должен воспользоваться Его собственной силой. Эту силу ты должен пробудить в себе". Это очень по-дзэнски. Бог именно "зачарован в мире". То есть мир изначально обожен, как говорили христиане-исихасты. И раз эта "чара Бога" присутствует в веществе, в плоти мира, то человек может раскрыть ее, воспользовавшись для этого "божественной силой" в самом себе. Так что не только Иисус из Назарета, но и все другие кандидаты на роль главного персонажа у Тарковского (святой Антоний, Иоанн Креститель, Лев Толстой) абсолютно достойны ангелического взора его камеры, ибо пространство их жизненного поиска – подвижнический труд раскрытия в себе богосвященства. И через это, посредством этого как раз и свершается то возвратное обожение мира, тот великий Возврат, о котором Тарковский много думал, писал и говорил вслух.
Тарковский, собственно, только это и делал в жизни – открывал "божественную силу" в себе. Теперь это предстояло продолжать уже на вполне осознанном уровне. Во всяком случае, он шел именно в таком направлении. Отсюда этот его поразительный духовный масштаб, перед которым снимали шляпу и Ингмар Бергман, и Антониони, и Анджей Вайда. Последний говорил: "...Тарковский не мог не знать, что именно на него Господь Бог указал перстом и этим, скажу так, его осчастливил и одновременно покарал. И все же он взвалил на себя этот крест..."
Именно так: счастье и страданье были неразличимо слиты в этой великой жизни и судьбе. И произошло это потому, что Тарковский по своей сути принадлежал к плеяде людей героических, ибо только герой (вспомним его давнюю ссылку на атланта) добровольно взваливает на себя крест, или, если проще, ставит перед собой задачу невероятно дерзкую, не боясь показаться смешным и уж во всяком случае понимая, что, вступив на столь "узкий" путь, он обрекает себя на великое внутреннее одиночество.
В век развлекательно-эстрадного кино, кино, провоцирующего в людях зло, играющего и проституирующего на этом, Тарковский осмелился на свой собственный страх и риск создать религиозный кинематограф, и не какой-нибудь бряцающий внешними эмблемами религии, а подлинно и сущностно религиозный, поставив в центр своих картин человека, для которого жизнь вне Бога – чудовищный и кощунственный грех, прямая и непосредственная угроза всему живому царству Земли. Тарковский не побоялся выглядеть наивным доктринером, романтиком, забредшим в наш циничный и распутный век. Не побоялся именно потому, что не был ни доктринером, ни наивным мечтателем – но человеком, которому изуродованность современной души приносила ежедневные и почти невыносимые страдания. И он не мог жить без того, чтобы не пытаться непосредственно сейчас и здесь выполнить эту очевидно невыполнимую титаническую работу – вернуть сдвинутый центр человеческой души, ее "космическую ось" на изначально предназначенное ей место. Но разве может поэт, взявшийся поднять такой вес, такую махину, не надорваться?
Взглядом Пришельца
"Для того чтобы написать главную книгу, единственно правдивую книгу, настоящему великому писателю не нужно ее выдумывать (в современном понимании этого слова), поскольку она уже заложена в каждом из нас; он должен лишь перевести ее..." – говорил Марсель Пруст.
"Мой Вебстеровский словарь 1865 года издания определяет слово "перевод" (translation) как "перенесение из одного места в другое, вознесение на небеса при жизни". Нам как раз и нужно искусство, которое перенесет нас на небеса подлинной реальности до того, как "мы умрем, так и не познав ее"", – комментирует Пруста поэтесса Дениза Левертов.
Искусство Тарковского и было как раз таким переводом его главной книги, заложенной в нем, на язык кинематографа. Именно поэтому биография Тарковского как бытового лица из пространств Москвы, Рима и Флоренции не может не быть дополнена смыслами и сюжетами его художественного ландшафта. Трудно даже сказать, какой из двух этих пейзажей более определяет и высветляет другой.
И еще одно предуведомление.
Современное молодое поколение, увы, фактически не знает кинематографа Тарковского, так как судит о нем чаще всего по видеокассетам. Между тем, как заметил Эрланд Йо-зефсон, "показывать фильмы Тарковского по телевидению почти преступление, ибо они сделаны для большого экрана...". И речь здесь идет не столько об эстетическом эффекте (почти любой фильм на большом экране выигрывает), сколько о сущностном содержании картины. Уходит плоть кинофильма, остаются его кости, имеющие в нем лишь очень малое значение.
Когда мы в свое время смотрели фильмы Тарковского на большом экране, впечатление каждый раз было уникальным: на нас находил некий особый род отрешенности, нечувствительности к миру себя прежнего, себя внешнего. Экран забирал даже не наше внимание, а наше тело, и мы тонули в громадно-значимых и одновременно неизъяснимо-таинственных деталях и мелочах вещного и природного мира, включенных в особого рода, только у Тарковского встречающийся космизм. Эта мистическая очерченность деталей и нюансов, не вписанных ни в какие сюжетные линии, но живущих самоценной жизнью некоего наиважнейшего измерения, – решающая черта кинематографа Тарковского, почти совершенно исчезающая в телевизионной версии. Так что фактически ни о какой метафизичности, ни о какой телесно-пластической философичности, ни о какой медитационности его кинематографа невозможно говорить тому, кто пользуется телевизором. Такой зритель получает эрзац, где утрачены "подводные" основания потока внутрикадрового сверхзамедленного действия (для того и замедленного, что там происходит нечто, во что необходимо войти "телесно", неким внутренним безмолвным присутствием) и невольно подчеркнуты "сюжетные" и "идео-логическо-психологические" мотивации, имеющие у Тарковского самую последнюю, весьма несущественную значимость. У зрителя появляется соблазн оценивать его картины с позиций сюжетно-психологического действия, что абсурдно. Слова начинают приобретать какую-то претенциозную важность, в то время как на большом экране они растворены в громадном по весомости ландшафте, подобно шуму дождя, или треску костра, или перестуку колёс.
Реквием вещей (1)
Этот рубленый старый дом под жестяной красной крышей... Когда я прохожу мимо... что-то задерживает мой взгляд и не отпускает. Может быть, идеальное состояние этого русского дома со ставнями, покрытыми белилами? Идеальное при явной его древности. Впрочем, и другие дома на этой улочке, примыкающей к гигантскому четырнадцатиэтажному лайнеру, врезавшемуся в этот тихий жилой залив, – тоже из древа. Но их древность не так очевидна. На этой улочке ощущение древности, которая из древа, меня охватывает каждый раз. Хотя мало ли я видел хат и домиков? Может быть, все дело в том, что я поселился здесь неподалеку, правда отнюдь не в древном – в каменной распашонке на девятом этаже, – и чувствую себя снова жильцом барака, как когда-то в детстве. И быть может, сейчас во мне заговорила тоска по своему дому, ведь из барака мы переехали именно в свой, древный дом, когда мне исполнилось пять лет...
Но нет у меня никаких таких мыслей. Я не вспоминаю наш дом под зеленой крышей с черемуховым садом. Нет, в доме под красной крышей, мимо которого я иногда по утрам прохожу, меня притягивают не мысли, но сама фактура этой бревенчатой рубленой стены – идеально ровной и темной от солнца и дождей, некие тайные вибрации, идущие от нее. А если еще точнее – мое чувство этой стены. Вот, пожалуй, и всё. Такое простое, но такое древнее ощущение. Но по мере того, как я в него погружаюсь, оно невероятно усложняется, вводя меня в глубины рода, родовой патриархальности, доводя до какого-то почти отчаяния, то есть до того, что уже не знаешь, чего чаять, на что надеяться. Мне хочется, чтобы бревна вдруг заговорили. Вступили в заговор? Вышли из него? С кем у них заговор? Ах да, со мной чтобы заговорили. Но я знаю, что выйти им из себя невозможно. И я чувствую, что вместе с ними что-то неисцелимое, неизмеренное, непознанное и неоцененное уходит. Уйдет, как однажды последний рубленый дом.
Я ощущаю, как что-то громадное, к чему я только что прикоснулся, вот-вот уйдет из меня. Быть может, насовсем. И останется безысходность.
Мне кажется, что эти стены стоят непонятые. Хотя бы в том смысле, в каком все же были поняты грубые крестьянские башмаки Ван Гогом. Конечно же, о башмаках и Ван Гоге я тогда и думать не думал. Я был всецело захвачен этой стеной. Самой по себе, вне всякой связи с тем, что могло бы быть за нею, в пространстве дома. Стена излучала Нечто...
Вспомнилось вдруг, как много лет назад живописец, в картины которого я был влюблен, рассказывал о магической сценке из детства, определившей его выбор профессии. Была в его детстве облезлая кирпичная кладка старой трансформаторной подстанции, с множеством ложных дверей-ниш. Стояла подстанция в углу двора между зарослями пыльной сирени и гаражами. Вид этой каменной стены в подтеках, выбоинах и пятнах, с чередой наглухо забитых дверей, сама фактура этой стены, ее, как он выразился, "текстура" необычайно волновали ребенка каждый раз, когда он, замедляя шаг, проходил мимо. "Вид этой кладки поразил меня однажды невероятно... С этого необъяснимого чувства, с этого волнения и притяжения все и началось..." Что, собственно, началось? Замедление шага? Отстраненность от игр с друзьями? Поиски уединения ради приближения к этому? Странная тяга к этому отверженному месту? В детстве мы, подобно Ахматовой, стережем заросшие крапивой и лопухом окраины жизни, ее потемки, ее магическую, но непонятно почему священную фактуру.
Мальчика, будущего художника, волновала, вероятно, именно эта священность, исходившая от стен. Но священность мы замечаем только там, где нечто смиренно и самозабвенно утрачивается. То, что не утрачивается, почему-то не раскрывает нам своей священности. Есть ли она, нет ли – мы не знаем. Мы знаем только то, что нам открывается. Но открывается нечто в момент утраты, в момент, когда это нечто вступает в связь с обреченностью. Эта священность обрекается нам. Ахматова была удивительно обреченным человеком. Обрученная с речью, она завороженно вслушивалась в стоны осколков и задворков бытия – того, которое сиюминутной ее нынешней жизнью было заранее обречено. Почувствовав эту обреченность своей крапивно-лопушиной отчизны, миражность Фонтанного – дома с фронтонным музейно-траншейным богом, его бесконечную ироничность, она ощутила их неисповедимую отныне и присно и во веки веков священность. И охранной грамотой этой разрушенной обители стали отныне ее стихи. Ведь дом – это и есть некое священное царство обреченности, которое мы всю жизнь пытаемся отыскать.
Мальчишка, остолбенело стоящий перед облупившейся, с подтеками, каменной стенкой трансформаторной будки, почему-то напоминает мне о священном времени в фильмах Тарковского. Отсюда идет эта магия длительных панорам в его картинах, странно-внимательного прикосновения к фактуре интерьеров и внешних, утаивающих что-то форм. Но это их скрытое священство открывается лишь в эпоху утраты, распада, обреченности, казненности, приносимости в жертву.
В лентах Тарковского перед взором проходит кладбище предметов – не только божьих, но и человеческих. Последние уже изъяты из пространства своего актуального назначенья – равно затонувшие (в воде, во времени ли) часы, камеи, иконы, шприцы, храмы, как и старинные книги, снимаемые ребенком с книжной полки. Старинные тексты в этом мире хотя и стоят на книжной полке, но читаются ребенком в том пространстве и времени, которые давно утрачены; да и сам ребенок, отраженный в системе неведомых ему зеркал, словно бы уже предчувствует эту вечную ворожбу не нужных никому, кроме детей (вечных детей), книг.
В мире Тарковского происходит так, словно бы некий мальчик обречен вечно стоять в сомнамбулической околдованности перед священным излучением разрушенной кирпичной кладки. Он не может двинуться, потому что везде его ждет эта вечная околдованность. Так стоит Горчаков в "Ностальгии", зачарованный зрелищем разрушенного храма. Так стоит перед ним бассейн – как осколок вечности, сквозь которую плывет обреченная свеча. Так мальчик в "Зеркале" вслушивается и всматривается в невидимую жизнь самошевелящихся вещей, и кажется, что сам мальчик, зачарованный временем своей жизни, отражается в благородном оке стоящей на лугу лошади.
Эту поразительную насыщенность предметов своим собственным излученьем не надо путать с праздником вещей. Нет, это не праздник. Скорее уж грандиозный реквием. Лишь в момент прощания вещь вполне открывается нам. Вот почему так холодны музейные анфилады в наших претендующих на оптимистичность городах. Мы требуем здесь от вещей и полотен победоносности, и они испуганно от нас закрываются. Вот почему горят жертвенные костры в фильмах Тарковского. Уравновешенные (с избытком) жертвенными разливами вод, хлябями земными и небесными.
Русское сознание ищет тайную радость в скорби, как любовь обретает не в восхищении, а в жалости. Не торжество вещей, не роскошь пейзажей и городов захватывает русскую душу, входит в ее центр, а бедственность и утрачиваемость земного опыта. Жалость по земле, по земному ландшафту – вот что в основе русского эстетического чувства. В этом смысле Восток нам ближе, чем Запад, опьяняющийся новизной, ее сверканьем, избытком ее мощи, вообще всяческим стопроцентным здоровьем. Много написано о способности японцев наслаждаться печалью, исходящей от вещей. Момент ущерба, но изобильно эстетически ограненный. Нам это понятно. Но у нас эта печаль могущественней и безысходней. Тоска пронзает наше чувство красоты. Вот почему фильмы Тарковского ловят утрату как чудо. Вот почему так прекрасны у него осыпающиеся древние стены, повалившиеся палисадники и размываемые бесконечными дождями и грозами останки былых культурных слоев. Наше ощущение красоты скорее археологическое, нежели строительное... Прекрасная целостность западноевропейских городов не может не казаться нам все же некой декорацией, скрывающей ту истину, что в глубинах вещей уже идет предреченный апокалипсис.
Скорбь на Руси не жалоба, а естественное состояние. Здесь не ждут земного счастья. Ибо само "счастье", будучи достигнуто, становится для русской души грехом и подлинным несчастьем. "И чем могла б тебе помочь? От счастья я не исцеляю".
Однако пора вернуться к деревянному дому из темных сосновых бревен, перед которым я замер сентябрьским тихим утром. Да, здесь та же, что и в фильмах Тарковского, плоскость созерцания. Но тревожит она не плоскостью, а непостижимым объемом. Я чувствую, что утрачиваю какую-то поразительную возможность глубины. Возможность углубления своей жизни, возможность выхода из плоскости (как, действительно, все у меня прошло плоско!) в объем, то есть в овладение, в приятие, а не в вечное ускользание, выскальзывание. Что-то, данное мне судьбою, выскальзывает в живом и, быть может, в последнем ускользании... Все это как-то сходится в ощущение нерасшифрованности и непрожитости... Чего? Вот этого мерцающего невидимого пламени. Как будто этот бревенчатый фасад – состарившаяся женщина, в которой я вдруг узнал упущенную девушку юности. Впрочем, какое приблизительное сравнение! Верно здесь только, пожалуй, ощущение глубины и прелести, ушедшей в эту темную, изрезанную морщинами поверхность. И эта ускользающая глубина мной не прожита, то есть не дается мне в проживании, не дается не только сегодня, но и вчера и завтра...
Вначале я думал о бревнах. Но здесь нет бревен самих по себе. Я, собственно, вижу лишь некоторую бревенчатость, обработанную воздухом времени. Самой его длительностью. Идеальна эта схваченность бревен по углам, идеальны эти смертные объятья. Эти ровные строгие линии слияний, но не до слитий, заканчивающиеся взрывом схваченности. Строгость, покой и скорбность. И непроницаемое чувство собственного достоинства. Они сплелись плечевыми поясами ради этой уравновешенной идеальности, которая не будет никем замечена, но будет основанием новой осмысленности.
Я вспоминаю свое мальчишеское отчаяние, когда я наблюдал за тем, как отец весело ломал дощатый стариннейший сарай, казавшийся мне непомерно чудесным, излучавшим на схождении всех стихий тот смысл, который непереводим на человеческий язык...
(2)
Когда я говорю "стена дома", то смысл второго слова невольно перетягивает, сколько бы я ни оговаривался, что речь идет исключительно о стене и даже более того – всецело о ее фактуре. Казалось бы, мне проще было бы говорить о фактуре столь же темных стенок сараев или о продубленных заборах, экстремально насыщенных энергетизмом дождей, ветров, солнца и звезд... Да и в самом деле, ничто в такой мере не несло в себе этого особого фона, о котором я пытаюсь рассказать, как черные, просмоленные, ставшие поразительно одухотворенными заборы. И все же их слишком экспериментальный дух неподходящ для наших, человеческих, длительностей. Невозможно питаться уксусной эссенцией. И примышление чего-то иного, вообще примышление всегда сопутствует созерцанию. И дом как символ идеальной устойчивости нашего духа всегда бродяжит и будет бродяжить поблизости от всех и всяческих наших наблюдений. Это – начало и конец, основание и вершина всех наших разглядываний и бегств.