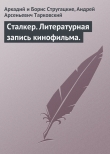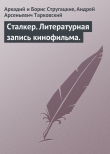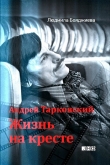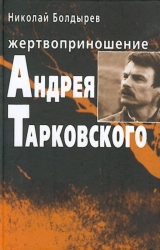
Текст книги "Жертвоприношение Андрея Тарковского"
Автор книги: Николай Болдырев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)
Но и этого Ермашу показалось мало. Он велел провести общественно-профессиональную акцию в назидание потомству. Зачем и ради чего? Чтобы окончательно объяснить художникам, как следует и как не следует снимать свои фильмы. Причем сделал это снова иезуитски хитро: он закопал фильм Тарковского руками его же коллег. Если обсуждение "Андрея Рублева", которое проводил в Госкино когда-то мой отец, было организовано во спасение картины, то гибель "Зеркала" была запрограммирована протокольно точно, и некому было заступиться. На совместное обсуждение Госкино и Союза кинематографистов были поставлены четыре картины: "Зеркало" и "Осень" Андрея Смирнова, с одной стороны, и "Сталевары" Карасика и "Романс о влюбленных" Кончаловского – с другой... Две последние картины были противопоставлены двум первым как образцы, достойные подражания и демонстрирующие путь, по которому должно устремиться советскому кино. Словом, наш варварский метод известен – разделяй и властвуй!
Это было достаточно уникальное по тем временам обсуждение, в котором участвовали лучшие кинематографисты и которое, естественно, должно было быть опубликовано в "Искусстве кино", печатном органе Госкино и Союза. С горькой усмешкой рассказывал отец, как участники этого обсуждения, узнав, что их выступления будут опубликованы, бегали в редакцию, чтобы как можно более смягчить, поправить свои обвинения, высказанные в адрес А. Смирнова и, конечно же, Тарковского. Слава Богу, не заставили еще дополнительно опубликовать разносные статьи, а желающие их написать, конечно же, были...
Но всякое позитивное упоминание о "Зеркале" изымалось на уровне цензуры. Помню, как критик Инна Левшина, обсуждавшая фильм с десятиклассниками, пыталась совершенно безуспешно опубликовать это обсуждение в своей книжке, издававшейся в "Искусстве", – чуть не со слезами на глазах она рассказывала мне о том, как весь этот материал вымарывается из текста ее книги без суда и следствия!.."
В дневниках Тарковского российского периода (да и не только) – постоянный вопль недоумения: почему? "Иногда у меня впечатление, что я сугубо частное лицо и делаю фильмы для своего личного удовольствия – деятельность, натыкающаяся на протесты и огромное сопротивление..."
1973 год: "5 января "Солярис" пойдет в Москве. Премьера-в "Мире", а не в "Октябре" или "России". Начальство не считает, что мои фильмы достойны быть показанными в этих первых кинотеатрах города.
Зато они смотрят в "России" слабоумного Герасимова.
Я никого ни о чем не буду просить и не пойду на премьеру.
Мне нужно постепенно расстаться с мыслью, что мне кто-то нужен, и соответственно себя вести. Я должен быть выше всего этого. Несмотря ни на что, я остаюсь Тарковским. А Тарковский лишь один, в отличие от Герасимовых, чье имя легион...
Моя задача – делать фильмы, если дадут. И у меня нет никакого желания участвовать в тщеславных разборках так называемых художников. <...>
Ах, если бы нашелся кто-то, кто заключил бы со мной пятилетний договор, который дал бы мне возможность снять за это время столько фильмов, сколько бы я сумел. Прежде всего тех фильмов, которые хочу снять.
Я бы не потерял времени и наверняка смог бы за эти пять лет снять семь фильмов..."
Тот же январь: "Как все же печальна жизнь! Завидую всем, кто может делать свою работу, не завися при этом от государства. Да почти все, кроме кино и театра (о телевидении говорить не хочу – не считаю его за искусство), – свободны. От заработка, конечно, тоже, но они могут по крайней мере работать.
Что за примитивный, бесстыжий режим! Неужто он вообще не нуждается в литературе, поэзии, живописи, музыке, кино? В том-то и дело! Сколько бы проблем тогда исчезло с пути нашего руководства!
Борис Леонидович Пастернак, видимо, окажется прав в своем предсказанье, что я сниму еще четыре фильма*. Первый уже готов – "Солярис". Итак, осталось еще три. Всего-то навсего!
* Однажды в Москве у некоего Ревика на одном из спиритических сеансов, которыми Тарковский увлекался, он обратился к духу Бориса Пастернака. "На мой вопрос, сколько фильмов я еще смогу снять, он сказал: четыре. Я воскликнул: так мало. А он ответил: зато очень хороших".
Но ведь я хочу всего лишь – работать, и больше ничего! Работать! И разве это не гротеск, что режиссер, названный в итальянской прессе гениальным, сидит без работы? Честно говоря, мне кажется, что все это не более чем месть посредственностей, прокладывающих себе путь к власти. Ведь посредственность ненавидит художников. А наша власть сплошь состоит из посредственностей.
Если удастся сделать "Белый день", надо будет подать заявку на фильм, то есть пока на сценарий, о Достоевском. Пора уже...
А может быть, плюнуть на все?.."
И следующее, по нарастанию, взыванье: "Одна из моих горьких мыслей: ты не нужен никому. Ты совершенно чужд своей культуре (почти цитирует хуциевские публичные филиппики. – Я. Б.). Ты вообще ничего для нее не сделал. Ты жалкое ничтожество. Но когда в Европе или где-нибудь в мире спрашивают: кто лучший режиссер Советского Союза? Тарковский. У нас же ничего, кроме молчания. Меня попросту нет, пустое место..."
Такое мог писать в дневнике действительно человек чистый до наивности, бесконечно далекий от политики и не только никогда не томившийся по славе подпольного художника, по славе диссидента или гонимого пророка, но как раз наоборот: его оскорбляла роль и репутация "подпольного", навязанная и навязываемая ему роль "борца", "протаскивателя" идей и т.д. и т.п. Вся эта мелочная интеллектуально-тщеславная возня вызывала у него отвращение.
Тарковский, конечно же, был "совершенно чужд своей культуре", то есть – советской, ибо соткан был из материала русской и мировой культуры: генетический ее отпрыск. Он и возрастал – интуитивно, набирая из невидимых корней, в том числе корней Востока, двигаясь к медитационной полноте как основанию своего метода, способа "склейки" в монтаже, то есть способа познавания. А это такой скачок в прямо противоположную сторону от советского гиперидеологизма. что как же Ермаш мог это понять?
(2)
Обратимся вновь к книге "Тарковский и Я", которая, хотя и вызывает временами истинное негодование своим тоном, тем не менее содержит богатую информацию. Но едва автор начинает интерпретировать, как тотчас становится видна ментальность человека советского. Маленький пример, связанный с так называемой установкой Тарковского на красивую жизнь – Суркова обличает его "жадность", а заодно и тщеславно-высокомерный якобы "комплекс гениальности" на том основании, например, что на Западе он принял решение не давать интервью бесплатно. И потому на Роттердамском кинофестивале ни один журналист так и не подошел к Тарковскому. Еще пример из той же книги: он заказывал самые дорогие вина, поскольку знал, что все расходы по его пребыванию на фестивале устроители оплачивают...*
* "Первое, что он попросил меня объявить: "Скажи, что я не даю .,,, интервью бесплатно. И спроси: они организовали мне какие-нибудь платные лекции?"" – пишет Суркова. Между тем вот что сообщает его дневник: 6 февраля 1984, Сан-Грегорио. Были в Амстердаме и на кинофестивале :В Роттердаме (встретили там Диму Шушкалова). Все это мероприятие было скучным и совершенно поверхностным. Дирекция обещала мне организовать нескопько выступлений (докладов) и интервью – да, даже гарантировала нам билеты первого класса, – но все это оказались пустые обещания. Была дискуссия с публикой о Робере Брессоне, но и она оказалась ужасно глупой. Чтобы сказать правду, я поехал туда, собственно, лишь из-за Ларисы, которая непременно хотела увидеться с Димой и Ольгой. Сейчас моя задача вовремя закончить сценарий..."
Вероятно, дирекция обещала сидевшему без денег Тарковскому действительно платные лекции и интервью, но он явно плохо ориентировался тамошних правилах игры.
Здесь целая пропасть между человеком естественно-свободным, не зацикленным на бесконечной цепочке мысленных (и инстинктивных) выспрашиваний "а что обо мне "скажут?" и человеком, в глубине не очень-то себя уважающим и потому постоянно мечущимся в "игровых позах".
Тарковский пил те вина, какие хотел на данный момент, только и всего, а Суркова высматривала и подсчитывала. И при этом не скрывает причины столь двусмысленного "танца". В 1984 году Тарковский издал на немецком свою книгу "Запечатленное время", не указав соавторства Сурковой (а она в нем абсолютно уверена) и не оговорив в контракте с издательством "Ульштайн" пятидесятипроцентного для нее гонорара, как она на то рассчитывала. Маэстро не прореагировал на ее гневное письмо и вскоре умер. После его смерти Суркова затеяла судебный процесс с покойным; реальным моральным ответчиком, естественно, оказалась Лариса Павловна Тарковская, так что из девяти лет жизни, которые ей были отпущены после похорон мужа, пять она вынуждена была отдать этой изнурительной тяжбе.
Как ни странно, Суркова даже не пыталась юридически в чем-либо обвинить Тарковского. Как она пишет, "я подала в Мюнхене в суд на издательство "Улыитайн" и его сотрудницу г-жу Бертончини, знавшую о моем соавторстве и сознательно это соавторство утаившую. Все эти судебные передряги продолжались пять лет и стоили мне уйму денег..."
Процесс над издательством Суркова выиграла, но, спрашивается, какой моральной ценой? Об отношении к этому делу некоторых москвичей можно судить по одному яркому эпизоду, рассказанному ею самой. Приехав в 1992 году в Москву из Амстердама (где она жила с 1982 года) и явившись в Дом кино на празднование 60-летия Тарковского, она натыкается на Кайдановского, который, подойдя к ней, говорит: "Ну чего ты привязалась к великому человеку? (А судебная тяжба уже четыре года как длится. – Н. Б.) Размазал бы тебя сейчас по стенке... Денег захотела? Так я их тебе заплачу... Сколько?"
Не берусь судить о юридической стороне дела касательно издания на немецком языке, но есть вещи, даже правые юридически и одновременно неправые по глубинному существу.
Предлагаю читателю просто сопоставить два факта, две, так сказать, морали.
Судясь с Бертончини, Суркова издает в Москве в 1991 году в "Киноцентре" книгу, где на обложке, корешке и титуле значится: "Ольга Суркова. Книга сопоставлений". О том, что это тексты размышлений Тарковского, мы узнаем лишь из скромного подзаголовка на титульном листе: "Тарковский-79". Что же находим в книге? Будто бы диалог критика и режиссера, однако он разваливается, и даже невооруженному глазу видна искусственность и нарочитость монологов критика, так что читателю совершенно очевидно: они сочинялись ради того, чтобы книгу можно было преподнести как авторскую. Но вот вопрос: каким образом критик присвоила единоличное авторство (и в "копирайте" тоже указана она одна), ежели по условиям договора на эту книгу в издательстве "Искусство" (см. документ на с. 467-468 текста "Тарковский и Я") Тарковский и Суркова выступали "солидарно действующими авторами"?
Второй факт. Во вступлении к русскому варианту (оригиналу) книги "Запечатленное время", частью материалов которой послужили магнитофонные записи монологов Тар-ковского, записанных Сурковой в 1979 году и составивших содержание "Книги сопоставлений", Тарковский с предельной ясностью и джентльменской корректностью определил. Сурковой: "Остается только добавить, что эта книга складывалась из наполовину написанных глав, записей дневникового характера, выступлений и бесед с Ольгой Сурковой, которая еще студенткой-киноведом Института кинематографии в Москве пришла к нам на съемки "Андрея Рублева", а затем провела с нами в тесном общении все последующие годы, будучи уже профессиональным кинокритиком. Я благодарю ее за помощь, которую она оказала мне в то время, когда я работал над этой книгой". А вот что он писал в дневнике: 18.04.1984. Сан-Грегорио. У нас Ольга Суркова. Работаю над книгой. Точнее, пытаюсь это делать. Она не в состоянии даже с умом записывать. Вела себя Ольга очень странно. Какие-то разговоры о деньгах (?!). Она совсем спятила. Видимо, пора вольностью отказаться от ее услуг"; ноябрь 1984 года, Стокгольм: "...Полностью переписать книгу для Кристиана (издатель. – Н. Б.) мне не справиться. Ольга перевела на бумагу все подряд: абсолютно все, что я наговорил на магнитофон, она та и перенесла, не придав материалу форму. Но это же читая халтура. Мне совершенно ясно, что все ее работы 1оскве писал ее отец. Иначе я не могу все это объяснить"; 9 марта 1985 года, Стокгольм: "Да, вчера забыл упомянуть, что Ольга Суркова написала мне чудовищное письмо – полное гостей, необоснованных претензий и т.п. Следовало бы ответить, но нет ни малейшего желания общаться с ней, даже в письменной форме". Что тут еще добавить?
Видимо, действительно прав был Тарковский, фиксируя в дневнике, что часто ошибался и ошибается в людях. Как говорила мне Марина Тарковская, "Андрей часто становился жертвой своего джентльменского комплекса, что усугублялось его исключительной доверчивостью и плохим пониманием обыденной человеческой психологии".
А впрочем, неужто Тарковский не был подвержен слабостям? Сомневаюсь. Никому еще не удавалось избегнуть соблазнов. В творчестве человек ставит перед собой планку на высоту, которую он должен пытаться взять в жизни. И это-то – самое сложное. Победы в творчестве еще не самые главные победы. Есть творчество жизни, где творческие художественные акты лишь часть общего движения.
Да что непонимание "от Сурковой", если сам Солженицын выступил с возмущенной отповедью автору "Андрея Рублева" (случилось это в 1984 году, Тарковский уже заявил о своем невозвращении в СССР, и имя его и фильмы на родине были под запретом), который-де исказил историческую правду в угоду сиюминутным соображениям успеха у зрителей. Будучи диссидентом до мозга костей, великий Солженицын, вероятно, не мог смотреть на любой предмет иным взглядом, нежели диссидентствующим. "Мы видим лишь то, что понимаем". По Солженицыну, авторы фильма пытаются "излить негодование советской действительностью косвенно, в одеждах русской давней истории или символах из нее. <...> Такой прием не только нельзя назвать достойным, уважительным к предшествующей истории... Такой прием порочен и по внутреннему смыслу искусства..."
Можно себе представить оторопь Тарковского. Никогда не вступая прежде в публичную полемику, на этот раз он выступил:
"...Солженицыну, конечно, известно, что любое произведение следует рассматривать исходя из концепции автора. Для того чтобы критиковать произведение, нужно хотя бы понять, о чем авторы хотели сделать свой фильм. Солженицын пишет: совершенно ясно, что Тарковский хотел снять фильм, в котором критикует советскую власть, но в силу того, что не может сделать этого прямо, пользуется историческими аналогиями и таким образом искажает историческую правду. Должен вам сказать, что я совершенно не ставил задачу критиковать советскую власть таким странным способом. Во-первых, я никогда не занимался никакой критикой советской власти: меня как художника эта проблема не интересует, у меня другие внутренние задачи... Но, начиная свою статью с этого тезиса, Солженицын сразу ставит себя в позу человека, который не понял замысла авторов, и, следовательно, вся его критика в общем-то неуместна и неточна в высшей степени.
Наша цель в картине была рассказать о незаменимости человеческого опыта..."
"...В общем, какая-то странная статья, сбивчивая, неясная, но главное, что огорчило, – уровень, на котором разговаривает Солженицын. Причем многие его претензии я уже слышал в Москве – от своего кинематографического начальства, как это ни странно".
А что странного – все ратоборцы, даже находясь на позициях противников, все же объединены этим духом борьбы. Дабы "разоблачить" систему, Солженицыну понадобилось понять ее изнутри, то есть быть "тотально начеку". Тарковский же просто-напросто не удостоил эту систему каким-либо сущностным вниманием*.
* И все же была (и есть) в "Андрее Рублеве" та нота безнадежной печали, то чувство бесконечного одиночества существа человека, именно русского человека, что вызывали и вызывают странную тревогу и почти тягостную меланхолию при просмотре фильма. Тарковский разрешил себе посмотреть со всей прямотой (приемлемой эстетически) на русский пейзаж давнего, принципиально кризисного для русского духа времени. И то, что он увидел, приносит столько боли, словно мы физически ощутили трагическую завязку русской сумеречности, русского "ухода в себя", словно трещина образовалась тогда в самом духе нации. Это чутко заметил Андрей Битов: "..."Рублева" я посмотрел много лет спустя. И в общем, я считаю, конечно, что это гениальный фильм. Там такие татары-иностранцы... Такая мука менталитетная была у Андрея. Так она благородно выражена. Какой-то слом он там нашел..."
Именно. Горький фильм. В котором можно увидеть и то, в чем истоки нашей естественно-природной внемирности, а в чем – холопства и первобытно-жестокого варварства. Так что есть в фильме та пронзительность, которая вы-звала резкое неприятие не только у Ильи Глазунова, И. Шафаревича и Солженицына, но и у много более наивных "исторических мечтателей", мечтателей о прекрасной Древней Руси. Понятно, что эта трещина в русской ментальности увидена Тарковским из нашего времени. Так что это трещина на самом деле в сердце поэта, по слову великого немца. Да и о каком объективном историческом времени можно вообще говорить, кроме как о том, что гудит в нас самих?
Внутренне он жил вне системы, хотя она душила его уже тем, что не давала полноценно работать. Он страдал от этого, заболевал, но все его метафизические и лирические искания протекали вдали от системы. Потому-то он так ни разу и не откликнулся на "диссидентское творчество", его не затронули тексты ни единого "поэта-борца" тех десятилетий, ни единого публициста: ни Евтушенко, ни Вознесенского, ни Высоцкого, ни театр Любимова – список можно увеличивать почти до бесконечности. Да, он был Пришелец, понимавший свою работу как "посредничество между универсумом и людьми". Громко? Но тот, кто не поднимает перед собой планку высоко...
Ольга Седакова в эссе "О погибшем литературном поколении. Памяти Лени Губанова" писала: "Но кажется, наше поколение (Л. Губанов родился в 1946-м. – Н. Б.) первым столкнулось с той ситуацией, когда не идеи, не политические взгляды, не что иное – а одаренность сама по себе оказалась политически нежелательным явлением". Одаренность словно бы сама по себе была крамолой. Но почему? Тарковский отвечает в дневнике: "Месть посредственностей, прокладывающих себе путь к власти... А наша власть сплошь состоит из посредственностей". Именно так. Ибо во внешнем мире зло активно, а добро пассивно. Но, к счастью, у добра есть шанс активности во внутренних пространствах.
О. Седакова пишет о спасительной в те годы "реальности прямостоящего человека с открытым лицом", приводя имена Баха и Рильке, Рембрандта и Швейцера. Тарковский и был таким нашим уникумом – прямостоящим человеком с открытым (без масок и символических утаек, без фиги в кармане) лицом. И это-то ошеломляло, отгораживало.
Если всерьез пытаться сказать нечто об одиночестве Тарковского, то совершенно недостаточно ссылок на дневники, где эта тема сквозная, или комментариев к его неизменно обособленному положению в обществе. Метафизический стиль в искусстве и в личном поведении вообще в России не воспринимался и не воспринимается всерьез. Метафизический стиль у нас традиционно почитается "оторванностью от реальной жизни", "литературщиной" или, на худой конец, "романтизмом".
Потому-то чисто человеческая сторона одиночества Тарковского отчасти объяснима "атмосферически-историческими" условиями нашей "одной шестой части суши". Да и в самом деле, разве сразу, немедленно, без всяких изысканий не ощутима некая особица Андрея Тарковского, некая его принципиальная неслиянность с окружением, в самом широком смысле этого слова? Как будто он сделан из другого материала. Разве не лежит на нем, словно бы с рождения, печать какого-то чужеземства?
Диссидентов мы, в общем-то, худо-бедно понимаем: они борются. Но когда человек не борется, а просто живет и при этом "совершенно не гибок"... К тому же не сектант, не хватается ни за идеи, ни за религии... Возможность понимания такого человека катастрофически падает.
Но можно пойти другим путем и увидеть одиночество Тарковского в одиночестве его героев: в одиночестве Рублева, Ивана-сироты, в одиночестве Криса и Хари-фантома, 'в одиночестве Сталкера и всего этого тройственного семейства, в одиночестве Писателя, одичавшего от тупиковых мыслей, Андрея Горчакова, в одиночестве Виктора, друга Александра, и, наконец, самого Александра, сжигающего свой дом.
Лишь по мере того, как мы будем всё внимательнее всматриваться в характер и суть каждого конкретного одиночества, ощущать его тон и направление, а затем соединим их все в естественном единстве, мы сможем почувствовать некую полифонную музыку души, которая странным образом окажется близка "исторически-конкретной" музыке души Тарковского. Но это, конечно, метафизическая музыка.
(3)
Именно "Рублев" стал переломным фильмом в судьбе Тарковскогo. Как только не измывались над фильмом чиновники! В конце концов он был законсервирован и пять лет пролежал киноархиве. Лишь "утечка" его на Запад и бурный там успех, в том числе у элиты общества, причем успех в качестве фильма не только не диссидентского, но восславляющего
Русь и величие русского человека, заставили власть одуматься и в 1971 году выпустить картину, в несколько сокращенном виде, на советский экран.
Пять лет не просто ожиданий, отчаяния, оскорбленности и безработицы, почти нищеты, но тщетной, изнурительной борьбы за фильм. Это были годы стремительного повзросле-ния Тарковского, годы первого глобального внутреннего кризиса, когда он совершенно отчетливо понял, что обречен пройти свой путь один и что пути этому суждено быть страдальческим. Он понял это всем своим существом, и о том свидетельствуют и его дневник, и немногие, крайне лаконичные, устные признания. Снова послушаем свидетеля.
"Я никогда не забуду, наверное, самый первый, открытый для профессионалов просмотр "Андрея Рублева" в большом зале "Мосфильма", переполненном коллегами, друзьями, знакомыми и работниками студии. Свет погас, и напряженная тишина поначалу зависла в зале. Но по мере того, как начали возникать сцены, уже охарактеризованные во время съемок в какой-то газетенке как "жестокие и натуралистические", над залом поплыл гул как будто бы "добропорядочного" возмущения, взрывавшийся время от времени прямо-таки улюлюканьем.
Еще до просмотра, на фоне всем известной тогда заметки о том, что Тарковский на съемках чуть ли не умышленно едва не спалил Успенский собор, поджигал коров и ломал ноги лошадям, ползли все более упорные слухи еще о собаках, которым отрезали ноги, чтобы они ковыляли в таком виде по снегу ему на потеху! Так что общественное возмуще ние на самом деле непростого зрительного зала было короновано прозвучавшим на весь зал приговором одного из хозяйственников "Мосфильма" Милькиса: "Это не искусство – это садизм!" Приговор этот застрял в наших душах точно нож – не случайно я, никогда не знавшая почти ни одного имени разного рода руководящих деятелей, до сих пор помню его имя.
Помню также очень хорошо самого Тарковского после просмотра: бледного, напряженного, одиноко притулившегося где-то у выхода из зала. О его одиночестве в тот момент я говорю вовсе не в метафорическом, а в буквальном смысле.
Трудно, наверное, поверить теперь его поклонникам в то, что Андрей стоял действительно совершенно один, а люди, выходившие из зала, прятали глаза, умудряясь его обойти и устремляясь струйками, точно по заранее проложенному руслу. [Тогда это был первый и, может быть, самый неожиданный [для него "сюрприз"! Мы с мамой, которую я приволокла на просмотр фильма, среди немногих подошли к Андрею, чтобы крепко пожать ему руку. Он поблагодарил, вежливо усмехнувшись.
Мне кажется, что именно после этого просмотра окончательно разладились отношения Тарковского с недавним другом и соавтором сценария Андроном Кончаловским. Он тоже ушел, что называется, не кивнув головой, не скрывая своего полного разочарования картиной. Где-то вскоре в разговоре с Андреем он признался, что считает сценарий загуб-ленным чрезвычайно замедленным, затянутым до невозможности ритмом картины.
Тарковский, конечно, не мог согласиться с точкой зрения Кончаловского, не поверил в его искренность, полагая, что тот предал его только из шкурных интересов. Их отношения никогда не наладились" (О. Суркова).
Сам же Тарковский полтора десятилетия спустя избрал для рассказа зарубежным журналистам другой просмотр: "Я помню коллегию Комитета по кинематографии, где присутствовало очень много наших кинематографических деятелей. Все они очень-очень хвалили картину, весьма неожиданно для меня, потому что я еще сам не понимал, что получилось. И это очень меня поддержало... И тем не менее тут же после этого картина была положена "на полку", спрятана на ять с половиной лет..." Как это случилось? "Картина уже народилась на таможне в Шереметьево для отправки на фести-валь в Канны, когда один советский режиссер дозвонился до Демичева (секретаря ЦК КПСС. – Н. Б.) и сказал: "Что-де вы, товарищи, делаете? Вы посылаете на западный фестиваль картину антирусскую, антипатриотическую и антиисторическую, да и вообще – организованную "вокруг Рублева" в каком-то западном духе конструирования рассказа о личности". Убей меня Бог, я до сих пор не понимаю, что эти упреки означают. Но именно их потом на все лады склоняли гонители фильма, начиная с Демичева. Картина была возвращена с шереметьевской таможни. После этого мне несколько лет ничего не давали снимать..."
В феврале 1967 года Тарковский отправил письмо председателю Госкино А. Романову:
"Это письмо – результат серьезных раздумий по повод)' моего положения как художника и глубокой горечи, вызванной необъективными нападками как на меня, так и на наш фильм об Андрее Рублеве.
Более того. Вся эта кампания со злобными и беспринципными выпадами воспринимается мной не более и не менее как травля. И только травля, которая причем началась еще со времени выхода моей первой полнометражной картины "Иваново детство".
Мне известно, конечно, что успех этого фильма среди советских зрителей был практически сорван намеренно и что до сих пор с постоянством, которое не может не вызывать недоумения, на фильм этот при каждом более или менее удобном случае, Вы, Алексей Владимирович, приклеиваете ярлык "пацифизм". И только ярлык, потому что ни аргументов, ни серьезных обоснований вслед за этим не следует...
Атмосфера же, в какую попали авторы "Рублева" в результате спровоцированной кем-то статьи, которая была помещена в "Вечерней Москве", – статьи, являющейся инсинуацией, и в результате следующих за ней событий, настолько чудовищна по своей несправедливой тенденциозности, что я вынужден обратиться к Вам как к руководителю за помощью и просить Вас сделать все, чтобы прекратить эту беспрецедентную травлю.
А то, что она существует, доказать не трудно. Вот ее этапы: трехлетнее сидение без работы после фильма "Иваново детство", двухлетнее прохождение сценария "Андрей Рублев" по бесконечным инстанциям, и полугодовое ожидание оформления сдачи этого фильма, и отсутствие до сих пор акта об окончательном приеме фильма, и бесконечные к нему придирки, и отмена премьеры в Доме кино, что лишь усугубило нездоровую атмосферу вокруг фильма, и отсутствие серьезного НАПЕЧАТАННОГО ответа в "Вечернюю Москву", и странная уверенность в том, что именно противники картины выражают истинное, а не ошибочное к ней отношение – хотя Вам известно, конечно, об обсуждении "Рублева" на коллегии при Комитете, в котором заслуженные и ведущие деятели советского кино весьма недвусмысленно и единодушно высказались по поводу нашей работы и о ее значении для нашего кино.
Но, оказывается, их мнение не имеет для Вас значения...
Мы с Вами во вполне дружеской атмосфере разработали программу работы над окончательным вариантом картины, все Ваши предложения были мною учтены, мы заверили друг друга в обоюдном удовлетворении, связанном с этим последним этапом работы над фильмом, что было засвидетельствовано в документах, подписанных как Вами, так и мной, как вдруг, к моему глубочайшему недоумению, я узнаю о том, что Вы, если я не ошибаюсь, аннулируете документы о приеме фильма...
Теперь о последнем ударе в цепи неприятностей и раздуваемых придирок к фильму – списке поправок, которые дал мне ГРК (репертуарная комиссия. – Н.Б.).
Вы, конечно, знакомы с ним. И надеюсь, что Вы понимаетe, что грозит фильму при условии их выполнения. Они просто делают картину бессмысленной. Они губят картину – и угодно...
Я не буду перечислять их. Я только попытаюсь сформулировать беспрецедентность этого списка поправок.
О пресловутом "натурализме", извините за напоминание
Был "Броненосец "Потемкин"" с червями в мясе, коляской с младенцем, с вытекающим глазом женщины, раненной на одесской лестнице, с инвалидом, прыгающим по ее ступе-
.. Был фильм "Они защищали Родину" – там ребенка бросают под танк Существует много фильмов, в которых гибнут люди разными способами. Так почему же в тех фильмах это можно, а в моем нельзя?!
Вспомним "Землю" Довженко со сценой с обнаженной женщиной в избе. Сцену из фильма "Тени забытых предков" с обнаженной. Опять – там можно – мне же нет. Хотя я не знаю ни одного зрителя, который не был бы тронут целомудрием и красотой этого очень важного для нашего фильма эпизода.
Идея нашей картины выстраивается эмоционально, не умозрительно. Поэтому все его компоненты не случайны! Они – звенья неразрывной цепи. Гуманизм нашего фильма выражается не лобово. Он – результат конфликта трагического со светлым, гармоничным. Без этого конфликта гуманизм не доказуем, а риторичен и художественно неубедителен, мертв.
Обратный, неверный подход к анализу нашего фильма подобен требованиям созерцающего мозаичное панно изъять из него черные кусочки, которые якобы оскорбляют его вкус, для того чтобы "исправить" произведение. Но если их изъять – рухнет замысел, ибо кусочки эти по закону контраста оттеняют светлые, чистых тонов детали целого.
Потом – эпоха. История рубежа XIV-XV веков пестрит бесконечными напоминаниями о жестокостях, измене, междуусобицах. Только на этом фоне мы могли взяться за решение тех трагических конфликтов, которые выражены в "Рублеве". Но ведь то, что есть в нем, – капля в море по сравнению с истинной картиной того времени. Мы лишь иногда прибегаем к необходимости напомнить зрителю о мрачности той эпохи. Стоит только перелистать исторические труды!..