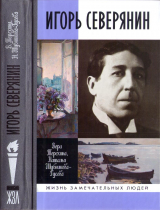
Текст книги "Игорь Северянин"
Автор книги: Наталья Шубникова-Гусева
Соавторы: Наталья Шубникова-Гусева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Глава четвёртая
«НА ЗЕМЛЕ В КРАСОТЕ...»
В краю озёр и рекКонцертные выступления становятся всё реже, и Северянин почти безвыездно живёт в Тойле, занимается рыбной ловлей, пишет стихи. В письме Августе Барановой от 12 июня 1922 года поэт рассказывает:
«Целые дни провожу на реке. Это уже со 2-го мая. 5-й сезон всю весну, лето и осень неизменно ужу рыбу! Это такое ни с чем не сравнимое наслаждение! Природа, тишина, благость, стихи, форели! Город для меня не существует вовсе. <...> За это время прибавилось 4 книги: т. XV (“Утёсы Eesti” – антология эстийской лирики за 100 лет), т. XIV (“Предцветенье” – книга стихов эстийских поэтесс), т. XVII (“Падучая стремнина” – роман в 2-х частях белыми стихами) и т. XVIII (“Литавры солнца” – стихи). <...> Итак, я сижу в глуши, совершенно отрешась от “культурных” соблазнов, среди природы и любви. Знакомств абсолютно никаких, кроме племянника в[ице] адм[ирала] Эссена – Александра Карловича, инженера-техника, служащего в 18-и верстах от Тойлы в Jarve архитектором на заводе. Он приезжает к нам почти еженедельно. Большой мой поклонник, тончайший эстет».
Восемь лет я живу в красоте
На величественной высоте.
Из окна виден синий залив.
В нём – луны золотой перелив.
И – цветущей волной деревень —
Заливает нас в мае сирень,
И тогда дачки все и дома —
Сплошь сиреневая кутерьма!..
........................................................
И со мной постоянно она,
Кто ко мне, как природа, нежна,
Чей единственный истинный ум
Шуму дрязг предпочёл сийий шум.
Я природой живу и дышу,
Вдохновенно и просто пишу,
Растворяясь душой в простоте,
Я живу на земле в красоте!
(1925)
В конце мая 1923 года Северянин уезжает на озеро Ульястэ и живёт там с коротким приездом в Тойлу почти до конца июля. «26 мая перебрались сюда, – сообщает он Августе Барановой 1 июня 1923 года. – Нам посчастливилось найти здесь, в маленькой рыбачьей деревушке, у одного рыбака комнату в новом хорошем доме. Комната обширная, высокая, светлая, идеально чистая. <...> В нашем полном распоряжении – лодка, с которой мы и начали ловить рыбу, выезжая за 3—5 вёрст от берега. До сей поры поймали уже 36 окуней от '/« до 3А ф[унта] каждый. <...> Водятся и щуки, и угри».
В письмах Барановой содержатся прекрасные описания природы и проклятия городу: «Лето установилось дивное. Так хорошо в природе, что с ужасом думаешь об осени, когда придётся оторваться от неё и погрузиться в пустынные глуби человечества. Как омерзительны города со всей своей гнусью и неоправданностью!»
На такое неприятие городской жизни настраивали и неутешительные результаты от поездок и выступлений, которыми поэт также делится с Августой Барановой:
«Я ездил в Юрьев, оттуда в Ревель, третьего дня вернулся в нашу любимую мною глушь, вернулся обескураженный людской чёрствостью и отчуждённостью, вернулся со станции пешком, восемь вёрст неся чемодан с концертными костюмами и проч., изнемогая от усталости...
Никто и нигде не может теперь же устроить ни одного вечера – вот результат моих хлопот. Один не имеет средств для начала, другой не имеет времени, третий не имеет желания, четвёртый... Одним словом – удачей моя поездка не сопровождалась... <...> от всех неприятностей и тревог у меня развивается болезнь сердца, и по ночам, в бессоннице, я испытываю едкие муки, трудно передаваемые словами. А как всё могло бы быть славно, ведь я, в общем, здоров и бодр! Ведь я певец солнечной ориентации...»
В письме Барановой 27 октября 1923 года поэт пишет об этих издательских проектах и жалуется на неудачи:
«Что же касается концертов, дело обстоит значительно хуже: в Юрьеве живу вскоре два месяца, и ни одного вечера организовать не удалось, несмотря на усиленные старания. Нет предпринимателя – вот и всё.
Зато удалось устроить по концерту в Везенберге и Нарве. Нарва дала... 600 марок, а Везенберг... 1500 м[арок] убытку! Дождался, досиделся: мои вечера дают убыток! Это мои-то вечера!»
Но настроение менялось, когда публика принимала поэта и подготовленные книги начинали выходить в свет. В газете «Нарвский листок» от 2 мая 1923 (?) года сообщалось о поэзовечере Северянина в Нарве, в помещении кинотеатра «Скэтинг»: «Выступая во всех трёх отделениях, поэт продекламировал значительное число своих последних стихотворений. Оригинальная манера чтения нараспев с ударениями на рифмах и подчёркиванием ударных слогов произвела впечатление на слушателей».
Он по-прежнему стремится донести свои стихи до слушателей, не надеясь на редкие публикации в русскоязычной прессе. На Пушкинском вечере 14 июня 1924 года в здании Немецкого театра в Таллине Северянин читает поэзы, посвящённые А. С. Пушкину. Стихи были написаны к 125-летию со дня рождения «Солнца русской поэзии». В книге «Классические розы» они составили небольшой раздел, озаглавленный необычно: «125».
И вновь он пишет Августе Барановой, жалуясь и умоляя о помощи:
«Я так устал, мой друг, от вечной нужды, так страшно изнемог, так изверился в значении Искусства, что, верите ли, нет больше (по крайней мере теперь пока) ни малейшего желания что-либо написать вновь и даже ценить написанное. Люди так бесчеловечны, так людоедны, они такие животные. <...> Не сумели ценить и беречь своего соловья».
«О ты, Миррэлия моя!»14 марта 1922 года Евгения Гуцан пишет Северянину из Берлина, что его книга «Миррэлия: Новые поэзы», которую она по просьбе автора передала в издательство, будет печататься по новой орфографии и с опозданием: «Причины, почему Миррэлия не выйдет раньше осени: во-первых, сильное вздорожание бумаги, во-вторых, сезон» (книга вышла у Закса под издательской маркой «Магазин “Москва”» в июне 1922 года; обложка Елены Лисснер-Бломберг).
Эта книга рассказывала о стране гармонии, которую поэт искал и, наконец, нашёл в Эстии, в её природе, древних сказаниях, близких людях. В ней звучит негромкая мелодия счастливой жизни с молодой женой, которой посвящена эта книга и многие другие стихи.
Образ «земли обетованной», воображаемой страны, созданной поэтической фантазией и мечтами о лучшей жизни, существует в разнообразных вариациях в мировой литературе сотни лет. Опираясь на фольклор, легенды и мифы разных народов, эта утопическая ветвь словесного искусства дала обильные и непохожие друг на друга плоды. Достаточно взглянуть на русскую литературную традицию с её Царством берендеев А. Н. Островского, землёй Ойле Ф. К. Сологуба, «Инонией» С. А. Есенина, «Страной Муравией» А. Т. Твардовского.
















Что их роднит и зачем эти «напрасные мечтания» продолжают появляться в наш прагматический век, обретая массовый характер в жанре фэнтези? Сошлёмся на слова Анны Ахматовой: это «врата» в ту страну, где усилиями художника достигнута гармония и красота, невозможные в реальности на земле.
Такими «вратами» в мир иной для Игоря Северянина стал цикл из шести стихотворений писателя-символиста Фёдора Сологуба, созданный в 1898 году и опубликованный в 1904-м. В основе поэтического сюжета оказывается вымышленная, идеальная сфера – звезда Майр и земля Ойле. Они представлены поэтом плывущими в «волнах эфира», словно видимые реально небесные светила (так у Лермонтова «На воздушном океане, / Без руля и без ветрил / Тихо плавают в тумане / Хоры стройные светил...»).
Майр и Ойле противопоставлены, следуя романтическому и символистскому двоемирию, обыденной, дисгармоничной земле:
Мир земной вражда заполонила,
Бедный мир земной в унынье погружён,
Нам отрадна тихая могила
И подобный смерти долгий, тёмный сон.
Раскрывая традиционную формулу «жизнь есть сон», Сологуб подчёркивает, что это нетворческое, бездеятельное состояние чуждо ему. Осуществить себя он может, лишь перенесясь на землю Ойле:
На Ойле далёкой и прекрасной
Вся любовь и вся душа моя.
Бренное тело останется на земле, но душа продолжит своё бессмертное существование в ином измерении:
Мой прах истлеет понемногу,
Истлеет он в сырой земле,
А я меж звёзд найду дорогу
К иной стране, к моей Ойле.
Однако не всё так традиционно в мировосприятии Сологуба, и мистическое инобытие за гробовой чертой не исчерпывает его поисков некоего «космоса бессмертного существования». Он верит в возможность истинного мира, который можно «воссоздать на земле из материалов нашего земного переживания». Сологуб творит «очаровательную легенду» и таким образом воздействует на действительность, преображая её: «Я бог таинственного мира». В созданной Сологубом «лестнице совершенств» это высшая ступень деятельности художника. Поднявшись на эту творческую высоту, он способен творить легенду не только для себя, но указывать путь другим.
Основываясь на примере Сологуба, свой мир любви и поэзии создал Игорь Северянин. Он назвал страну «Миррэлия» в честь своей любимой поэтессы Мирры Лохвицкой, «певицы страсти» и «царицы русского стиха». В посвящённых Мирре Лохвицкой стихотворениях впервые у Северянина звучит мотив ухода в страну поэзии и любви: «Лишь поэту она дорога, / Лишь поэту сияет звездой!» Как видно, вначале Северянин использует образ идеальной звезды, к ней можно, как у Сологуба, устремиться душой. Это влияние было не случайным: Северянин посещал с 1912 года литературный салон Фёдора Сологуба и его жены Анастасии Чеботаревской, совершил с ними гастрольное турне по городам России. Вослед Сологубу он устремлялся в поэтический полёт «на грёзовом автомобиле», повторяя буквально его формулу «Я Бог таинственного мира»: «Я царь страны несуществующей».
Поклонение Мирре Лохвицкой в стране Миррэлии стало частью не только творческого, но и биографического мифа. Для Северянина идеальная ипостась его существования, его «грёзовое царство» открывается в земном ореоле, через очарование поэзией Мирры Лохвицкой, природой и любовью.
Образ утопической страны упоминается в ряде стихотворений Северянина, например, «В Миррэлии» (1912) как вполне реальный. «В лесах безразумной Миррэлии / Цветут лазоревые сливы», здесь «бродяга-менестрель» ловит стремительных форелей, его душа «влечётся к средоточью».
Наблюдая повторяемость природного цикла, поэт ощущает не сологубовский «тёмный смертный сон», а вдохновение и восторг: «Пылай, что льдисто заморожено! / Смерть, умирай, навеки сгиня!»
Читатели жизнелюбивой, витальной поэзии Северянина настолько ясно видели страну его поэтических грёз, что по карте искали её координаты. Поэт иронизировал над уподоблением дачного посёлка Луга его поэтическому творению – Миррэлии:
Миррэлия – грёза о юге
Сквозь северный мой кабинет.
Миррэлия – может быть в Луге.
Но Луги в Миррэлии нет!..
В письме Августе Барановой от 12 июня 1922 года Северянин разъяснял смысл придуманной им страны: «Так Вы полагаете, что Миррэлия на Готланде? (остров в Балтийском море, принадлежащий Швеции. – В. Т., Н. Ш.-Г). Не слишком ли это определённо для призрачного?.. О, дорогая и любимая, светло и дружески скажу словами Св[ятой] Мирры: “Всё то, что выше жизни, зовётся сном...”»
«Призрачное» как понятие в поэтике Игоря Северянина было связано с мистическим миром Сологуба. Сны и мечтания сближали его с творчеством Лохвицкой. Между этими двумя полюсами находилось «грёзовое царство» Северянина.
Я – царь страны несуществующей,
Страны, где имени мне нет...
Душой, созвездия колдующей,
Витаю я среди планет.
Я, интуит с душой мимозовой,
Постиг бессмертия процесс.
В моей стране есть терем грёзовый
Для намагниченных принцесс...
Определяющими чертами поэтической страны Северянина становятся «безразумность» и «грёзовость». Два неологизма образованы поэтом с целью подчеркнуть иррациональность создаваемой утопии, интуитивность её постижения (безразумность – отрицает разум и разумность. Грёзовость, грёзовый – от «грёза» как видение, мираж).
О ты, Миррэлия моя! —
Полустрана, полувиденье!
В тебе лишь ощущаю я
Земли небесное волненье...
Поэт намеревается идти «...в природу, как в обитель / Петь свой осмеянный устав», уйти на милый север, под зеленоглазое небо, от громких улиц к лесам... «Ивановка», Дылицы, Тойла, где часто проводил лето Северянин, становятся его Идеальной Идиллией, источником поэтических образов Миррэлии.
Критик и поэт Дмитрий Крючков обещал читателям: «Спасение придёт – через рукоплескания толпы до Северянина долетит шум клёнов, аромат родимых “Дылиц”, где он создавал свои утренние, очаровательные песни. Сад, зачарованный сад – его царство; его, принца Миррэлии, ждёт покинутый трон, в чаще, в сплетении ветвей и шорохе листьев».
Но Миррэлия – не рай земной, она рождена поэтом в сопротивлении рациональному миру цивилизации, который «мертвее, безнадёжнее могил». Его олицетворением выступает «преступный город – убийца вдохновенья», «порывов светлых, воздуха и грёз». В стихотворении «Carte-postale» (1912) поэт мечтает уехать из Петербурга:
Сегодня я плакал: хотелось сирени, —
В природе теперь благодать!
Но в поезде надо, и не было денег, —
И нечего было продать...
Гулять же по городу – видеть автобус,
Лицо проститутки, трамвай...
Но это же гадость! Тогда я взял глобус
И, в грёзах, поехал в Китай.
Поэтическое преобразование реального мира в «Миррэлию» нивелировало ценности окружающего, поэтому в поэзии Северянина появляется ирония, травестирование символистских образов. Сологуб видит трагизм действительности и в противовес реальности создаёт иной, эстетический, мир. В творчестве Северянина жизнь многообразно воспета во всех её проявлениях и открытая социальная рефлексия чрезвычайно редка – это стихи о войне («Монументальные моменты», «Револьверы революции»), о судьбе послереволюционной России («Запевка», «Отечества лишённый»), Именно в разгар мировой войны и революции Северянин написал цикл баллад и кэнзелей, вошедших в сборник «Миррэлия». Поэт острее чувствует необходимость в мечте: «Да, не любить тебя нельзя, / Как жизнь, как май, как вдохновенье!» Противостоя внешним обстоятельствам («прозе жизни»), Игорь Северянин сохраняет свой творческий мир: «А потому – Миррэлия – как грёза, – Взамен всех проз!..»
«Кроме звёзд и Миррэлии ничего в мире нет!» – убеждён Северянин. В этой стране невозможна война, «потому что Миррэлия не видна никому...». Но поэт стремится приоткрыть завесу фантазии:
Взнеси, читатель, свой фиал.
То, – возрождённая Эллада,
И не Элладу ль ты искал
В бездревних дебрях Петрограда?
Ну что же: вот тебе награда:
Дарю тебе край светлых фей.
Кто ты, читатель, знать не надо,
А я – миррэльский соловей.
В его стране есть королева Ингрид, её подруга Эльгрина, актриса Балькис Савская – «из древней миррэльской фамилии графской». Поэт признается: «Баллад я раньше не писал». Он обращается к примеру Оскара Уайльда и его «Баллады Редингской тюрьмы», как позже сделает Маяковский в поэме «Про это» (1923).
Жизнь в эмиграции, среди озёр и лесов Эстонии, только усилила разрыв между природным миром, близким Миррэлии, и городским, чуждым поэзии. В стихотворении «Культура! Культура!» (1926) Северянин показывает город как «трактирный зверинец, публичный, – общественный! – дом».
«Король Фокстрот» – этот популярный танец стал для Северянина символом пошлого бескультурья. В письмах Августе Барановой он сетовал: «...офокстротились все слишком. <...> Теперь, когда современная, с позволения сказать, цивилизация воздвигла вертикальную кроватку Shimmi и Fokstrott’a, есть ли людям надобность в чистой лирике и есть ли людям дело до лирических поэтов – как они живут, могут ли вообще жить».
В стихотворении Северянина «Стреноженные плясуны» речь идёт о танцующих чарльстон и презирающих природу – здесь «техникою скорчен век». «Поэты, человечьи соловьи», принуждены умолкнуть при агрессивных звуках механических мелодий, подобно живому соловью при появлении расписного механического соловья в сказке Андерсена.
Скептическое восприятие цивилизации у Северянина в 1920—1930-х годах усилилось. Изменился его взгляд на возможность сохранить свой мир «на планете Земля, для её населенья обширной, / Но такой небольшой созерцающим Землю извне...». Это мудрость, казалось бы, человека космической эры, а не середины 1920-х годов.
Миррэлия становится больше похожа на планету Иронию, о которой Северянин пишет Надежде Тэффи, юмористической писательнице, сестре Мирры Лохвицкой (1925):
Сирень с Иронии, внеся расстройство
В жизнь, обнаружила благое свойство:
Отнять у жизни запах чепухи.
Поэт надеется, что тогда зачахнут «земная пошлость, глупость и грехи», но оживут «людские грёзы, мысли и труды».
Жизненное кредо Северянина, так же как и Сологуба, – созерцатель. Северянин вслед за ним считает, что не в силах изменить исторический ход событий. Оставаясь созерцателями реальности, поэты уходят в свой вымышленный мир – поэзию и прозу, там искусство и культура – всегда и извечно – непреходящие ценности. Однако Игорь Северянин примиряет человека с миром, находит место «иной стране» не в космосе, а в земном пространстве: «Я живу на земле в красоте».
В основу жизнетворчества Игоря Северянина легла эстетическая идея возможности преобразования мира в художественном творчестве, воплощённая Фёдором Сологубом и унаследованная его младшим современником: «Миррэлия! как ты счастлива / В небывшем своём бытии!»
Однако литературная критика не приняла фантастический мир Северянина. В рецензии Романа Гуля говорилось:
«В былые времена bon ton литературной критики требовал бранить Игоря Северянина. Его бранили все, кому было не лень, и часто среди “иголок шартреза” и “шампанского кеглей” в его стихах не замечали подлинной художественности и красоты. А она была; – вспомните: “Это было у моря”, “Быть может от того”, “Хабанера”, “Сказание об Ингрид” и мн. др.
Правда: Северянину никогда не случалось быть “гением”, но справедливость требует отметить, что в довоенной Москве он был маленьким литературным калифом. К сожалению для автора – это было очень давно, и теперь выпущенный в свет его “Менестрель” говорит с совершенной ясностью, что калифство было даже меньше, чем на час.
Можно дивиться бледности, беспомощности и бездарности вышедшей книги И. Северянина.
Она – о “булочках и слойках”. <...>
И совсем уже становится страшно за поэта, когда среди “булочек”, “поленьев”, “слоек”, “грёзотортов” и “сена” он вновь “самопровозглашает” и “коронует” себя. Единственное спасение, по-моему, – это напомнить Северянину, что “всему час и время всякой вещи под солнцем”».
А. Б.[ахрах] в рецензии на сборник «Миррэлия» писал: в нём «талант действительного поэта Игоря Северянина душим Игорем Северянином»; «Не “Миррэлия”, а “поэзоконцертная парикмахерская”. Ингрид: она всех улыбкой малинит... Изредка сверкнут прежние, яркие строки, напомнят, что поэт томится в “куаферской”».
«Я – соловей...»В марте 1923 года в берлинском издательстве «Накануне» вышла книга «Соловей: Поэзы 1918 года». Тираж десять тысяч экземпляров. Обложка Н. В. Зарецкого. В книгу вошло 98 стихотворений, которые Северянин написал в 1918—1919 годах. На обороте посвящения автор пояснял: «Эти импровизации в ямбах выполнены в 1918 году, за исключениями, особо отмеченными, в Петербурге и Тойле». Для Северянина послереволюционный год был сложным и плодотворным временем. Несмотря на заявленную им позицию наблюдателя, аполитичного певца («Я – соловей: я без тенденций...»), он участвовал в публичных выступлениях, проводимых Союзом деятелей искусств в Петрограде, выступал в московском кафе футуристов. В Политехническом музее 27 февраля 1918 года Северянин был избран королём поэтов. В издательстве Пашуканиса выходило многотомное собрание его поэз, и критики, по словам Виктора Ховина, ставили вопрос не только об Игоре Северянине, но даже шире – о северянизме вообще.
Однако подготовленный в 1918 году сборник вышел из печати только в 1923 году. За это время 23 произведения было опубликовано в его книге «Puhajogi» (Пюхайыги (эст.) — Святая река); «Интродукция», «Пушкин», «Соната “Изелина”» были включены в книгу «Сгёте des Violettes: Избранные поэзы» («Крем де виолет» (фр.) – фиалковый ликёр), обе – 1919-й.
Северянин с трудом находил возможность публиковать составленные им новые поэтические книги. Так, в журнале «Русская книга» он дал объявление, что «имеет для издания следующие неизд[анные] ещё сборн[ики] стихов: “Миррэлия”, “Ручьи в лилиях”, “Соловей”, “Настройка лиры”, “Менестрель”, “Amores”, “Фея Eiole” (1920). Эти сборники могли бы составить т. VII—XIV собрания сочинений».
История издания сборника «Соловей» связана с пребыванием Северянина в Берлине, куда он вместе с женой, Фелиссой Круут, приехал 6 октября 1922 года. В письме Августе Барановой 23 октября 1922 года он сообщал, что встретил «много знакомых: Минского, Зин[аиду] Венгерову, худ[ожника] Пуни, Василевского (Небукву), Маяковского, Виснапу и др.».
Северянин вспоминал в 1940 году: «Уже в ту пору я ярко осознал пустоту, бессердечие и фальшь т. н. русской эмиграции, наводнившей столицу Германии. “Белые” издатели, которых было 32—33, выпускали всякую ерунду вроде Крыжановской-Рочестер и Брешко-Брешковского, стихи Агнивцева и Жак-Нуара, на лирику фыркали и оплачивали её жалкими грошами. <...> Маяковский и Кусиков принимали во мне тогда живое участие: устроили в “Накануне” четыре мои книги: “Трагедия Титана”, “Соловей”, “Царственный паяц” и “Форелевые реки”. Деньги я получил за всё вперёд, выпущено же было лишь две первых».
Выход в Берлине сборника «Соловей» возродил надежды поэта, особенно надежду на возвращение в Россию. Северянин вспоминал в «Заметках о Маяковском»: «Володя сказал мне: “Пора тебе перестать околачиваться по европейским лакейским. Один может быть путь – домой”». Реальность этих надежд подтверждается письмом Северянина Августе Барановой 10 января 1923 года: «Осенью поедем в Россию». Сохранилось и письмо антрепренёра Ф. Е. Долидзе, сообщавшего о возможности выступлений в Москве. Тогда же, 24 января 1923 года, Северянин написал Маяковскому дружеское стихотворение, где говорилось о желанном сотрудничестве: «Ты мне побольше, поогромней / Швырни ответные стихи!»
В сборнике «Соловей» сохранились черты первоначального замысла – «Поэмы жизни». Так, начальное стихотворение «Интродукция» и заключительное – «Финал» подчёркивают единство композиции произведения и особенности его «раздробленного сюжета». Многие стихи определены автором как «главы» более крупного произведения, они сюжетно связаны («Тайна песни», «Не оттого ль?..», «Чары соловья», «Возрождение») или развивают последовательно одну тему («Сон в деревне», «Трактовка»). Более того, стихотворение «Высшая мудрость» было ранее опубликовано в альманахе «Поэзоконцерт» (1918) под названием «Поэма жизни: Отрывок 28-й». Оставляя замысел поэмы неисчерпанным, Северянин в стихотворении «Финал» пояснял: «Поэма жизни – не поэма: Поэма жизни – жизнь сама!»
Посвящение на титульном листе сборника «Соловей»: «Борису Верину – Принцу Сирени» – также связано с пребыванием Северянина в Берлине осенью 1922 года. Оно относится к поэту Борису Николаевичу Башкирову-Верину, который входил в окружение Северянина в 1915—1918 годах. В письме Августе Барановой от 22 июня 1922 года Северянин пояснял: «Я произвёл Эссена, Башкирова и Правдина в принцы – Лилии, Сирени и Нарциссов. Они заслужили это – они слишком любят искусство».
Борис Башкиров был в эмиграции дружен с композитором Сергеем Прокофьевым, вместе с которым приезжал в октябре 1922 года в Берлин, встречался с Северяниным. Об этом упоминает Северянин в письме Барановой от 23 октября 1922 года:
«Мой верный рыцарь – Принц Сирени – поэт Борис Никол[аевич| Башкиров-Верин – 8-го приехал из Ettal (около Мюнхена), – где он живёт с композитором] С. Прокофьевым, – чтобы повидаться со мной. Он пробыл в Берлине 8 дней, и мы провели с ним время экстазно: стихи лились, как вино, и вино, как стихи». В память этих встреч было сделано посвящение книги Борису Верину. Ему также адресованы стихотворения «Борису Верину» (Вервэна) и «Поэза принцу Сирени» (Фея Eolie).
Одно из центральных стихотворений книги «Соловей» – «Слава» – написано в связи с избранием Северянина королём поэтов и воспринималось как «автоода», как пример самовосхваления. Так, в цитированной рецензии на книгу «Соловей» Александр Бахрах с иронией отмечал: «...и падал Фофанов к ногам!., (бедный Фофанов!). Для нового издания всё это даже не перечёсано заново; старый, довоенный фиксатуар так и лоснится со страниц книги».
Между тем, как отмечалось выше, поэт почти не преувеличивал реальность, но возражать критикам не хотел, повторяя: «Виновных нет: все люди правы, / Но больше всех – простивший прав!» Им отмеченные знаки внимания действительно были. Любовь Константина Фофанова к молодому поэту видна в многочисленных стихотворных и прозаических посвящениях. О том, как Николай Гумилёв оказался у дверей Северянина и не был им принят «ввиду ветрооспы», также хорошо известно. Для Николая Клюева в период «Бродячей собаки» был свойствен такой стиль поведения – недаром его называли «ладожским дьячком».
Тем не менее «двусмысленная слава» сопровождала Северянина и после завоевания титула короля поэтов. Константин Мочульский писал: «Игорь Северянин – гений a priori. Обычно поэт предоставляет критике оценивать свои достоинства... Северянин сначала построил монумент своей гениальности и славе, а потом стал писать стихи».
Новые мотивы в стихах поэта отмечал Михаил Струве: «...гораздо лучше, сойдя с философских ходуль и прекратив жеманные причитания на социальные темы, Игорь Северянин скользит по поверхности или делает иронически-насмешливые картинки действительности».
Участник выступлений в «Кафе поэтов» Аристарх Гришечко-Климов вспоминал: «Игорь Северянин, этот непревзойдённый в своё время поэт – мастер искусной эротики, в стихах и поэмах самовосхваляющего стиля показывался здесь под видом пролетария, в форме призывника, в простых сапогах, с целью предупреждения преждевременного забвения читателем своего имени».
«...Я – лирический ироник», – признавался Северянин. Одновременно с книгой «Соловей» он продал издательству «Накануне» рукопись «Изборника II»: «Царственный паяц (Сатира и ирония)», который не был напечатан. Размышляя об особенностях иронического мироощущения, Александр Блок в статье «Ирония» писал, что «самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь – сродни душевным недугам и может быть названа “ирония”. <...> Кричите им в уши, трясите их за плечи, называйте им дорогое имя, – ничто не поможет. Перед лицом проклятой иронии – всё равно для них: добро и зло, ясное небо и вонючая яма, Беатриче Данте и Недотыкомка Сологуба».
В стихотворении «Любители “гелиотропа” Северянин иронизировал над критиками, для которых он «приказчик или парикмахер». Действительно, о нём часто писали: «Любительство, безвкусие, парикмахерская галантерейность»; «...хуже дяди Михея, парикмахер, парфюмерный магазин»; «...писатель, сумевший совместить в себе и отмеченного Богом поэта, и парикмахера, воспевающего “ликёры” и “лимузины”». Александр Измайлов считал, что когда из стихов Северянина «исчезнут парикмахерские духи и марки шампанского, ему из гроба ласково улыбнётся такой ему родственный и так нежно им любимый певец «Царевича Триолета»[2]2
Имеется в виду К. М. Фофанов.
[Закрыть].
В стихотворении поэт обращается к излюбленному приёму – цветовой и цветочной символике, как в поэзе «Те, кого так много». Опираясь на пример романа французского писателя Шарля Гюисманса (1848—1907) «Наоборот» (1884, рус. пер. – 1906), Северянин напоминает: Оскар Уайльд называл роман «кораном декаданса». Дез’Эссент – герой романа «Наоборот» – последний представитель аристократического рода, он «всегда был без ума от цветов. <...> Одновременно с утончением его литературных вкусов и пристрастий, самым тонким и взыскательным отбором круга чтения, а также ростом отвращения ко всем общепринятым идеям отстоялось и его чувство к цветам... <...> Дез’Эссенту казалось, что цветочную лавку можно уподобить обществу со всеми его социальными прослойками...».
Так, маттиола, или левкой – скромный душистый цветок казался аристократам, как отмечено в романе Гюисманса, «цветком трущоб». Поэт вспоминает о двух, казалось бы, противоречащих свойствах другого цветка: гелиотроп – полукустарник семейства бурачниковых, с лиловыми или белыми душистыми цветами, содержит гелиотропин, применявшийся в парфюмерии в начале XX века для изготовления одеколонов. Но соцветия гелиотропа всегда обращены к солнцу, и поэтому с давних времён он служил символом поклонения, власти, эмблемой набожности у христиан, атрибутом святых и пророков. Следовательно, обличения критиков не достигают цели: «парикмахер», «любитель парфюмерии» оказывается пророком. Он пишет «Рескрипт короля» и серию поэтических характеристик своих собратьев по перу – Брюсова, Бальмонта, Ахматовой, Гофмана, Львовой... Это первые подступы к будущему циклу из ста сонетов о творцах мировой культуры – «Медальоны». Особенно виртуозно написано стихотворение «Пять поэтов».
Сохранилось признание Северянина: «Нравятся ли Вам Гумилёв, Гиппиус, Бунин, Брюсов, Сологуб – как поэты? Это мои любимейшие» (письмо Софье Карузо от 12 июня 1931 года). Напротив, Константин Мочульский считал, что в творчестве Северянина «в искажённом и извращённом виде изживается культура русского символизма. <...> Солнечные дерзания и “соловьиные трели” Бальмонта, демоническая эротика Брюсова, эстетизм Белого, Гиппиус и Кузмина, поэзия города Блока – всё слилось во всеобъемлющей пошлости И. Северянина. И теперь в эпоху “катастрофических мироощущений” эта скудость духа русского поэта ощущается особенно болезненно». Валерий Брюсов отмечал близость северянинской «мещанской драмы» книге Андрея Белого «Пепел». Вячеслав Иванов называл Северянина «блудным сыном» муз, который «из поколения в поколение накопленные родительские книги начинает распродавать и покупает на них ликёры и тому подобное».
Но объективно рассматривая литературный контекст того времени, следует признать включённость Игоря Северянина в канонический ряд русских поэтов.
Об упомянутом в стихах сборника «Соловей» И. А. Бунине Северянин писал своему другу Леониду Афанасьеву 23 сентября 1910 года: «Не будете ли любезны, не пришлёте ли мне Бунина: настроение читать его, изящного, тонкопёрого, атласистого...» Бунин в беседе с корреспондентом газеты «Южная мысль» весной 1913 года говорил: «Странным и непонятным для меня являются серьёзные статьи об Игоре Северянине – об этой слишком мелкой величине в литературе». Личная встреча писателей состоялась лишь в 1938 году в Таллине.
Нельзя не напомнить о рано ушедшем поэте Викторе Гофмане, последователе Брюсова, соученике Владислава Ходасевича по московской гимназии, авторе двух сборников стихотворений и книги прозы «Любовь к далёкой». Давид Выгодский писал, что поэт сумел «не только привлечь симпатии читателей, но и оставить след своей небольшой, но яркой индивидуальности в современной поэзии». Он оказал влияние на раннего Маяковского. Посмертное собрание сочинений Виктора Гофмана в двух томах вышло в издательстве В. В. Пашуканиса (1917), где тогда печаталось «Собрание поэз» Северянина. По мнению Выгодского, Северянин обязан ему многим, заимствовав у него некоторые синтаксические «изыски». Такова строфа Виктора Гофмана, которая, возможно, считал критик, «послужила образцом для половины произведений Игоря Северянина:








