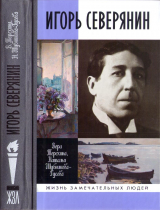
Текст книги "Игорь Северянин"
Автор книги: Наталья Шубникова-Гусева
Соавторы: Наталья Шубникова-Гусева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Поэт очень болезненно переживал подобные случаи и пытался их всячески предотвратить. В имеющихся у него в библиотеке авторских экземплярах он исправлял все замеченные им опечатки и искажения текста, поэтому хранящиеся в ЭЛМ книги «Громокипящий кубок» (М., 1916), «Менестрель» (Берлин, 1921), «Миррэлия» (Берлин, 1922), «Соловей» (Берлин, 1923) и другие являются важными источниками текста.
Северянин любил читать книги с карандашом в руке и исправлял опечатки не только в своих книгах, но и в книгах других авторов, находящихся в его библиотеке. В одной из статей под названием «Опечатки», посвящённой поэту, цитировалось «одно из неизданных стихотворений» о волшебных снах автора:
Мне снится книга без ошибок, —
О, корректуры идеал!
За этот сон сказать спасибо, —
Когда поэзы без ошибок, —
Мне хочется. Как сон мой гибок,
Сон в смокинге, – без одеял:
Ведь в нём – и книги без ошибок,
И корректуры идеал.
Избрание короля поэтов
Возвратившись в революционный Петроград, Северянин в мае 1917 года принимает участие в выступлениях: в концертном зале Тенишевского училища (Моховая, 33) проходит «Первый республиканский поэзовечер» Игоря Северянина. Кумир петроградской публики читает «новые стихи марта 1917 года», «стихи, ранее запрещённые» и «весеннюю лирику». «Наш нежный, наш единственный» Игорь Северянин устраивает «первый республиканский поэзовечер».
«Игорь, Выли это?! – иронизировал журналист М. Фридлянд в «Журнале журналов». – Где принцессы Ваши, где лимузины и ананасы? Он стал республиканцем, наш великий футурист. Воспевает Временное правительство и Совет Рабочих депутатов». Речь шла об участии Северянина в «Первом республиканском поэзовечере», который состоялся 13 мая 1917 года в Москве в зале Синодального училища. Северянин сотрудничает с Союзом деятелей искусств и 3 января 1918 года выступает на вечеринке поэтов и артистов.
В Рождество, пользуясь всё ещё праздничными днями, Северянин устремился в Тойлу, чтобы подготовить жильё и всё, связанное с будущим переселением в эстонский посёлок, и через два дня возвратился в Петроград. Поездка зимой в дачную местность и в обычное время сопряжена с трудностями, но в условиях военного и революционного хаоса, голода и разрухи собрать в дорогу старую мать, не привыкшую самостоятельно платок повязать, артистичную, но непрактичную Домбровскую!.. Позаботиться о тёплых вещах, о провизии, упаковать любимые книги, фотографии, письма, – и во главе этого женского обоза он – гений Игорь Северянин... Так, 28 января 1918 года в дни разгона Учредительного собрания они покинули Петроград и, не зная того, навсегда переехали в эстонскую Тойлу.
Устроившись на новом месте, Северянин в феврале поехал на заработки в Москву, где ещё выходили его тома поэз у Пашуканиса. Скоро Пашуканис, ставший одним из экспертов Наркомпроса по охране реквизированных усадеб и культурных ценностей, был обвинён в пособничестве буржуазным элементам и расстрелян. Северянин приходил в «Кафе поэтов» в Настасьинском переулке. По воспоминаниям А. Климова, он был в полувоенной форме, читал с успехом, но ему было тесно на маленьком пространстве кафе – вместе с Маяковским, Каменским, Бурлюком... Опытный Долидзе организовал 23 февраля поэзовечер Игоря Северянина в Политехническом музее при участии Давида Бурлюка, Василия Каменского, Владимира Маяковского.
«Северянин был не в голосе и потому напевность ему не удалась, хотя у публики его успех был несомненен. Много позы, неискренности чувствовалось в выступлениях Игоря Северянина».
Апофеоз поэтического соперничества наступил 27 февраля. В Москве в переполненном публикой зале Политехнического музея проходит вечер «Избрание короля поэтов». «Всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием» это звание присуждено Северянину. Второе место занимает Маяковский, третье – Бальмонт. Это была высшая точка триумфального успеха поэта, который он предчувствовал десять лет тому назад:
Я коронуюсь утром мая
Под юным солнечным лучом,
Весна, пришедшая из рая,
Чело украсит мне венцом.
Вечеру предшествовало газетное объявление:
«Поэты!
Учредительный трибунал созывает всех вас состязаться на звание короля поэзии. Звание короля будет присуждено публикой всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием.
Всех поэтов, желающих принять участие на великом, грандиозном празднике поэтов, просят записываться в кассе Политехнического музея до 12 (25) февраля. Стихотворения неявившихся поэтов будут прочитаны артистами.
Желающих из публики прочесть стихотворения любимых поэтов просят записаться в кассе Политехнического музея до 11 (24) февраля. Результаты выборов будут объявлены немедленно в аудитории и всенародно на улицах».
На призыв устроителей вечера откликнулось довольно много малоизвестных поэтов и просто случайных людей. В Фонде Е. Ф. Никитиной (ГЛ М) сохранилась «Программа на избрание Короля поэтов»:
«Отделение первое:
Вступительное слово учредителей трибунала, избрание из публики председателя и выборной комиссии.
Артистка Наталия Поплавская прочтёт стихотворения Ив[ана] Алексеевича] Бунина и Валерия Брюсова.
Лев Никулин прочтёт стихотворения Ф. Сологуба.
Артистка Н. А. Нолле прочтёт стихотворения Ахматовой и А. Блока.
К. Д. Бальмонт.
Игорь Северянин.
Василий Каменский.
Давид Бурлюк.
Владимир Маяковский.
Антракт 10 минут.
[Отделение второе:]
Артист Раневский прочтёт стихи Королевича.
Лев Никулин.
Елизавета Панайотти.
Стефан Скушко.
Морозов Евгений.
Василий Фёдоров.
Мария Кларк.
Семён Симаков.
Михаил Лисин.
Елена Ярусова.
Скала Дон-Бравино.
Поляков.
Константин Дуглас.
Виктор Мюр.
Владимир Никулин.
Николай Куршин.
Алексей Ефременков.
Антракт 10 минут.
Подача избирательных карточек.
Подсчёт голосов.
Избирание и чествование короля поэтов».
Журнал «Рампа и жизнь» (1918, № 9) отмечал: «Часть аудитории, желавшая видеть на престоле г. Маяковского, ещё долго после избрания Северянина продолжала шуметь и нехорошо выражаться по адресу нового короля и его верноподданных».
Сегодня подробности этого события забыты. Одним оно кажется забавным, другим – значительным и серьёзным. А что было на самом деле? Заслуженно ли получил звание короля поэтов Игорь Северянин?..
Участник того состязания С. Д. Спасский вспоминал, что выступать разрешалось всем:
«На эстраде сидел президиум. Председательствовал известный клоун Владимир Дуров.
Зал был забит до отказа. Поэты проходили длинной очередью. На эстраде было тесно, как в трамвае... Маяковский читал “Революцию” [по другим сведениям – отрывок из поэмы “Облако в штанах”], едва имея возможность взмахнуть руками... Он швырял слова до верхних рядов, торопясь уложиться в отпущенный ему срок. Но “королём” оказался не он. Северянин приехал к концу программы. Здесь был он в своём обычном сюртуке. Стоял в артистической, негнущийся и “отдельный”.
– Я написал сегодня рондо, – процедил он сквозь зубы вертевшейся около поклоннице.
Прошёл на эстраду, спел старые стихи из “Кубка”. Выполнив договор, уехал. Начался подсчёт записок. Маяковский выбегал на эстраду и возвращался в артистическую, посверкивая глазами. Не придавая особого значения результату, он всё же увлёкся игрой. Сказывался его всегдашний азарт, страсть ко всякого рода состязаниям.
– Только мне кладут и Северянину. Мне налево, ему направо.
Северянин собрал записок немного больше, чем Маяковский».
Журнал «Рампа и жизнь» сообщал: «Публика аплодировала, свистала, ругала, стучала ногами, гнала артистов, читавших стихи Бунина и Блока». Северянин выступил с тремя стихотворениями: «Весенний день», «Это было у моря», «Встречаются, чтоб разлучаться». Читал «кристально, солнечно, проточно». Одно из наиболее известных стихотворений Северянина «Весенний день», посвящённое поэту К. М. Фофанову, автор особенно любил читать с эстрады. «Читаю и я “Весенний день”», – говорил Маяковский.
Константин Паустовский вспоминал:
«К его ногам бросали цветы – тёмные розы. Но он стоял всё так же неподвижно и не поднял ни одного цветка. Потом он сделал шаг вперёд, зал затих, и я услышал чуть картавое пение очень салонных и музыкальных стихов:
Шампанское – в лилию, в шампанское – лилию!
Её целомудрием святеет оно!
Миньон с Эскамильо, Миньон с Эскамильо!
Шампанское в лилии – святое вино!
В этом была своя магия, в этом пении стихов, где мелодия извлекалась из слов, не имевших смысла. Язык существовал только как музыка. Больше от него ничего не требовалось. Человеческая мысль превращалась в поблёскивание стекляруса, шуршание надушенного шёлка, в страусовые перья вееров и пену шампанского.
Было дико и странно слышать эти слова в те дни, когда тысячи русских крестьян лежали в залитых дождями окопах и отбивали сосредоточенным винтовочным огнём продвижение немецкой армии. А в это время бывший реалист из Череповца, Лотарев, он же “гений” Игорь Северянин, выпевал, грассируя, стихи о будуаре тоскующей Нелли.
Потом он спохватился и начал петь жеманные стихи о войне, о том, что, если погибнет последний русский полководец, придёт очередь и для него, Северянина, и тогда, “ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин”.
Сила жизни такова, что переламывает самых фальшивых людей, если в них живёт хотя бы капля поэзии. А в Северянине был её непочатый край. С годами он начал сбрасывать с себя мишуру, голос его зазвучал человечнее. В стихи его вошёл чистый воздух наших полей, “ветер над раздольем нив”, и изысканность сменилась лирической простотой: “Какою нежностью неизъяснимою, какой сердечностью осветозарено и олазорено лицо твоё”.
В Политехническом был в тот вечер Рубен Симонов, рассказавший об “Избрании короля поэтов”. В нём наряду с другими поэтами участвовали Маяковский, Северянин, Каменский. Зрительный зал был переполнен. Поэты один за другим читают свои стихи. Маяковский в своей обычной манере, красивым низким голосом, доходящим до последнего ряда балкона. Северянин немного в нос, скорее напевает, чем читает. Василий Каменский очень задушевно, грудным голосом, с большим обаянием читает отрывки из “Степана Разина”. Зрительный зал разделился на партии. Каждый поэт имеет своих почитателей. Особенно много их у Маяковского.
По окончании чтения начинается голосование. Каждый из присутствующих опускает в ящик билет, где надписывается фамилия поэта, за которого он подаёт голос. Я опускаю свой билет с фамилией Маяковского. Проходит полчаса. Бюллетени подсчитаны – королём поэтов избран Игорь Северянин. На голову поэта возлагается лавровый венок. Его чествуют поклонники. Я ухожу огорчённый. Почему не Маяковский?
Прошло лет десять после этого вечера. Как-то, идя по Никитскому бульвару, я встречаю Василия Каменского. Мы направляемся в пивной бар, который находился в конце Никитского бульвара. Вспоминаем недавнее прошлое, диспуты в Политехническом, вечер избрания “короля поэтов”.
– Как же так получилось, что избран был Игорь Северянин? – задал я вопрос Василию Васильевичу.
– О, да это преинтереснейшая история, – весело отвечает Каменский. – Мы решили, что одному из нас почести, другим – деньги. Мы сами подсыпали фальшивые бюллетени за Северянина. Ему – лавровый венок, а нам – Маяковскому, мне, Бурлюку – деньги. А сбор был огромный!»
Рескрипт короля9 марта состоялся вечер «Короля поэтов Игоря Северянина» в Политехническом музее – последний из двадцати шести поэзовечеров, проведённых им в Москве в 1915—1918 годах. Возможно, тогда и прозвучал впервые «Рескрипт короля»:
Отныне плащ мой фиолетов,
Берэта бархат в серебре:
Я избран королём поэтов
На зависть нудной мошкаре.
Меня не любят корифеи —
Им неудобен мой талант:
Им изменили лесофеи
И больше не плетут гирлянд.
Лишь мне восторг и поклоненье
И славы пряный фимиам,
Моим – любовь и песнопенья! —
Недосягаемым стихам.
Я так велик и так уверен
В себе, – настолько убеждён, —
Что всех прощу и каждой вере
Отдам почтительный поклон.
В душе – порывистых приветов
Неисчислимое число.
Я избран королём поэтов —
Да будет подданным светло!
Поэзовечер оказался в прямом смысле рубежным для поэта, чьё возвращение в «хвойную обитель», в эстляндскую Тойлу в конце марта 1918 года совпало с брест-литовским переделом границ и обернулось для Северянина двадцатилетней эмиграцией.
В начале марта вышел сборник «Поэзоконцерт», открывавшийся фотографией поэта с надписью: «Король поэтов Игорь Северянин». Северянин успел подарить эту книгу Чеботаревской, посетив Петроград, где ещё оставались Елена Яковлевна Семёнова и дочь Валерия. 15 марта 1918 года, когда вышел единственный номер «Газеты футуристов», «Поэтная комиссия по ликвидации И. Северянина как короля поэтов» объявила, что митинг с выборами Временного правительства состоится в пятницу в кафе «Магги».
Газета «Московский вечерний час» сообщала: «Как и подобает истинному самодержцу – у него появилась оппозиция Его Величества, благородную и выигрышную роль которой не без успеха исполняют футуристы.
Говорят, что король будет низложен и московским Парнасом начнёт править совет поэтических депутатов. Надо надеяться, что переворот пройдёт бескровно. Впрочем, поклонникам Игоря Северянина беспокоиться за судьбу его не приходится: “Его Величество” уже объявил о своём отбытии в Америку». Но Северянин отправился в Эстонию.
После его отъезда в издательстве В. В. Пашуканиса выходит первый том третьего издания «Собрания поэз» Игоря Северянина, куда входит книга «Громокипящий кубок» (десятое издание) с посвящением гражданской жене поэта Марии Волнянской, «моей тринадцатой и, как Тринадцатая, последней» и с «Автопредисловием». Тираж 15 тысяч экземпляров. Затем появляется сборник «Весенний салон поэтов» при участии Северянина, а также символистов, акмеистов и футуристов.
В стихотворении «Всеприемлемость» (1918) Северянин писал:
Любя эксцессные ликёры
И разбираясь в них легко,
Люблю зелёные просторы,
Дающие мне молоко.
В зелёные просторы Эстонии, в маленький посёлок Тойлу уехал Северянин к своей больной матери, конечно, не предполагая, что навсегда уезжает из России и от своей громокипящей известности.
Часть третья
«И ВОТ МЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ РОДИНЫ...»
1918—1930
Глава первая
ТОЙЛАСКИЙ ОТШЕЛЬНИК
Король в изгнанииИтак, король поэтов Игорь Северянин вместе с Марией Волнянской после шумных торжеств и многолюдных поэзовечеров в Москве отправился к семье в эстонский дачный посёлок Тойла. Ещё в январе 1918 года он из голодного Петрограда вывез туда больную мать, Наталью Степановну, и Елену Семёнову с дочерью Валерией. 13 марта (старого стиля) 1918 года в Ревеле, в номере гостиницы «Золотой лев» написано стихотворение «Музе музык», посвящённое трёхлетию встречи с Марией Волнянской, его Тринадцатой, которой посвящены восьмое и последующие издания «Еромокипящего кубка» в составе собрания сочинений. Ничто, даже вынужденное пребывание в Ревеле, не могло омрачить этого дня. Образ возлюбленной осеняет картину города, а судьба, как выпавшая карта, страшит неизвестностью и, словно карта местности, заманивает:
Не страшно ли, – тринадцатого марта,
В трёхлетье неразлучной жизни нашей,
Испитое чрез край бегущей чашей, —
Что в Ревель нас забрасывает карта?
.................................................................
Как он красив, своеобразен, узок
И элегантно-чист, весь заострённый!
Восторженно, в тебя всегда влюблённый,
Твоё лицо целую, муза музык!..
На следующий день, 14 марта, воспоминания столкнулись с ненавистной поэту политикой, и в стихотворении «По этапу» нет и намёка на романтические чувства, только что чудесно преображавшие реальность. Эти стихи, разделённые несколькими часами, так диссонировали между собой, что Северянин, тяготевший к диссонансам, всё же поставил их в разные книги – первое в сборник «Соловей», второе – в книгу «Вервэна». Поэт был задержан по дороге в знакомую более пяти лет Тойлу:
Мы шли по Нарве под конвоем,
Два дня под арестом пробыв.
Неслась Нарова с диким воем,
Бег ото льда освободив.
В вагоне запертом товарном, —
Чрез Везенберг и через Тапс, —
В каком-то забытьи кошмарном.
Всё время слушали про «шнапс».
Мы коченели. Мёрзли ноги.
Нас было до ста человек.
Что за ужасные дороги
В не менее ужасный век!
Прощайте, русские уловки:
Въезжаем в чуждую страну...
Бежать нельзя: вокруг винтовки
Мир заключён, но мы в плену.
Так произошло прощание с отчизной, без ненужных сантиментов и обличений, несмотря на соответствующие аллюзии: «Прощай, немытая Россия», «ужасный век», «ужасные дороги». Изменилось не только географическое положение, но и государственная принадлежность поэта. По Брестскому миру, сепаратно заключённому советской Россией с Германией 3 марта 1918 года, Эстония перестала быть её частью. Независимость была провозглашена ещё раньше – 24 февраля, немецкие войска оккупировали эстонскую территорию, установив для приезжающих из России карантин, вследствие чего Северянин был задержан.
И всё-таки Северянин въезжал в Эстонию королём поэтов. Это была самая настоящая, несколько актёрская слава. Интерес к поэзии Игоря Северянина стал знаком времени, недаром Корней Чуковский писал своему коллеге С. М. Боткину ещё в сентябре 1913 года: «А у нас ведь много общего... оба больше всего любим литературу, искусство – оба живём на берегу Финского залива и оба упиваемся Игорем Северяниным».
«Чем нас тогда прельщал Северянин?» – задавал вопрос Арсений Формаков. И отвечал: «Прежде всего, конечно, непохожестью на других. Своеобразием напевной речи, свежестью, простотой и сердечностью. Наряду с этим были звонкость, бравада, ораторский пафос, формальное мастерство, многие из пущенных им в ход стихотворных ритмов и интонаций живы до сих пор».
Немало критических откликов и мемуарных сюжетов вызвали стихотворные манифесты Игоря Северянина «Пролог. “Эго-футуризм”» и «Эпилог. “Эго-футуризм”». Зинаида Гиппиус сочла, что первой строфой и, особенно, первой строчкой «Эпилога» – «Я гений Игорь Северянин» – он «не преминул вынести на свет Божий и определить так наивно-точно, что лучше и выдумать нельзя», «центральное брюсовское, страсть, душу его сжегшую. <...> Брюсовское “воздыхание” всей жизни преломилось в игоревское “достижение”. Нужды нет, что один только сам Игорь и убеждён, что “достиг”. Для “упоенного своей победой” нет разницы, победой воображаемой или действительной он упоен».
Виктор Ховин, который выступал с докладами на поэзоконцертах Северянина, заметил: «“Я одинок в своей задаче”, – пишет Игорь Северянин, – и это не только выражение личного настроения поэта, а действительно верность художественной совести, не искушённой доктринёрством, вера в благословенную, божественную интуицию».
Но титул короля поэтов был не только заслужен им, – Северянин и позже оставался королём поэтов, с ним считались как с королём, им восхищались как королём, его ниспровергали как короля...
В ревельской газете «Последние известия» в отчёте о «первой гастроли» Игоря Северянина в Эстонии иронически замечали: «Даже для Царей поэзии нет особенного пути в наши демократические дни “революционного периода искусства”. <...> Поэт был-таки поднят “народом на щит” – публика отдала ему должное».
Северянин уехал, но продолжал незримо присутствовать и по другую сторону новой границы, в российском культурном пространстве. Чуковский в дневнике 3 января 1920 года записал: «Мережковские уехали. Провожал их на вокзал Миша Слонимский. Говорит, что их отъезд был сплошное страдание. Раньше всего толпа оттеснила их к разным вагонам – разделила. Они потеряли чемоданы. До последней минуты они не могли попасть в вагоны... Мережк[овский] кричал:
– Я член совета... Я из Смольного!
Но и это не помогало. Потом он взвизгнул: Шуба! – у него, очевидно, в толпе срывали шубу.
Вчера Блок сказал:
– Прежде матросы б[ыли] в стиле Маяковского.
Теперь их стиль – Игорь Северянин».
В зарубежье Игорь Северянин много работал, писал не только поэзы, но преуспел в сложных стихотворных формах, изобретателем многих был сам, о чём подробно рассказал в «Теории версификации». Его автобиографические романы «Роса оранжевого часа», «Падучая стремнина», «Колокола собора чувств» нашли и заинтересованного читателя, и «иронящую» критику. Встречавшийся с поэтом во время его поездок по Югославии Василий Витальевич Шульгин вспоминал: «В эту свою пору он как бы стыдился того, что написал в молодости; всех этих “ананасов в шампанском”, всего того талантливого и оригинального кривлянья, которое сделало ему славу. Славу заслуженную, потому что юное ломанье Игоря Северянина было свежо и ароматно. Но прошли годы: он постарел, по мнению некоторых, вырос – по мнению других. Ему захотелось стать “серьёзным” поэтом; захотелось “обронзить свой гранит” [выражение Василия Шульгина]».
Сам от себя – в былые дни позёра,
Любившего услад душевных хмель —
Я ухожу раз в месяц на озёра,
Туда, туда – «за тридевять земель»...
Почти непроходимое болото.
Гнилая гать. И вдруг – гористый бор,
Где сосны – мачты будущего флота —
Одеты в несменяемый убор...
«К смиренью примиряющей воды», к «соловьям монастырского сада», к мечте о «воспрявшей России», к «любви коронной» обращается Северянин. Он обрёл то «лёгкое и от природы свободное дыхание», которое, как отмечал Николай Оцуп, редко встретишь у современных поэтов. По воспоминаниям Арсения Формакова, известно, в каком порой тяжёлом состоянии находился поэт за границей:
«В ту пору – регулярно раз в год, обычно зимой, Северянин уезжал в Европу, зарабатывая чтением стихов и изданием своих книг, где и как мог. Приходится только удивляться, как это ему удалось – при тогдашнем состоянии русских книгоиздательств за рубежом – всё-таки вы выпустить в свет семнадцать сборников своих поэз. <...> По всему было видно, что в материальном отношении ему живётся трудно, и даже очень. Сначала, как новинка, его поэзовечера в Прибалтике и Польше имели некоторый успех. Потом он стал выступать в рижских кинотеатрах, в дивертисментах между сеансами, что тогда было в моде. Старался “сохранить лицо”, требовал, чтобы вместе с ним не выступали фокусники или развязные певички. Вскоре, однако, отпала и эта возможность заработка».
Первый год, проведённый в Тойле в статусе постоянного жителя, был для Северянина тяжёлым испытанием. Он осознавал себя в «добровольном изгнании»:
Вот год я живу, как растенье,
Спасаясь от ужасов яви,
Недавние переживанья
Считая несбыточным сном.
Печально моё заточенье,
В котором грущу я по славе,
По нежному очарованью
В таком ещё близком былом...
(«Элегия изгнания», 1918)
К ностальгии присоединялись вполне реальные трудности оккупационного режима, а с уходом немецкой армии – военного положения в Эстонии до 1920 года. В конце ноября 1918 года Красная армия начала наступление и формально установила на значительной части территории Эстонии (в том числе и в Тойле) советскую власть. Она продержалась до февраля 1919 года. В этих обстоятельствах, окружённый беспомощными женщинами, не привыкший добывать средства к жизни иначе как поэтическим словом, Северянин даже в знакомой Тойле чувствовал себя оторванным от мира, заброшенным на необитаемый остров. Подобно Робинзону он писал записки с координатами своей хижины, переписывал несколько стихотворений для печати и рассылал на авось во все стороны света – от Риги до Нью-Йорка. Ответов не было и не могло быть – его адресаты и сами ещё не ощутили твёрдую почву под ногами – эмиграция только начиналась.
В Эстонском литературном музее (Тарту) среди уникальных материалов хранится записная книжка Северянина, по существу – конторская тетрадь. На одной из страниц едва прочитываются строки поэтического черновика:
Я мог родиться только в России
Во мне всё русское сочеталось:
Религиозность, тоска, мятеж,
Жестокость, нежность, порок и жалость,
И безнадёжность, и свет надежд.
В той же книге длинными столбцами записаны необходимые запасы на зиму, без чего не прожить ни семье, ни дворовой собаке... Подсчитывать на тех же страницах расходы и намечать строчки о «розах и кремозах», – снобы и раньше презирали эту северянинскую всеприемлемость. Детский талант, по глубокому определению Блока, защищал его сказочный мир.
Когда в ноябре 1919 года в Тойлу приехал Сергей Положенский, ему вновь предстал король поэтов. «...При ближайшем знакомстве (одно время мы жили с ним на одной квартире) он предложил мне вступить в его свиту как короля поэтов. До сих пор в его свите состояли: Принц Лилий – Александр Карлович фон-Эссен, Принц Сирени – Борис Николаевич Башкиров и Принц Нарциссов – Борис Васильевич Правдин. Предложил мне выбрать цветок. Я, конечно, выбрал розу».
Но Северянин ясно представлял, что необходимо врастать в новую почву, налаживать связи с эстонскими литераторами и теми русскими жителями, которые могли стать его потенциальными читателями и слушателями. Здесь не было такого антрепренёра, как Фёдор Евсеевич Долидзе, устроителя поэзоконцертов и турне, приходилось действовать самому. Вначале Северянин познакомился с Генриком Виснапу (в современной транскрипции – Хенрик Виснапуу), и в его переводе уже в сентябре 1918 года были опубликованы три стихотворения Северянина на эстонском языке, в том числе «Весенний день».
Северянин передач эстонскому издательству «Одамеэс» рукописи поэтических книг «Puhajogi» и «Creme des Violettes». Это был почти единственный его заработок. В письме редактору журнала «Русская книга» Александру Семёновичу Ященко от 20 декабря 1920 года поэт признавался:
«Если я до сих пор жив, то только благодаря чуткой Эстии; эстонский издатель выпустил три книги моих стихов, эстонская интеллигенция ходит на мои вечера (1—2 раза в год), крестьяне-эстонцы дают в кредит дрова, продукты. Русские, за редкими исключениями, в стороне. А русские издатели (заграничные, т. к. в Эстии их вовсе нет) совсем забыли о моём существовании, напоминать же им о себе я не считаю удобным».








